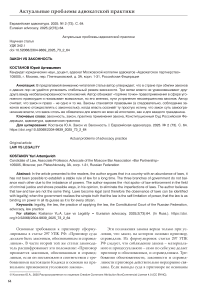Закон vs Законность
Автор: Костанов Ю.А.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Актуальные проблемы адвокатской практики
Статья в выпуске: 2 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
В предлагаемой вниманию читателей статье автор утверждает, что в стране при обилии законов с давних пор не удаётся установить стабильный режим законности. Три ветви власти не уравновешивают друг друга ввиду несбалансированности полномочий. Автор обнажает «горячие точки» правоприменения в сфере уголовного правосудия и показывает возможные, по его мнению, пути устранения несовершенства законов. Автор считает, что закон и право – не одно и то же. Законы становятся правовыми (а следовательно, соблюдение законов можно отождествлять с законностью), когда власть осознаёт ту простую истину, что закон суть самоограничение власти, что закон столь же обязателен для власти во всех её ипостасях, как и для каждого гражданина.
Законность, закон, практика применения закона, Конституционный Суд Российской Федерации, адвокатура, адвокатская практика
Короткий адрес: https://sciup.org/140309890
IDR: 140309890 | УДК: 342.1 | DOI: 10.52068/2304-9839_2025_73_2_64
Текст научной статьи Закон vs Законность
Основные требования к приговору сформулированы в статье 297 УПК РФ: «Приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым». В части второй той же статьи законодатель расшифровывает это положение: «Приговор признается законным, обоснованным и справедливым, если он постановлен в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и основан на правильном применении уголовного закона».
Эти положения закона верны только при условии, что закон, на котором основан приговор, справедлив. Из формулировок статьи 297 УПК РФ следует, что соблюдение закона – материального и процессуального – само по себе уже делает приговор и обоснованным, и справедливым. Требования обоснованности, законности и справедливости приговора действительно неразрывно связаны. Если выводы суда в приговоре не основаны
на материалах дела, то приговор не может быть законным и справедливым. Если приговор постановлен с нарушением закона, то он не может считаться обоснованным и справедливым. Наконец, несправедливый приговор не может быть ни обоснованным, ни законным [1]. Но при всём при этом они не могут быть отождествлены; по крайней мере, два из этих трёх требований – обоснованность и справедливость – имеют некоторые особенности.
Прежде всего следует отметить, что справедливость приговора, справедливость правосудия является ключевым требованием к правосудию в целом, ибо несправедливое правосудие – это не правосудие, а произвол. Прямого определения справедливости УПК РФ не содержит, однако что именно, с точки зрения законодателя, следует понимать под справедливостью, не сложно вывести из нормы о несправедливости приговора как основания для его отмены или изменения судом второй инстанции (часть вторая статьи 389.18 УПК РФ): «Несправедливым является приговор, по которому было назначено наказание, не соответствующее тяжести преступления, личности осуждённого, либо наказание, которое, хотя и не выходит за пределы, предусмотренные соответствующей статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации, но по своему виду или размеру является несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости, так и вследствие чрезмерной суровости». Не оспаривая этого положения, полагаю необходимым отметить его явную неполноту. Прежде чем проверять соразмерность наказания, необходимо убедиться в том, что наказан действительно виновный, наказание невиновного справедливым быть не может.
Под обоснованностью приговора в практике правоприменения понимается наличие в деле доказательств, подтверждающих выводы суда, изложенные в приговоре, что, по мнению большинства судей судов кассационной инстанции, почти всегда делает несовместимой проверку законности приговора с проверкой его обоснованности. Отказ судьи суда кассационной инстанции в передаче кассационной жалобы на рассмотрение в судебном заседании суда кассационной инстанции, равно как и отказ суда кассационной инстанции в удовлетворении жалобы (представления), часто и бывает мотивирован тем, что суд кассационной инстанции в соответствии со ст. 401.1 УПК РФ проверяет только законность приговора, а проверка его обоснованности в задачи суда кассационной инстанции якобы не входит. Это утверждение верно, но только отчасти. Статья 401.1 УПК РФ столь жёстких ограничений компетенции суда кассаци- онной инстанции не содержит. Такое понимание искусственно сужает пределы компетенции суда кассационной инстанции. Во-первых, потому что требование о приведении в приговоре доказательств, на которых основаны выводы суда, и мотивов, по которым суд отверг другие доказательства, – это требование закона, а значит проверка исполнения этого требования за пределы проверки законности приговора не выходит. Во-вторых, получение и оценка доказательств урегулированы законом, и не существует норм, исключающих право суда кассационной инстанции проверять законность приговора с точки зрения соблюдения норм о допустимости доказательств, равно как и норм о соблюдении процедурных правил оценки полученных доказательств. Да, оценка достоверности доказательств – прерогатива судов первой и апелляционной инстанций, но путь, по которому эти суды приходят к своим выводам о достоверности / недостоверности, прокладывается по определённым правилам. Соблюдение этих правил входит в предмет судебного разбирательства в кассационной инстанции.
Выводы об обоснованности и справедливости приговора не могут быть сделаны только лишь в результате проверки соблюдения установленных законом процедурных правил о способах и порядке получения и оценки доказательств или о соблюдении норм, определяющих выбор, порядок применения того или иного вида наказания, сложения наказаний и определения срока назначенной к отбытию меры наказания (в случаях, когда наказание носит срочный характер) либо размеров взыскиваемых штрафных сумм. Критерии обоснованности и справедливости приговора носят субъективно-оценочный характер, зависят от жизненного опыта, житейской мудрости судьи, его образованности, условий воспитания, социальных привычек и ряда других факторов, исчерпывающий перечень которых вряд ли возможен.
Оценки достоверности доказательств и справедливости наказания не могут быть жёстко формализованы, они часто алогичны. Почему присяжные поверили одному человеку и не поверили другому, показавшемуся им менее искренним и симпатичным, почему судья назначил подсудимому то или иное наказание, как правило, понять невозможно (что, кстати, делает фактически невозможной замену судей машинами с искусственным интеллектом).
Когда в УК РСФСР появилась статья 93.1, санкция которой предусматривала возможность применения за хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах смертной казни, один из судей, вынесший смертный приговор пожилому и страдавшему множеством старческих недугов торговому работнику, так объяснил своё решение одному из коллег, с которым позволял себе быть откровенным и который упрекнул его в жестокости: если бы он осудил этого немощного старика к лишению свободы, тот бы там долго не выдержал. Требования закона соблюдены, но стал ли приговор от этого справедливым?
Другой пример из судебной практики тех же времён. В период уборки нового урожая каждый год в России принимались меры к ужесточению судебной практики по уголовным делам о хищениях сельхозпродукции нового урожая. Такие дела старались рассматривать в выездных судебных заседаниях непосредственно в том хозяйстве, в котором было совершено хищение, а для придания особого значения делу его мог рассмотреть по первой инстанции и областной суд. В конце 70-х годов уже прошлого века Ростовский областной суд рассмотрел в выездном заседании в совхозном клубе уголовное дело о краже нескольких десятков килограммов пшеницы, совершённой двумя скотниками того совхоза, в клубе которого заседал суд. Председательствовал в процессе сам председатель областного суда, государственное обвинение поддерживал прокурор области лично. Дело рассматривалось с участием народных заседателей областного суда, уже участвовавших в том году в рассмотрении областным судом уголовных дел по первой инстанции. Прокурор требовал приговорить подсудимых к нескольким годам лишения свободы. Всё шло как по накатанному пути, но неожиданно суд «застрял» в совещательной комнате на несколько часов. В конце концов они вышли в зал, и председательствующий огласил приговор: по полтора года лишения свободы условно. Заминка произошла от того, что председательствующий долго и безуспешно пытался убедить заседателей в необходимости строго наказать подсудимых. А заседатели с этим не соглашались и были непреклонны: для них, ранее участвовавших в рассмотрении областным судом уголовных дел об особо крупных хищениях, кража мешка пшеницы стоимостью менее сотни рублей не представлялась преступлением такой тяжести, которое заслуживало бы наказания в виде реального лишения свободы. Приговор этот прокурором был опротестован и Верховным Судом РСФСР за мягкостью отменён, а дело направлено для рассмотрения в районный суд по подсудности, поскольку уборочная страда к тому времени уже закончилась. Приговор, вынесенный районным судом с участием народных за- седателей (единоличного рассмотрения уголовных дел судьями тогда не существовало), был иным: по два года лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Для судьи районного суда и народных заседателей, неоднократно рассматривавших уголовные дела о хищениях имущества гораздо меньшей стоимости, реальное лишение свободы в данном случае являлось вполне приемлемым и справедливым наказанием.
Норм, позволяющих суду кассационной инстанции признать необоснованный приговор законным, не существует. Законность приговора предполагает, что он вынесен с соблюдением норм материального и процессуального права. При этом под нормами процессуального права понимаются как нормы о правах и обязанностях участников судопроизводства, так и нормы процедурного характера о способах, порядке получения и оценке доказательств. Должно быть признано недопустимым, например, заключение эксперта, если при назначении экспертизы обвиняемому и его защитнику не была предоставлена возможность, ознакомившись с постановлением следователя, заявить ходатайство о включении в постановление новых вопросов о поручении производства экспертизы другому эксперту и т. п. (ст. 198 УПК РФ). Удовлетворение такого ходатайства могло бы привести к другим выводам эксперта (и далее – к другому результату по делу). Поэтому нарушения такого рода являются основанием для отмены приговора.
Анализ опубликованных решений кассационных судов общей юрисдикции и Верховного Суда РФ свидетельствует о том, что причиной отмены приговоров и иных судебных решений по уголовным делам часто являются нарушения процессуальных норм о получении и оценке доказательств, в том числе о нарушении прав участников судопроизводства при получении доказательств.
К нарушениям норм об обоснованности приговора следует отнести и случаи несоответствия выводов суда в приговоре тем доказательствам, которые были исследованы в судебном заседании, особенно когда судом в приговоре при описании доказательств, якобы подтверждающих вывод о виновности осуждённого, искажается содержание этого доказательства.
Так, по делу о признании террористическими пятнадцати исламских организаций, в том числе партии «Хизб ут Тахрир аль Ислами» (признана террористической и запрещена решением Верховного Суда РФ), в качестве доказательства ее террористической деятельности фигурировал список признанных террористическими шести общественных организаций, подготовленный Государственным департаментом США и утверждённый Конгрессом США, причем партия «Хизб ут Тахрир аль Ислами» в этом списке вообще не упоминалась (что, тем не менее, не помешало суду признать эту партию террористической при отсутствии других доказательств!).
По нескольким уголовным делам о повторном проведении массовых публичных акций (ст. 212.1 УК РФ), рассмотренным судами Москвы в 2018– 2021 гг., доказательством виновности подсудимых в организации и проведении публичных акций признавались показания задерживавших их полицейских о том, что эти лица находились среди участников публичной акции (демонстрации или митинга). Участие в демонстрации или митинге – это не организация и не проведение этой акции, а в показаниях полицейских никаких сведений о действиях, которые могли быть квалифицированы как организация или проведение публичных акций, не содержалось.
Для проверки законности приговора субъективно-оценочные методы не применяются, вывод о соблюдении закона в ходе расследования или судебного рассмотрения дела должен быть однозначным. Не может быть приговор более или менее законным. Законность не знает степеней.
Требование законности судопроизводства означает прежде всего, что все действия и решения осуществляющих судопроизводство органов и должностных лиц должны соответствовать закону, в противном случае приговор подлежит отмене. Каждый отраслевой кодекс приоритетен в своей сфере правового регулирования. Соответственно Уголовно-процессуальный кодекс РФ приоритетен при осуществлении правосудия по уголовным делам. В случае выявления в ходе расследования либо рассмотрения дела судом противоречия между УПК и иным нормативным актом того же уровня применению подлежит УПК.
Как указано в частях первой и второй статьи 7 УПК РФ, суд, прокурор, следователь, орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель не вправе применять федеральный закон, противоречащий УПК РФ. В случае обнаружения в ходе судебного разбирательства несоответствия федерального закона УПК РФ суд обязан применять УПК РФ.
Здесь нужно сделать небольшую оговорку. УПК в своей сфере регулирования приоритетен, но приоритетен только по отношению к нормативно-правовым актам такого же или более низкого уровня. Конституционный Суд РФ в поста- новлении от 29 июня 2004 года № 13-П, определяя конституционно-правовой смысл положений частей первой и второй статьи 7 УПК, указал: «положения частей первой и второй статьи 7 УПК Российской Федерации – по своему конституционно-правовому смыслу в системе норм – не затрагивают определенную Конституцией Российской Федерации иерархию нормативных актов в правовой системе Российской Федерации и не предполагают распространение приоритета Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации на разрешение возможных коллизий между ним и какими бы то ни было федеральными конституционными законами, а также между ним и международными договорами Российской Федерации. Если же в ходе производства по уголовному делу будет установлено несоответствие между федеральным конституционным законом (либо международным договором Российской Федерации) и Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (который является обычным федеральным законом), применению – согласно статьям 15 (часть 4) и 76 (часть 3) Конституции Российской Федерации – подлежит именно федеральный конституционный закон или международный договор Российской Федерации как обладающие большей юридической силой по отношению к обычному федеральному закону». УПК РФ «устанавливает порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации, будучи обычным федеральным законом, не имеет преимущества перед другими федеральными законами с точки зрения определенной непосредственно Конституцией Российской Федерации иерархии нормативных актов. В отношении федеральных законов как актов одинаковой юридической силы применяется правило «lex posteriori derogat priori» («последующий закон отменяет предыдущие»), означающее, что даже если в последующем законе отсутствует специальное предписание об отмене ранее принятых законоположений, в случае коллизии между ними действует последующий закон; вместе с тем независимо от времени принятия приоритетными признаются нормы того закона, который специально предназначен для регулирования соответствующих отношений».
Таким образом, в случаях, когда (если) обнаружится расхождение между нормами УПК и нормами Конституции, всё-таки подлежат применению нормы Конституции как акта высшей юридической силы и прямого действия. Например, в соответствии с частью второй статьи 50 Конституции РФ недопустимыми признаются доказательства, полученные с нарушением любого федерального закона, тогда как в соответствии с частью третьей статьи 7 и статьёй 75 УПК РФ доказательство признается недопустимым, если оно получено с нарушением не любого закона, а с нарушением требований только норм УПК. Однако в любом случае приоритетной является норма части второй статьи 50 Конституции.
В части четвёртой статьи 7 УПК РФ закреплено правило, согласно которому требование законности распространяется на определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, органа дознания, вынесенные в ходе уголовного судопроизводства. При этом требование законности по буквальному смыслу этой нормы включает в себя и требование обоснованности, и требование мотивированности принятого решения. Мотивированность решения означает обязанность участников судопроизводства, включая суд, приводить в определении или постановлении мотивы, по которым был избран тот или иной вариант этого решения, т. е., по существу, его обоснование.
Обеспечение законности в уголовном судопроизводстве напрямую зависит от законов – какие законы, такая и законность. Своими законами руководствовались и судьи Третьего рейха. На основании действовавших тогда законов осуществлялось большинство злодеяний Большого террора в СССР в 30–40-х годах прошлого века.
Реабилитация жертв Большого террора (расстрелянных и оставленных в живых, прошедших через рудники и лесоповал ГУЛАГа) называлась восстановлением законности. Однако репрессии тоже ведь проводились под знаменем социалистической законности. Неужели кто-нибудь всерьёз считает, что в стране можно было без разработанной системы законов создать обширный репрессивный аппарат и сеть концлагерей, перемалывавших миллионы людей, депортировать целые народы за тысячи километров от родного дома, осуществлять другие грандиозные планы? Мало кто отважится называть эти годы эпохой торжества законности (даже социалистической). Из этого непреложно следует, что наличие законов само по себе для реализации законности как принципа, как режима государства ещё недостаточно. Для обеспечения верховенства права необходимо, чтобы законы были олицетворением права. Законы об организации внесудебной репрессии (о создании «троек», «двоек», Особых совещаний и порядке исполнения их приговоров (постановлений)), о рассмотрении Военной коллегией Верховного суда уголовных дел без участия сторон и без права обжалования, об организации ГУЛАГа и о содержании там заключённых и мно- 68
гом другом, обеспечивающем функционирование системы, разумеется, были. Законы были, а законности не было. Закон и право – не одно и то же. Законы становятся правовыми (а следовательно, соблюдение законов можно отождествлять с законностью), когда власть осознаёт ту простую истину, что закон суть самоограничение власти, что закон столь же обязателен для власти во всех её ипостасях, как и для каждого гражданина.
Законы, принимаемые Государственной Думой в течение всего периода с момента принятия УК и УПК РФ, зачастую неудачны по формулировкам, плохо согласуются друг с другом и принятыми ранее законами, действующими в той же сфере правового регулирования. Внесённые в УК РФ дополнения и изменения фактически разрушили сбалансированность санкций статей Особенной части Кодекса.
Восстановлено памятное ещё по УК РСФСР 1926 года «дробление» составов, когда рядом с основной статьёй Особенной части появляются новые статьи с тем же номером, но уже с цифровым индексом. В большинстве случаев эти усовершенствования вредны, поскольку усложняют, а иногда и запутывают правоприменителя. Так, наряду со статьёй 159 УК РФ появилось ещё шесть 159х статей: от 159.1 до 159.6, предусматривающих уголовную ответственность за различные виды мошенничества; наряду со статьёй 205 УК РФ появилось тоже шесть новых – от 205.1 до 205.6, предусматривающих уголовную ответственность за различные виды причастности к террористической деятельности. Законодатели всё равно не смогут угнаться за развитием криминальных идей – появлением новых способов совершения преступлений и новых вариантов соучастия. Будучи остро озабочены стремлением показать своё рвение в борьбе с захлёстывающей общество преступностью, но не будучи знакомы с действующим законодательством и практикой его применения, они соревнуются друг с другом в создании всё новых составов преступлений и ужесточении санкций в уже существующих статьях Особенной части УК.
Что написано пером, того не вырубишь топором. Dura lex – sed lex.
Закон следует исполнять буквально, независимо от того, нравится он правоприменителю или нет. Исполнять так, как он написан. А написан он должен быть так, чтоб его нельзя было перетолковать.
Между тем Дума продолжает формировать неконституционные нормы. К существующим нормам о признании во внесудебном порядке иноагентами общественных деятелей и общественных организаций, о блокировке банковских счетов добавились нормы о признании иноаген-тами физических лиц и о приостановлении выпуска СМИ по решению прокурора.
Всё живое стремится к экспансии. Власть тоже всегда стремится к расширению объёма и сроков полномочий. Это, безусловно, требует наличия системы сдержек и противовесов – той системы, которую в России создать так пока и не удалось. Это грустное обстоятельство обусловливает отсутствие стабильной базы законов, без которой выполнение задачи обеспечения режима законности в стране становится крайне затруднительным. Затруднительным, но не невозможным.
Древние римляне считали, что для блага государства нужны две вещи: хорошие законы и чтоб они исполнялись.
Трактовать законность приговора только как его соответствие законам, по-видимому, было бы неверно. Необходимо ещё учитывать и соответствие самих применённых при вынесении приговора законов Конституции России, общепринятым нормам международного права, практику ЕСПЧ и Комитета по правам человека ООН, памятуя, что первая и вторая главы Конституции о правах и обязанностях граждан в 2020 году изменениям и дополнениям не подвергались.
По замыслу творцов Конституции главным радетелем высшей юридической силы и прямого действия Конституции должен быть Конституционный Суд Российской Федерации.
Законом (часть первая статьи 8 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ) установлено, что судьей Конституционного Суда Российской Федерации может быть назначен не всякий юрист, но только юрист, «обладающий признанной высокой квалификацией в области права». Признанная высокая квалификация в области права» чаще всего определяется наличием у юриста учёной степени по юридической специальности. Так или иначе, но судьи Конституционного Суда сегодня все как один доктора юридических наук. Да и раньше наличие у судьи Конституционного Суда всего лишь кандидатской степени было редким исключением. Нет сомнений, доктор юридических наук, как правило, обладает высокой квалификацией. Но юридических специальностей существует как минимум столько же, сколько отраслей права, а научных школ и направлений вообще великое множество. Эпоха единомыслия, когда общепризнанность высокой квалификации определялась по числу цитат из работ классиков марксизма, закончилась.
Конституционный Суд состоит из 11 судей. Однако это количество, пусть даже самых высококвалифицированных юристов страны, не дает оснований считать, что там представлены все отрасли права и научные направления. Конституционный Суд по своему месту в системе властных структур, якобы призванных уравновешивать друг друга, оказался выше всех других ветвей власти: КС проверяет на соответствие Конституции любые законы и иные нормативно-правовые акты, принятые Президентом, Госдумой, Советом Федерации, Правительством России и органами власти субъектов Российской Федерации. В соответствии со статьёй 6 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» его решения «обязательны на всей территории Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений». Более того, органы, издавшие нормативно-правовые акты, признанные Конституционным Судом полностью или частично не соответствующими Конституции, обязаны такие акты отменить либо привести в соответствие с позицией Конституционного Суда, либо привести практику их применения в соответствие с конституционно-правовым смыслом в толковании Конституционного Суда.
В соответствии со статьёй 79 того же закона «Решение Конституционного Суда Российской Федерации действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами. Юридическая сила постановления Конституционного Суда Российской Федерации о признании акта неконституционным не может быть преодолена повторным принятием этого же акта».
Несменяемость судей Конституционного Суда, запрет на опубликование их особых мнений, невозможность обжалования решений делает их недоступными для оценки общественным мнением, в том числе в научных кругах, освобождает от критики со стороны, в том числе, юридической общественности – тех, кто обладает «признанной высокой квалификацией в области права», а таковых в России значительно больше 11 человек. Уже этот неполный перечень статусных полномочий судей Конституционного Суда позволяет считать его положение в системе государственных органов исключительным. Это способствует появлению завышенных самооценок и ощущения вседозволенности, что в 1993 году привело к попытке Конституционного Суда взять на себя не свойственную ему функцию посредничества между президентом Б.Н. Ельциным и Верховным советом, закончившуюся приостановлением деятельности Конституционного Суда по указу президента (тоже вышедшего за пределы своей компетенции).
Конституционный Суд в некоторых случаях принимал решения, выходящие за пределы его полномочий. Так, в 2008 году Конституционный Суд признал статью 66 УК РФ соответствующей Конституции и одновременно в том же постановлении признал эту статью УК не подлежащей применению (Определение КС РФ от 21.09.2008 № 489-О). Федеральный Конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» предоставил Конституционному Суду РФ право признавать не подлежащими применению только неконституционные нормативно-правовые акты. Права признавать не подлежащими применению акты, соответствующие Конституции, не дано никому.
Положения законодательства о юридической силе решений Конституционного Суда, определяющие его общеобязательный характер, фактически неосновательно допускают исключения. Так, признание закона противоречащим Конституции означает, что этот закон утрачивает силу. В соответствии со статьей 100 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», если Конституционный Суд Российской Федерации принял постановление о признании оспариваемого закона неконституционным, конкретное дело, в котором был применен этот нормативный акт, подлежит пересмотру в обычном порядке не всегда, а только лишь «при условии, что в постановлении содержится указание на необходимость такого пересмотра». То есть решение по конкретному делу, принятое на основании не соответствующего Конституции закона и потому также противоречащее Конституции, подлежит пересмотру не вследствие своей неконституционности, а только если Конституционный Суд признает это необходимым. Таким образом, в каждом конкретном случае неконституционный закон продолжает действовать, ибо отказ в пересмотре дела, решение по которому вынесено на основании неконституционного закона, означает непризнание этого закона не подлежащим применению в данном деле. То есть акт, принятый в нарушение Конституции в конкретном деле, утрачивает силу не потому, что он противоречит Конституции, не в связи с его неконституционностью, не в связи с имманентно присущим ему неправовым характером, а по воле Конституционного Суда, который, 70
оказывается, может и не признать неконституционный закон не подлежащим применению в конкретном деле. Такой разрыв между признанием нормы не соответствующей Конституции и одновременным признанием решения, основанного на этой норме, подлежащим применению противоречит признанию Конституции актом высшей юридической силы и прямого действия, является одним из факторов, препятствующих обеспечению режима законности в стране.
Признание за Конституционным Судом права не считать противоречащий Конституции акт не подлежащим применению (ergo, следуя правилам формальной логики: считать неконституционный закон подлежащим применению) на самом деле не усиливает, а ослабляет авторитет Конституционного Суда, его роль в системе органов государственной власти. Способность судебной власти выполнять свою уравновешивающую функцию в системе противовесов трёх ветвей власти определяется именно способностью отменять, т. е. признавать не подлежащими применению решения органов власти двух других её ветвей. Не признавая не подлежащими применению противоречащие Конституции законы, Конституционный Суд не только, как теперь говорят, обнуляет значение Конституции как закона высшей юридической силы, подлежащего непосредственному применению, но и лишает реального содержания возложенную на него функцию высшего судебного органа конституционного контроля.
Вынесение Конституционным Судом постановления о признании закона не соответствующим Конституции по российскому процессуальному законодательству является основанием для пересмотра вступивших в законную силу судебных решений как по уголовным, так и по гражданским делам. В обоих случаях основанием для пересмотра признаётся не обнаружившаяся не-конституционность закона, на котором основано подлежащее пересмотру решение, а вынесение Конституционным Судом постановления об этом. Из этого следует, что оценка конституционности применяемого закона выводится из юрисдикции общих судов. УПК РФ в пункте первом части четвёртой статьи 413, а ГПК РФ в пункте третьем части четвёртой статьи 392 признают постановление Конституционного Суда о неконституцион-ности применённого закона новым обстоятельством, т. е. обстоятельством, неизвестным суду при вынесении приговора или решения. Таким образом, законодатель признаёт, что судьи судов общей юрисдикции вершат правосудие, не овладев знанием конституционных норм.
В дальнейшем соответствующий суд, которым может оказаться и суд, вынесший приговор или иной судебный акт, уже признанный Конституционным Судом подлежащим пересмотру, принимает решение о пересмотре либо об отказе в пересмотре дела. В результате нормы Конституции начинают действовать не непосредственно, а лишь после двухступенчатого судебного подтверждения, и юридическая сила норм Конституции оказалась не выше юридической силы этих судебных подтверждений.
Так, президиум Верховного Суда РФ отказал в пересмотре уголовного дела осуждённого к смертной казни Филатова, несмотря на указание в решении Конституционного Суда по его жалобе о пересмотре его дела. Это тот самый Филатов, по чьей жалобе было вынесено решение о моратории на смертную казнь. Случилось так, что в то время, когда его жалоба находилась на рассмотрении Конституционного Суда, президентом РФ Б.Н. Ельциным Филатову смертная казнь в порядке помилования была заменена пожизненным лишением свободы. Уголовным кодексом РСФСР в редакции, действовавшей на момент совершения преступления, за которое наказан Филатов, была предусмотрена замена смертной казни в порядке помилования лишением свободы на срок не более 20 лет. Заменив своим указом назначенную по приговору смертную казнь пожизненным лишением свободы, Б.Н. Ельцин нарушил нормы Конституции о неприменении обратной силы закона, более сурового, чем действовавший на момент совершения преступления, и норму Конституции о недопустимости издания президентом указов, противоречащих федеральным законам. Верховный Суд отказался пересматривать приговор, сославшись на то, что раз благодаря указу президента о помиловании жизнь была Филатову сохранена, то пересматривать приговор нет необходимости. В ходе дальнейшего обжалования Филатову и его защитникам было отказано по тем основаниям, что институт помилования не является институтом уголовного права, и потому президент РФ якобы не связан нормами уголовного законодательства. К этой позиции, высказанной администрацией президента, присоединился не только Верховный, но и Конституционный суд РФ, решившие не возражать администрации президента.
Нельзя не отметить, что решения о несоответствии Конституции нормы УК РСФСР о помиловании в установленном порядке не принималось, и, более того, в действующий Уголовный кодекс Российской Федерации включена норма о помиловании, которое осуществляется «Президентом
Российской Федерации в отношении определённого лица», причём указано, что актом о помиловании осуждённый может быть освобождён от наказания; назначенное ему наказание может быть смягчено или заменено более мягким (статья 85 УК РФ). У разработчиков Кодекса и законодателя не возникло сомнений по поводу включения в УК нормы, содержащей институт, якобы не являющийся институтом уголовного законодательства.
Не исполнять указания Конституционного Суда о пересмотре дела позволяет себе не только Верховный Суд, но и суды, находящиеся на значительно более низкой ступеньке иерархии судебной власти. Так, по жалобе одной из государственных служащих – инспектора налоговой службы, уволенной за нарушение служебной тайны, состоящее в обращении к министру финансов (т. е. главе этой службы) по поводу нарушений правил оплаты сверхурочных работ, Конституционный Суд признал не соответствующими Конституции отдельные положения федерального закона о государственной службе. В определении Конституционного Суда было указано, что решение суда об отказе в удовлетворении иска о восстановлении на работе и признании увольнения незаконным подлежит пересмотру. Районный суд в пересмотре дела отказал в полном соответствии с нормами ГПК.
Как читатель, должно быть, понимает, такие случаи не единичны.
Проверка конституционности действующего нормативно-правового акта – это последующий судебный конституционный контроль. С 2020 года на Конституционный Суд возложена ещё и предварительная проверка конституционности нормативно-правовых актов: в Конституцию России внесена норма, предоставившая президенту РФ право направлять Конституционному Суду запрос о даче заключений о конституционности законопроектов, принятых Госдумой, одобренных Советом Федерации, но ещё не подписанных президентом. Соответственно, Конституционный Суд получил право проверять такие законопроекты на их соответствие Конституции. Это полномочие, на первый взгляд, расширяет компетенцию Конституционного Суда. На самом деле предварительная проверка конституционности нормативно-правовых актов выводит эти акты из-под контроля Конституционного Суда. Если Конституционным судом ранее уже была дана оценка конституционности нормативно-правового акта, то КС связан своей позицией и повторно рассматривать вопрос о конституционности того же акта, хотя и получившего статус закона, в том же составе судей не должен. Принимать участие в рассмотрении обращения по поводу сомнения в конституционности закона не могут судьи, принимавшие участие в принятии заключения о конституционности этого закона на стадии рассмотрения президентом законопроекта. Иное противоречит объективности и беспристрастности судей как общепринятым принципам судопроизводства. Поскольку в соответствии со статьёй 4 Закона установлено, что «по представлению Президента Российской Федерации Конституционный Суд Российской Федерации правомочен осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей», а общее число судей Конституционного суда – 11 человек, обеспечить кворум в судебном заседании было бы затруднительно, если не невозможно.
Однако вопрос об отводе судей по причине необъективности и небеспристрастности вообще может и не возникнуть, поскольку, как указано в статье 5 Закона, «основными принципами деятельности Конституционного Суда Российской Федерации являются независимость, коллегиальность, гласность, состязательность и равноправие сторон». Объективность и беспристрастность, в отличие от независимости, здесь странным образом не упоминаются. Между тем независимость не является самоценностью. Она необходима лишь как условие, как средство обеспечения объективности и беспристрастности судов и судей.
Статьёй 56 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» предусмотрено, что «Судья Конституционного Суда Российской Федерации отстраняется от участия в рассмотрении дела, если:
-
1) судья ранее в силу должностного положения участвовал в принятии акта, являющегося предметом рассмотрения;
-
2) объективность судьи в разрешении дела может быть поставлена под сомнение ввиду его родственных или супружеских связей с представителями сторон;
-
3) имеются иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в объективности и беспристрастности судьи».
Участие в рассмотрении запроса о даче заключения о конституционности оспариваемого акта самостоятельно, вне связи с участием в принятии обжалуемого акта, с родственными и представительскими отношениями со сторонами дела, объективность и беспристрастность в законе не упоминаются. Основанием для отстранения судьи от участия в деле названы также «иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в объектив- ности и беспристрастности судьи». Хотелось бы верить, что к таким иным обстоятельствам относится и участие судьи в деле о даче заключения о конституционности обжалуемого закона на стадии законопроекта. Поневоле задаёшься вопросом: если Конституция – закон высшей юридической силы и прямого действия, почему суды общей юрисдикции не могут исполнять конституционные нормы непосредственно и в случае расхождения законов с Конституцией применять нормы Конституции непосредственно, прямо, не ожидая признания Конституционным Судом этого закона не подлежащим применению? Если решение о пересмотре дела ввиду несоответствия Конституции применённого по делу закона всё равно нуждается в подтверждении судом общей юрисдикции, если ошибочные решения Конституционного Суда не обжалуются и не могут быть исправлены, не оказывается ли Конституционный Суд лишним звеном в этой цепочке, усложняющим и затягивающим процесс устранения ошибок в применении конституционных норм?
Общеобязательное истолкование правовых норм, выявление их конституционно-правового смысла может быть возложено на Пленум Верховного Суда, члены которого тоже должны обладать безупречной репутацией. А уж докторов юридических наук по всем юридическим специальностям и отраслям права там заведомо больше одиннадцати.