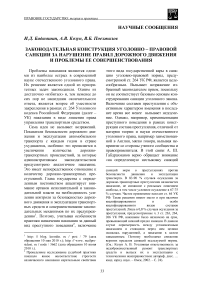Законодательная конструкция уголовно-правовой санкции за нарушение правил дорожного движения и проблемы ее совершенствования
Автор: Бадамшин Ильфат Давлетнурович, Козун Александр Владимирович, Поезжалов Владимир Борисович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Научные сообщения
Статья в выпуске: 1 (23), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос о сущности предусмотренного в санкции ст. 264 УК РФ дополнительного наказания в виде лишения права управления транспортным средством. Авторы отмечают, что данный вид наказания не предусмотрен в Общей части УК РФ и выступает в санкциях ч.1 - ч. 6. ст. 264 УК РФ в качестве безусловного вида наказания, безотносительно к признакам, характеризующим субъекта. Данные обстоятельства, по мнению авторов, указывают на несоответствие рассматриваемого вида наказания признакам уголовного наказания.
Санкция, наказание, назначение наказания, дополнительное наказание, лишение права управления транспортным средством, лишение права заниматься определенной деятельностью
Короткий адрес: https://sciup.org/142232324
IDR: 142232324
Текст научной статьи Законодательная конструкция уголовно-правовой санкции за нарушение правил дорожного движения и проблемы ее совершенствования
Проблемы наказания являются одними из наиболее острых в современной науке отечественного уголовного права. Их решение является одной из приоритетных задач законодателя. Одним из достаточно «избитых» и, тем неменее до сих пор не нашедшим окончательного ответа, является вопрос об уместности закрепления в рамках ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК) наказания в виде лишения права управления транспортным средством.
Сама идея не вызывает возражений. Показатели безопасности дорожного движения и эксплуатации автомобильного транспорта с каждым годом в стране ухудшаются, особенно это проявляется в увеличении количества дорожнотранспортных происшествий, за которые административным законодательством предусмотрено аналогичное наказание. Это имеет непосредственное отношение к количеству дорожно-транспортных преступлений. Глава государства с определенным постоянством акцентирует внимание органов исполнительной и законодательной власти на необходимость усиления контроля за безопасностью дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и совершенствование законодательных механизмов по их предупреж-дению1. Поэтому, учитывая особенности практики назначения наказания за данный вид преступного поведения2, включение этого вида государственной кары в санкцию уголовно-правовой нормы, предусмотренной ст. 264 УК РФ, является целесообразным. Вызывает возражение избранный законодателем прием, поскольку он не соответствует базовым основам конструирования санкции уголовного закона. Включение составов преступления с объективным характером вменения в последнее время все менее вызывает недоумение. Однако, например, криминализация преступного поведения в рамках конструкции состава преступления, отличной от материи теории и науки отечественного уголовного права, например заимствованной в Англии, мягко говоря, вызывая неприятие со стороны ученого сообщества и правоприменителя. В этой связи А. Ш. Габдрахманов верно обращает внимание «на определенную нестыковку санкций санкций норм о преступлениях против безопасности движения и эксплуатации транспорта. В 83-90 % случаев осуждения за дорожно-транспортные преступления назначается наказание, не связанное с реальным лишением свободы, в том числе условное осуждение в 67-75 % случаев. Частое применение находит ст. 64 УК РФ. Такие решения имеют место и при наличии квалифицированного и особо квалифицированного видов составов преступлений. Лишь в 0,8 % случаев осуждения за преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 263, 264, 266 УК РФ, наказание было назначено на срок, превышающий нижний предел санкции. В данном случае соразмерность между установленным наказанием и стоящими перед ним целями оказалась нарушенной, а наказание в целом завышенным. Поэтому необходимо снижение верхних пределов санкций исследуемой нормы. (См.: Козун А. В. Уголовная ответственность за недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – Омск, 2002. – С. 24).
норм, предусмотренных ст. 264 УК РФ, и положений Общей части. В ст. 264 УК РФ в качестве дополнительного наказания предусмотрено лишение права управлять транспортным средством, а в Общей части УК РФ (ст. 47) регламентировано наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Фактически в Особенной части УК предусмотрен новый вид наказания, неизвестный его Общей части. Чтобы привести в соответствие их положения, следовало бы либо в санкциях ст. 264 УК РФ вместо «лишения права управлять транспортным средством» указать «лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», или в отдельной части ст. 47 УК РФ отразить наказание в виде лишения права управлять транспортным средством»1.
Автор верно высказывается по существу имеющейся проблемы, но, на наш взгляд, предлагает не совсем верный путь ее решения. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью не в полной мере будет соответствовать предмету рассматриваемой проблемы. При таком подходе достаточно большое количество субъектов не будут подпадать под искомую ответственность. Вторая часть сделанного им вывода является более логичной и соответствующей существующим предложениям в науке уголовного права и может быть поддержана в качестве одного из вариантов решения этой проблемы.
Лишение права заниматься определенной деятельностью не совпадает по содержанию с лишением права управления транспортным средством. Первое означает запрещение на установленный судом срок заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью. Такой запрет может касаться служебной деятельности осужденного (фармацевтической, педагогической, управления общественным транспортом), неслужебной профессиональной деятельности (например, охотничьего промысла, оказания юридических услуг и т.д.), а также любой иной непрофессиональной деятельности (например, управления личными транспортными средствами)2. Последняя часть предложения вызывает возражение, поскольку, если рассматривать лишение права управления транспортным средством как специальный вид наказания в виде лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, это должно вытекать из положений уголовного закона. Должна быть согласована система признаков данного вида наказания, начиная с места расположения и заканчивая его видом и сроками назначения.
Кроме того, законодатель по неясным причинам предусмотрел данный вид наказания как безусловный (дополнительный) к основным видам, начиная с 1 и заканчивая 6 частью ст. 264 УК РФ. На наш взгляд, нарушение правил эксплуатации транспортных средств не всегда соотносится по сущностным юридическим признакам с наказанием в виде лишения права управления транспортным средством. Наличие навыков вождения автомобиля и водительского удостоверения логически не стыкуются с возможностью его изъятия за нарушение некоторых норм технической эксплуатации транспортного средства, например за неисправность транспортного средства. Нарушение норм технической эксплуатации транспортного средства, как свидетельствует судебноследственная практика, далеко не всегда связано с нарушением правил дорожного движения. Избрав устоявшийся в науке и законодательной практике подход к формированию признаков уголовно-правовой санкции, законодатель опрометчиво забыл
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика про особенности конструкции признаков данного состава преступления.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» в п. 12 постановления разъяснил, что в связи с тем, что ст. 264 УК РФ наряду с основным наказанием предусматривает возможность применения к виновному дополнительного наказания в виде лишения права управления транспортным средством, суду следует иметь в виду, что исходя из ст. 47 УК РФ указанное дополнительное наказание может быть назначено как лицу, которому в установленном законом порядке было выдано соответствующее удостоверение, так и лицу, управлявшему автомобилем или другим транспортным средством без соответствующего разрешения.
Приведенные разъяснения свидетельствуют о противоречии, сложившимся в уголовном законе, методологическим основам наказания. По сути рекомендаций, указанных в п. 12 постановления, лишение права управления транспортным средством может быть назначено и в том случае, когда формально у лица нет водительского удостоверения. Возникает закономерный вопрос, как может назначаться данный вид наказания при реальном отсутствии на это формальных оснований. Из санкции ст. 264 УК РФ не вытекает такое законодательное волеизъявление решения этого вопроса. На наш взгляд, лишение права возможно в судебном порядке при условии его законного приобретения. Лишение несуществующего права, это абсурдное решение. Право на управление транспортным средством не возникает с момента рождения, не является одной из форм правоспособности, а приобретение такового как раз связано с деятельностью физического лица.
Уголовное наказание, не предусмотренное рамками Уголовного кодекса Российской Федерации, не может при- меняться. Лишение права заниматься определенной деятельностью может быть назначено тогда, когда деятельность субъекта реально существует. Деятельностью управление транспортным средством становиться в случае ее реальности. Последняя появляется в случае наличия соответствующего права.
И, наконец, непонятно как Верховный Суд РФ представляет возможным применение данного вида наказания, неурегулированное нормами уголовного законодательства. Данное «наказание» не адаптировано под общие начала назначения наказания.
Ясности ради следует отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 47 УК РФ в качестве основного вида наказания лишение права управления транспортным средством не может быть назначено. Следовательно, оно не имеет самостоятельной правовой природы и уголовно-правового значения. Налицо противоречие внутреннему содержанию и смыслу нормы уголовного закона.
Лишение права заниматься определенной деятельностью, по мнению некоторых ученых, распространяется как на профессиональную, так и иную деятельность гражданина, например в сфере досуга. К профессиональной деятельности относятся педагогическая, врачебная, управление транспортом по договору найма. К иной деятельности, которая может быть запрещена осужденным, относятся управление личным транспортом, охота и т.п. Таким образом, конкретное «поле» лишения прав в рамках применения данного вида наказания не обозначено. В целом данный вопрос относится к судебному усмотрению и по своей правовой природе является оценочным. Однако лишение права управления транспортным средством указано в норме, предусмотренной ст. 264 УК РФ. Поэтому сам законодатель исключает его из возможно относимых к лишению права заниматься определенной деятельностью и указывает на его самостоятельный характер.
Не совсем согласны мы и с разъяснениями Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 11 января 2007 г. № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 03.04. 2008 г. № 5, от 29.10.2009 г. № 21)». Согласно п. 4 данных судебных рекомендаций «При назначении наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью в приговоре следует конкретизировать вид такой деятельности. Во всяком случае (курсив наш), в приговоре должен быть указан срок запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. То обстоятельство, что к моменту вынесения приговора лицо не занимало определенной должности или не занималось определенной деятельностью, не лишает суд права назначить данное наказание». Таким образом, из текста видно, что Пленум затрудняется с определением концептуально важных признаков данного вида наказания и сомневается относительно его содержания. По сути, данное разъяснение ничего не поясняет, а заставляет суд первой инстанции еще лишний раз задуматься о том, какое общее практическое решение в этом случае выработать, тем самым не выполняя своего ключевого предназначения – облегчать процесс толкования и применения закона и формировать уголовно-правовую политику. Судья, опираясь на такое судебное толкование, будет вынужден выполнять часть работы Пленума, – искать истину в рамках данного вида наказания. Однако подобное противоречит прописным истинам. У судьи должен быть «под рукой» конкретный арсенал уголовного наказания с его качественными и количественными характеристиками. Одной из задач суда является всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельства дела. Возникает закономерный вопрос: «Зачем?», если это не способствует установлению той истины, о которой говорит законодатель. Истина появляется в такой судебной интерпретации почти в полном объеме на этапе квалификации преступления. Выяснение особенностей обществен- ной опасности совершенного преступления и личности лица его совершившего не требуется. К тому же это судебное толкование не отвечает общепринятым в науке и теории уголовного процесса принципам организации правосудия1.
В свое время М. Д. Шаргородский писал: «Наказание в советском уголовном праве – это мера государственного принуждения, применяемая только судебными органами к лицам, совершившим преступления. Наказание выражает отрицательную оценку преступника и его деяния государством и заключается в лишении преступника каких-либо принадлежащих ему благ. Наказание имеет своей целью предупреждение совершения новых преступлений со стороны лиц, их совершивших, и других неустойчивых членов общества»2.
Анализ точек зрения ученых о понятии уголовного наказания, проведенный А.Ф. Мицкевичем, показал, что они «содержат перечень наиболее важных и существенных признаков, которые определяют основные черты наказания как социально-правого явления. Такими признаками являются: 1) наказание – это мера государственного принуждения; 2) наказание применяется (назначается) только по приговору суда; 3) наказание применяется только к виновному лицу; 4) наказание применяется только за совершение преступления; 5) наказание заключается в лишении и ограничении прав и свобод лица; 6) лишения и ограничения, входящие в наказание, должны быть предусмотрены уголовным законом; 7) наказание выражает отрицательную оценку преступника и его деяния государством; 8) наказание преследует социально-полезные цели»3. Исследуемый нами вид наказания далеко не соот- ветствует многим прописным истинам, о которых говорят ученые.
Лишение права управления транспортным средством имеет по своей сущности не уголовно-правовую, а иную природу. Данный вид наказания предусмотрен законодателем в рамках ст. 3.8. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, и, соответственно, в ряде составов административных правонарушений, преимущественно посягающих на общественные отношения в области дорожного движения (глава 12 КоАП РФ). Поэтому он изначально полностью адаптирован именно под административное законодательство и отвечает основам механизма формирования данной отрасли права. Целе- сообразность его включения в уголовное законодательство требует иного законодательного подхода при исследовании его правовой природы, определении его задач, целей, количественных и качественных признаков.
На наш взгляд, чтобы являться видом дополнительного наказания в отечественном уголовном законодательстве, лишение права управлять транспортным средством должно отражать концептуальные основы и признаки именно уголовного наказания, что обусловливает необходимость его закрепления в рамках Общей части уголовного закона. Только после этого данный вид наказания следует включать в санкции норм Особенной части Уголовного кодекса РФ.
А.Х. Мухаметзянов
ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ КАК МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
В настоящее время в России актуальной является проблема осуществления муниципального контроля за земельными участками в городах, которая в условиях не использования земельных участков их собственниками и арендаторами, приводит к наличию объектов незавершенного строительства, затягиванию процесса освоения территорий и требует от органов местного самоуправления принятия определенных действий для ее разрешения.
В данной статье автором проводится анализ механизма осуществления органами местного самоуправления королевства Нидерландов и России контроля за развитием и использованием земельных участков. Целью проводимого анализа является рассмотрение возможности использования органами местного самоуправления в России института аренды земельного участка как действенного механизма по осуществлению муниципального контроля за использованием земельных участков, в частности прове- дения: застройки на земельном участке, поддержания застроенных территорий в надлежащем состоянии.
Органы местного самоуправления участвуют в земельных отношениях в двух качествах1:
Во-первых, как регуляторы земельных отношений в части земель, находящихся под их юрисдикцией на их территории (в этих случаях их акты имеют властный, административный характер).
Во-вторых, как собственники земель, находящихся в их владении, пользовании и распоряжении (в этом случае они действуют на равных началах с иными участниками земельных отношений -физическими и юридическими лицами).
В первом случае на органы местного самоуправления статьями 72 Земельного кодекса, 14, 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
Список литературы Законодательная конструкция уголовно-правовой санкции за нарушение правил дорожного движения и проблемы ее совершенствования
- 1.Габдрахманов А. Ш. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта (уголовно-правовые и криминологические аспекты). - Казань. 2008. - С. 20.
- 2.Правоохранительные органы: учебное пособие / под ред. А. М. Баранова. 2-е изд., доп. - Омск, 2008. - С. 18-19.
- 3.Шаргородский М. Д. Наказание по советскому уголовному праву. - М., 1958. - С. 6-7.
- 4.Мицкевич А. Ф. Уголовное наказание: понятие, цели и механизмы действия. - СПб., 2005. - С. 22-23.