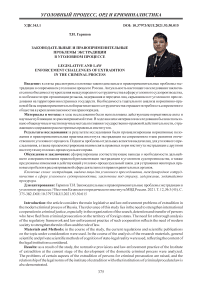Законодательные и правоприменительные проблемы экстрадиции в уголовном процессе
Автор: Гарипов Тимур Ильгизович
Журнал: Вестник Казанского юридического института МВД России @vestnik-kui-mvd
Рубрика: Уголовный процесс, ОРД и криминалистика
Статья в выпуске: 3 (45) т.12, 2021 года.
Бесплатный доступ
Введение: в статье рассмотрены основные законодательные и правоприменительные проблемы экстрадиции в современном уголовном процессе России. Актуальность настоящего исследования заключается в необходимости укрепления международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, в особенности при организации розыска, задержания и передачи лиц, скрывшихся от уголовного преследования на территории иностранных государств. Необходимость тщательного анализа нормативно-правовой базы и правоприменительной практики такого сотрудничества отражает потребность современного общества в укреплении законности и правопорядка. Материалы и методы: в ходе исследования были использованы действующие нормативные акты и научные публикации по рассматриваемой теме. В ходе анализа материалов исследования были использовано общенаучные и частнонаучные методы познания государственно-правовой действительности, отражающие содержание рассмотренных правовых институтов. Результаты исследования: в результате исследования были проанализированы нормативные положения и правоприменительная практика института экстрадиции на современном этапе развития отечественного уголовного процесса. Подняты проблемы отдельных аспектов выдачи лиц для уголовного преследования, а также продемонстрирована взаимосвязь правовых норм института экстрадиции с другими институтами уголовно-процессуального права. Обсуждение и заключения: сформулированы соответствующие выводы о необходимости дальнейшего совершенствования правовой регламентации экстрадиции в уголовном судопроизводстве, а также предложены изменения в действующий уголовно-процессуальный закон для устранения некоторых правовых пробелов в рассматриваемой сфере деятельности правоохранительных органов.
Экстрадиция, выдача лица для уголовного преследования, международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, заключение под стражу, задержание, ходатайство прокурора
Короткий адрес: https://sciup.org/142231600
IDR: 142231600 | УДК: 343.1 | DOI: 10.37973/KUI.2021.93.50.015
Текст научной статьи Законодательные и правоприменительные проблемы экстрадиции в уголовном процессе
Несмотря на временное ограничение права граждан на свободу передвижения, установленное в различных государствах в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), возможность беспрепятственного пересечения государственной границы большинства государств существует. Это означает, что лица, совершившие преступление, также могут покинуть территорию той или иной страны, чтобы избежать уголовной ответственности. В связи с этим существует объективная необходимость в совершенствовании системы и правовых механизмоввзаимо-действия государств в сфере розыска, задержания и передачи (экстрадиции) подозреваемых и обвиняемых, покинувших пределы государства, на территории которого ими совершено преступление, и скрывающихся на территории иностранного государства [1, с.328].
Обзор литературы
Вопросы института экстрадиции неоднократно становились объектом исследования на диссертационном и монографическом уровнях. Об этом свидетельствуют исследования таких авторов, как Ю.Г. Васильев, К.Е. Колибаб, Ю.В. Минкова, О.Б. Лысягин, А.К. Строганова, Н.А. Сафаров, Д.Н. Шурухнова и др. Кроме этого, в связи с развитием международно-правовой базы института экстрадиции в периодической литературе продолжают выходить публикации, посвященные отдельным аспектам данного направления международного сотрудничества. Отдельные работы в последнее время были посвящены вопросам применения мер процессуального принуждения в отношении иностранных граждан в целях их экстрадиции [2].
Материалы и методы
В ходе настоящего исследования применялись различные методы познания объективной государственно-правовой действительности, среди которых следует выделить формально-логический, системно-структурный, сравнительно-пра- вовой и другие методы. В качестве базового метода выступил системный анализ законодательства и правоприменительной практики в его взаимосвязи с основными положениями норм международного права, регламентирующих вопросы выдачи лиц для уголовного преследования.
Результаты исследования
Международное сотрудничество в сфере выдачи лиц для уголовного преследования планомерно продолжается. Об этом свидетельствуют результаты служебной деятельности правоохранительных органов. Так, 15 июля2021г. был экстрадирован гражданин России, скрывавшийся на территории Германии и объявленный в международный розыск за совершение преступлений против половой свободы и неприкосновенности личности1.
Указанная сфера деятельности, несомненно, является объектом пристального внимания со стороны компетентных правоохранительных органов. Основная организационная и регулирующая роль в вопросах экстрадиции принадлежит Генеральной прокуратуре Российской Федерации (далее – Генпрокуратура РФ), которая продолжает совершенствование нормативно-правовой базы рассматриваемого института. Например, 5 марта 2018 года было издано указание Генпрокуратуры РФ № 116/35 «О порядке работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора»2.
Однако, несмотря на кажущуюся высокую степень правовой регламентации рассматриваемого уголовно-процессуального института экстрадиции, степень его научной разработанности характеризуется определенной фрагментарностью и отсутствием целостности. Так, некоторые авторы в своих исследованиях рассматривают лишь отдельные аспекты вопросов экстрадиции, не принимая во внимание комплексный, межотраслевой характер настоящего процессуального института [3, с. 8]. Поэтому институт выдачи лица для уголовного преследования, несмотря на свою значимость, наукой уголовно-процессуального права исследован недостаточно. Кроме этого, отсутствие необходимого научного и организационно-методического обеспечения процедуры экстрадиции порождает значительный объем проблем правоприменительной практики. К наиболее существенным проблемам, возникающим в правоприменительной практике института экстрадиции, относится правовой дисбаланс в определении содержания статуса лица, подлежащего выдаче при применении к нему задержания и иных мер пресечения, что зачастую влечет за собой необоснованное ограничение и нарушение прав такого лица. Усугублению данной проблемы способствует также правовая неопределенность положений международных договоров, заключенных Российской Федерацией с рядом иностранных государств по вопросам экстрадиции. Так, между Россией и Польшей существует договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам,1 в котором раскрываются общие положения оказания взаимной правовой помощи при отправлении правосудия, в том числе в части, касающейся экстрадиции. Несмотря на то, что в целом положения указанного договора соответствую российскому уголовно-процессуальному законодательству, данный нормативный акт не лишен коллизий и недостатков. Например, в ч. 2 ст. 68 указанного договора компетентные учреждения юстиции могут принять решение об аресте лица, если имеются достаточные основания подозревать, что оно совершило на территории другой договаривающейся стороныпреступление, влекущее выдачу. В ч. 1 этой же статьи также указано, что арест выдаваемого лица может быть осуществлен и до фактического получения требования о выдаче, если одна из сторон потребует этого лишь со ссылкой на соответствующее постановление об аресте. Очевидно, что в рамках настоящего договора стороны стремились предусмотреть возможность оперативных действий, направленных на задержание лиц, в том числе совершивших особо тяжкие преступления. Однако в условиях необходимости соблюдения норм национального законодательства, а тем более междуна-родныхактовоправахчеловека,любыеограничения личных прав, в том числе на свободу передвижения, недопустимы в отсутствие конкретных на то оснований. На примере указанных выше норм мы, к сожалению, наблюдаем обратное.
В связи с этим становится актуальным вопрос об определении процессуального положения лица, которое подлежит выдаче. Отдельные авторы высказывают замечание к формулировке «выдача преступника», которая используется в некоторых источниках и законодательных актах отдельных стран. Так, подобная формулировка в корне противоречит такому базовому принципу уголовного судопроизводства, как презумпция невиновности [4, с. 17]. Если процессуальный статус лица, в отношении которого Российской Федерацией направлен запрос о выдаче, следует определять исходя из положений ст. 46, 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации2 (далее – УПК РФ), то вопрос о положении лица, находящегося на территории России, в отношении которого от иностранного государства поступил запрос о выдаче, остается открытым [5, с. 250]. Отсутствие четких критериев определения процессуального статуса данных лиц следует отметить также в руководящих разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации3. Актуальность данного вопроса может бытьподтверждена,еслимыобратимсякуго-ловно-процессуальному законодательству некоторых иностранных государств, в которых основания и процессуальный порядок получения соответствующего процессуального статуса несколько отличаются. Так, например, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Польша понятие подозреваемого в качестве процессуального статуса отсутствует, а статус обвиняемоголицо приобретает лишь с момента передачи уголовного дела прокурором в суд [6, с.314]. Аналогичный порядок приобретения процессуального статуса обвиняемого также предусмотрен в уголовно-процессуальном законодательстве Испании [6, с. 642].
При этом положение лиц, подлежащих выдаче, не нашло своего отражения и в УПК РФ, что, несомненно, негативно сказывается на основных гарантиях прав и свобод человека, установленных международно-правовыми актами. Тем не менее нельзя отрицать, что данные лица вступают в полноценные уголовно-процессуальные отношения, приобретая при этом полный комплекс прав и обязанностей, следовательно, также являются участниками уголовного судопроизводства. Данный факт отмечает П.Н. Бирюков, который высказал идею, что, несмотря на отсутствие формальной регламентации статуса участника уголовного процесса в действу- ющем УПК РФ, лица, в отношении которых поступил запрос о выдаче, имеют полное право на защиту от уголовного преследования, а в обязанности должностных лиц входит обеспечить им это право [7, с. 193]. Аналогичное мнение высказывает А.А. Насонов, который отмечает, что при невыполнении указанных требований государство отказывается от взятых на себя международно-правовых обязательств по соблюдению основных прав и свобод человека и гражданина [8, c.103].
Одним из немаловажных аспектов института экстрадиции в уголовном судопроизводстве является порядок применения мер процессуального принуждения в ходе ее реализации, а именно задержание и дальнейшее применение меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовно-процессуальный закон определяет порядок избрания меры пресечения в отношении выдаваемого лица в положениях ст. 466 УПК РФ со ссылкой на соответствующую главу 13 УПК РФ, определяющую общий порядок избрания мер пресечения в случае отсутствия решения иностранного суда об аресте выдаваемого лица. Однако в соответствующих нормах определяется порядок избрания меры пресечения следователем или дознавателем, то есть лицом, в производстве которого находится уголовное дело о преступлении, совершенном на территории РФ, а не тем лицом, которое осуществляет производство об экстрадиции. Кто в таком случае должен ходатайствовать перед судом: следователь или дознаватель? И как определить подследственность такого производства? В связи с этим, на наш взгляд, в законодательстве образовалась правовая неопределенность в части определения субъекта и оснований для избрания меры пресечения при производстве экстрадиции. Этому также способствует отсылочный характер ч. 1 ст. 466 УПК РФ, в которой определяется, что прокурор лишь решает вопрос о мере пресечения, а сам процессуальный порядок такого производства определяется в общих нормах главы 13 УПК РФ. Полагаем, что в данной ситуации полномочием по возбуждению перед судом соответствующего ходатайства обладает прокурор или если решение иностранного суда о заключении под стражу уже поступило, то прокурор самостоятельно инициирует применение данной меры пресечения. Однако следует отметить, что в законе процессуальная форма такого решения не определена (ни в положенияхст.108 УПК РФ, ни в ст.466 УПК РФ), мы можем предположить, что это будет соответствующее постановление прокурора. Остается ряд неразрешенных вопросов, которые возникают при необходимости задержания выдаваемого лица. Так, в ст. 91 УПК РФ установлен исчерпывающий перечень оснований для задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. Среди этого перечня нет ни слова о необходимости передачи лица иностранному государству для уголовного преследования. Следует ли считать производимое задержание законным и обоснованным при таких условиях? На наш взгляд, в данном случае налицо явный законодательный пробел. При этом, принимая во внимание случаи, когда при отсутствии решения суда иностранного государства прокурор самостоятельно вынужден ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, полагаем, что возникает закономерный вопрос о субъектах и порядке уголовно-процессуального задержания. Следует ли прокурору поручать фактическое задержание выдаваемого лица органу дознания? Если да, то отражаются ли его ход и результаты задержания в протоколе и кто должен его составить: сам прокурор или сотрудник органа дознания или задерживать лицо самостоятельно, что в обязанности прокурора не входит? Данный вопрос положениями ст. 91, 92 УПК РФ урегулирован недостаточно, поскольку, как нами отмечалось ранее, подозреваемый и лицо, в отношении которого осуществляется производство об экстрадиции, имеют различные по своей правовой природе и содержанию процессуальные положения, соответственно, и подход в определении процессуального порядка применения мер принуждения должен в таком случае отличаться. Кроме того, возникает вопрос о допустимости избрания судом меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие лица, в отношении которого поступил запрос о выдаче. Поскольку ч. 5 ст. 108 УПК РФ предполагает принятие подобного решения лишь в отношении обвиняемого, признанного таковым в порядке, определенным законодательством РФ, и при объявлении его в международный или межгосударственный розыск возникает проблема принятия заочного решения о заключении под стражу в ходе процедуры экстрадиции. Может возникнуть ситуация, когда такое лицо в международной или межгосударственный обыск не объявлено, а требование об экстрадиции этого лица уже поступило. В таком случае принятие заочного решения о применении меры пресечения следует считать незаконным.
Наличие столь многочисленных правовых пробелов в вопросах избрания меры пресечения при экстрадиции порождает необоснованное расширительное толкование норм и ограничение прав лица, выдаваемого иностранному государству, в частности, его права на защиту.
На основании изложенного предлагаем внести в ст. 91 УПК РФ следующие изменения, дополнив данную статью ч. 3 текстом следующего содержания:
«3. При необходимости избрания меры пресечения в виде заключения под стражу лица, в отношении которого поступил запрос иностранного государства о выдаче, прокурор поручает его задержание органу дознания».
По нашему мнению, уголовно-процессуальный статус обвиняемого и подозреваемого существенно отличается от статуса лица, в отношении которого иностранным государством направлен запрос об экстрадиции. Это обусловлено правовой природой процессуального статуса такого лица, поскольку аналогичный обвиняемому участник уголовного судопроизводству вовлекается в уголовно-процессуальную сферу по законодательству иностранного государства, что не определяет обязанность России признавать подобное решение на собственной территории в качестве юридически приемлемого, в ином случае это нарушило бы суверенную независимость государства.
В связи с этим полагаем целесообразным включение в перечень участников уголовного судопроизводства лица, в отношении которого осуществляется производство о выдаче иностранному государству, а также уголовно-процессуальную регламентацию его статуса в соответствующих правоотношениях. Кроме того, положения ст. 108 УПК РФ необходимо конкретизировать по отношению к порядку применения заключения под стражу к лицу, подлежащему выдаче.
Еще одним фактором, влияющим на эффектив-ностьправопримененияуголовно-процессуальных норм об экстрадиции, является существенное ограничение права лица, подвергаемого экстрадиции, на услуги переводчика. С учетом характера ограничительных мер, которые вводятся в отношении лиц, подлежащих экстрадиции, право на использование родного языка и вытекающие из него услуги переводчика являются ключевыми в обеспечении основных прав и свобод в уголовном процессе. Обеспечение подобного права особенно актуально в ходе применения мер принуждения, когда условия и основания избрания меры пресечения или производства задержания должны быть доступно объяснены лицу на языке, которым он владеет. Это положение закреплено отдельными национальными и международными правовыми актами в области прав человека, нормы которых содержатся в ст. 19 Конституции Российской Федерации, ст. 18 УПК РФ, а также ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и п. 14 Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, утвержденного Генеральной Ассамблеей ООН.
Обеспечение участия переводчика в процессуальных действиях в отношении лица, подлежащего выдаче, также выступает приоритетным направлением в деятельности правоохранительных органов, что отражается в п.1.2.3 указания Генпрокуратуры РФ от 05.03.2018 № 116/35, которое обязывает прокурора принимать меры по привлечению переводчика в случае получения объяснения от лица, подлежащего выдаче. Помимо этого, п.1.2.8 данного указания регламентирует порядок перевода на родной язык решения Генпрокурора РФ о выдаче лица.
Вполнезакономернойвыступаетнеобходимость регламентации участия переводчика в процессуальных действиях в связи с экстрадицией, однако, несмотря на наличие в действующем уголовно-процессуальном законодательстве соответствующих норм, многие вопросы правоприменительной практики продолжают оставаться неразрешенными. Несовершенство работы правоприменителя по привлечению переводчиков в ходе экстрадиции также отмечается некоторыми учеными [9, с.161].
Так, в настоящее время продолжают существовать проблемы по привлечению переводчиков в ходе предварительной проверки, осуществляемой прокуратурой в отношении лиц, подлежащих выдаче. Также схожие проблемы возникают при подготовке процессуальной документации для направления компетентным органам иностранного государства в связи с необходимостью экстрадиции. В частности, существует проблема отсутствия у органов прокуратуры соответствующих соглашений с бюро переводов. Нижестоящие органы прокуратуры подобным полномочием не обладают вовсе. В связи с этим организовать своевременный и качественный перевод в процессе экстрадиции не всегда представляется возможным ввиду препятствий как организационного, так финансового характера.
Существованию подобной проблемы также способствует отсутствие надлежащего нормативно-правового регулирования вопросов привлечения переводчиков в процессе экстрадиции. Неопределенность впорядке оплаты трудаперевод-чика часто приводит к невозможности произвести процессуальное действие с участием иностранного гражданина, в том числе в целях экстрадиции. Однако на ведомственном уровне Генпрокуратурой РФ предпринята попытка предусмотреть нормативную основу деятельности переводчика в ходе процесса экстрадиции. Так, пункты 1.4.11, 1.7.6 указания Генпрокуратуры РФ от 05.03.2018 № 116/35 определяют порядок оплаты процессуальных издержек, связанных с оказанием услуг переводчика в ходе международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, в том числе и при экстрадиции. Так, например, п. 1.4.11 настоящего указания определяет необходимость перевода документов, которые подлежат направлению в иностранное государства, если это необходимо в соответствии с международным правовым договором. Причем обязанность осуществления такого пере-водавозлагается надолжностныхлиц органовпред-варительного расследования или на региональную прокуратуру.
Соблюдение сроков ограничительных мер, связанных с экстрадицией, также является одной из существенных проблем, с которой сталкивается правоприменитель. Так, в законе не определены сроки содержания под стражей лиц, подлежащих выдаче иностранному государству, а также порядок их продления. Подобное положение может существенно ограничить права человека на разумный срок судопроизводства и нарушить его право на неприкосновенность личностиотнеобоснованного ограничения личной свободы [10, с. 201].
Ранее законодатель уже предпринял меры по восполнению пробелов уголовно-процессуального законодательства по регулированию порядка продления срока меры пресечения в виде заключения под стражу. Так, Федеральным законом от 19 февраля 2018 г. № 27-ФЗ в УПК РФ внесены изменения, которые предусмотрели полномочия прокурора по возбуждению перед судом ходатайства о продлении срока содержания под стражей на этапе рассмотрения им поступившего уголовного дела с обвинительным заключением (актом). Таким образом,законодательопределил должностное лицо, которому необходимо обращаться в суд, чтобы продлить срок заключения под стражей. При этом на практике применяется аналогия названного закона и в случаях реализации такой формы международного сотрудничества, как направление материалов уголовного дела для уголовного преследования на территории иностранного государства, что в общих чертах регулируется в ч. 1 ст. 21 Европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам1.
Тем не менее, несмотря на возможность применения аналогии уголовно-процессуального закона, до сих пор отсутствует регламентированный порядок определения срока содержания под стражей лиц, в отношении которых направлен запрос иностранного государства о выдаче. Так, существует правовая неопределенность в разрешении вопроса о сроке заключения под стражу при поступлении запроса о выдаче вместе с решением иностранного суда о применении названной меры пресечения. Не определены и примерные сроки содержания под стражей выдаваемых лиц. Так, в некоторых источниках встречается мнение об установлении предельных сроков от 8 месяцев до 1 года [11, c. 207].
Определенные меры по восполнению законодательных пробелов в части правового регулирования вопросов экстрадиции принимаются также Верховным Судом Российской Федерации. Так, в разъяснениях постановления ПленумаВерховного СудаРос-сийской Федерации от 19 декабря 2013 года № 412 приводится порядок определения процессуальных сроков при применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Несмотря на подобные разъяснения, следует отметить наличие необоснованно длительных сроков содержания под стражей лиц, подлежащих экстрадиции, а также отсутствие в материалах прокурора достаточных оснований для их продления. При этомправа выдаваемого лица могут быть существенно нарушены, если в итоге в его передаче иностранному государству будет отказано, а лицо в период проверки прокуратурой обоснованности выдачи содержалось по стражей. В то же время, несмотря на предусмотренную ст. 466 УПК РФ возможность применения домашнего ареста в отношении лица, подлежащего выдаче, правоприменитель крайне редко применяет такое полномочие, предпочитая заключить такое лицо под стражу.
Обсуждение и заключения
Такимобразом,можнозаключить,чтоэффектив-ность международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства обусловлена в большей степени не только качеством норм международно-правовых договоров и соглашений, но и состоя-ниемвнутреннегонациональногоотраслевого законодательства. Вчастности, вопросы регламентации процессуального порядка экстрадиции в УПК РФ регламентированы недостаточно подробно и качественно, что в итоге препятствует ее эффективной реализации и укреплению международного партнерства в сфере борьбы с преступностью.
Список литературы Законодательные и правоприменительные проблемы экстрадиции в уголовном процессе
- Волеводз А.Г. О необходимости имплементации в УПК РФ международно-правовых норм о новых направлениях международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2Q14. M 4(14). С. 311-328.
- Малышева О.А., Лятифов Р.Г. Применение мер пресечения в отношении иностранных граждан в целях их выдачи (экстрадиции): монография. М: Проспект, 2Q21. 168 с.
- Гришин А.С. Организационно-правовой механизм выдачи лиц для уголовного преследования в российском уголовном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2Q1Q. 24 с.
- Смирнов М.И. Понятие и правовая природа выдачи (экстрадиции) // Современное право. 2QQ7. M 3. С. 12-17.
- Насонов А.А. Основания появления в российском уголовном процессе лица, выдача которого запрашивается для уголовного преследования // Вестник ВГУ. Серия: Право. 2Q16. M 1. С. 241-25Q.
- Уголовный процесс европейских государств: монография / под ред. В.И. Самарина, В.В. Луцика. М.: Проспект, 2Q18. 752 с.
- Бирюков П.Н. Российское законодательство о выдаче преступников: проблемы и перспективы // Московский журнал международного права. 2QQQ. M 4. С. 186-193.
- Насонов А.А. Специфика осуществления защитных механизмов при выдаче для уголовного преследования // Вестник Воронежского института МВД России. 2Q15. M 4. С. 98-1Q3.
- Зяблина М.В. Реализация принципа языка уголовного судопроизводства // Lex russica. 2Q16. M 11. С. 155-161.
- 1Q. Колдин С.В. Проблемы регламентации избрания меры пресечения в виде заключения под стражу лиц, находившихся в межгосударственном розыске // Судебная власть и уголовный процесс. 2Q12. M 1. С. 199-2Q1.
- Шестакова Т.Д. Об участии иностранных граждан и лиц без гражданства в российском уголовном процессе // Пробелы в российском законодательстве. 2Q12. M 2. С. 2Q5-2Q7.