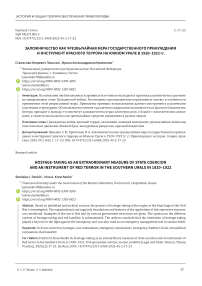Заложничество как чрезвычайная мера государственного принуждения и инструмент красного террора на Южном Урале в 1920–1922 гг.
Автор: Панькин С.И., Кравченко И.А.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: История и общая теория обеспечения правопорядка
Статья в выпуске: 2 (45), 2025 года.
Бесплатный доступ
На основании опубликованных и архивных источников исследуется практика заложничества в регионе на завершающем этапе Гражданской войны. Рассмотрены организационно-нормативные основы и особенности применения этой репрессивной меры. Приведены примеры использования данного инструмента различными властными структурами. Обосновывается мнение о различном содержании заложничества и красного бандитизма. Авторы приходят к выводу, что институт заложничества играл ключевую роль в борьбе с повстанческим движением, а также использовался как чрезвычайное средство управления в разных сферах.
Гражданская война, красный террор, заложники, военный коммунизм, чрезвычайные комиссии, повстанческое движение, южный урал, внесудебные репрессии, красный бандитизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14133304
IDR: 14133304 | УДК: 94(47) | DOI: 10.47475/2311-696X-2025-45-2-17-23
Текст научной статьи Заложничество как чрезвычайная мера государственного принуждения и инструмент красного террора на Южном Урале в 1920–1922 гг.
До 1917 г. большевики в арсенале средств борьбы имели богатый опыт террористических актов в отношении членов правительства, царской семьи и политических противников. После прихода к власти их террор стал организованным и явился одним из ведущих факторов победы в Гражданской войне. Террор, как разновидность карательной политики, практиковали и многие противники коммунистов, он носил более стихийный или индивидуальный характер, в то время как РКП(б) проводила менее изощренный, импровизированный, но зато тотальный и обезличенный [1, с. 6–9]․ Как совокупность методов осуществления внутренней политики, террор представлял собой систему насилия сверху. Являясь планом массового устрашения и принуждения, он включал в себя «расписание кар, возмездий и угроз, которыми правительство заставляет выполнить его волю» [14, с. 20].
Составной частью террора был институт заложничества. В сентябре 1918 г. НКВД издал приказ о взятии заложников, с перспективой произвести «безоговорочный массовый расстрел» при наличии контрреволюционной опасности [2, с. 11]․ В данном акте заложничество преподнесли, как предупредительную меру, призванную удержать политических противников от повторения терактов в отношении лидеров РКП(б)․ Однако угроза расправы была реальной, особенно с учетом массовых, стихийных расстрелов, произведенных сотрудниками ВЧК в ответ на убийства Володарского и Урицкого. Данный приказ можно рассматривать как попытку санкционировать, взять под контроль стихийный террор и обобщить практику взятия заложников.
Несмотря на очевидную актуальность проблемы заложничества, говорить, что она востребована авторами, не приходится. Публикаций по теме немного, все они носят региональный характер, а историко-правовых исследований практически нет.
И․ В․ Ефремов рассматривает проблему в контексте подавления вооруженных выступлений крестьян Иркутской и Енисейской губерний․ По его мнению, взятие заложников как акции устрашения и массовые внесудебные расправы в комплексе с другими мероприятиями были весьма эффективными в плане профилактики и ликвидации повстанчества [3, с․ 143, 147]․
В монографии, посвященной деятельности органов ЧК в Сибири А․ Г․ Тепляков выделяет в красном терроре два течения: открытый упорядоченный в рамках общей карательной политики и стихийный с криминальным оттенком, бессудными расправами, сопряженный со сведением личных счетов․ Вторая разновидность в историографии определяется, как красный бандитизм, социальной базой которого являлись коммунисты, недовольные НЭП и частыми амнистиями․ Однако среди приводимых автором примеров красного бандитизма преобладают случаи официального взятия заложников, их последующих расстрелов, производимых открыто органами власти и ВЧК․ Данные факты, как и должностные преступления, превышение полномочий сотрудниками ЧК, самосуды воинских частей, наряду с заложничеством объединяются в понятие красный бандитизм․ Однако с ним Советская власть как раз официально боролась [9, с․ 155–167]․ В другой работе он определяет заложничество как элемент карательной политики, увязывая его начало с крестьянскими восстаниями․ Отмечая отсутствие единообразия в практике заложников, его регулирование на основании секретных инструкций, в статье утверждается, что расправы над заложниками были «частью политики красного бандитизма»․ Однако, несмотря на наличие общих признаков: внесудебные расправы, жестокость казней и нацеленность на устрашение населения, данные явления смешивать не стоит․ Красный бандитизм практиковался ячейками РКП(б), нерегулярными отрядами и группами из коммунистов по инициативе снизу․ Взятие заложников и их расстрелы производились официально, от имени госструктур, хотя часто имели секретный характер․ [7, с․ 609–614]․
В․ Н․ Уйманов в своей монографии затрагивает институт заложничества, анализируя подавление повстанчества в Западной Сибири․ Исследователь указывает на то, что мера планировалась как временная, но получила широкое распространение․ В работе приводятся приказы Ишимского уездисполкома, Сибревкома, частей особого назначения (ЧОН) о взятии заложников из волостей, прилегающих к ж/д․ магистрали, ответственность за сохранность которой возлагалась на население․ В случае налетов на линию железной дороги, порчи имущества заложники подлежали расстрелу [10, с․ 40–41]․
А․ П․ Шекшеев, рассматривая систему заложничества в Сибири, показывает его масштабы, подчеркивает разницу между взятием заложников и красным бандитизмом, подробно анализирует деятельность чрезвычайной районной тройки, выносившей постановления о казнях․ Отмечаются факты передачи не рассмотренных дел выездным сессиям ревтрибуналов․ Автор делает вывод, что, уступая по числу жертв иным проявлениям красного террора, заложничество оказало серьезное воздействие на повстанческую среду, способствуя ликвидации [13, с․ 75–80]․
Единственной монографией по теме является работа А․ А․ Черкасова, где обстоятельно рассмотрены чрезвычайные акты, регулировавшие взятие заложников и особенности его применения в борьбе с бело-зеленым движением на Кубани и Черноморье․ Анализируя психологию, формы и масштабы заложничества, автор приходит к выводу, что централизованное осуществление данной меры предопределило победу большевиков над повстанцами, которые, ввиду отсутствия у них государственных рычагов, не могли реализовать масштабную систему заложничества [12, с․ 3–9, 45–88]․
Применительно к рассматриваемому региону отметим, что специальных исследований по теме крайне мало [5; 6]․
Материал и методы
Документальной основой исследования стали опубликованные чрезвычайные акты различных военнополитических структур, реализовывавших практику заложничества, документы региональных архивов Урала и специальная литература по теме исследования․ В ходе исследования применялся комплекс исторических и юридических научных методов․
Описание исследования
В борьбе с повстанческим движением террор играл ведущую роль․ Одним из его проявлений был институт заложничества, то есть арест граждан с последующими расстрелами в случаях убийств коммунистов, советских работников или невыполнения требований о сдаче повстанцев․ Заложничество, известное в России со времен покорения Кавказа и Средней Азии, в руках коммунистов обрело новый смысл, как санкционированное руководством страны эффективное средство государственной политики в отношении населения․ В рассматриваемый период — это чрезвычайная мера воздействия на повстанчество и потенциально опасные для власти слои населения․ В рамках красного террора это был жестокий, но эффективный инструмент борьбы․
В большинстве случаев заложников арестовывали открыто и официально, от лица государственных структур․ Любого заложника могли подвергнуть внесудебной расправе на основании чрезвычайных прика-зов․ Исходной точкой данного процесса являлась регистрация и составление списков ненадежных, социально чуждых: бывших офицеров, членов белой администрации, представителей духовенства, буржуазии и т․ д․ Спецучету также подлежали многие категории населения, например колчаковские беженцы, то есть лица, вернувшиеся из белой эвакуации․ Так в Верхнеуральске в 1920 г․ их обязывали регистрироваться в уездЧК в семидневный срок1․ Затем следовал арест учтенных лиц (массовый или выборочный), объявление их заложниками и помещение в пенитенциарные учреждения․ Такие акции могли быть плановыми или производились при обострении политической обстановки․
Так, в феврале 1921 г․ президиум Челябгубисполко-ма постановил поместить в концлагерь «до ликвидации… выступлений» 130 ранее амнистированных колчаковских офицеров, работавших на разных предприятиях2․ Заложников, как правило, извлекали без индивидуально определенных признаков․ Однако если имелся список дезертиров, повстанцев из конкретного пункта, то арестовывали их родственников, причем без различия пола и возраста․ В заложники попадали известные представители территории и общественники [12, с․ 41]․ Председатель ВЧК Ф․ Э․ Дзержинский рекомендовал брать лиц, представлявших интерес для противников, имеющих «вес в глазах контрреволюции» [8, с․ 194]․ В целях устрашения противника либо как акт возмездия за гибель коммунистов производили расстрел заложников․ Как правило, результаты таких акций предавали огласке, издавались специальные листовки, материалы в прессе с мотивированными пояснениями․ Формально нормативными основаниями являлись чрезвычайные распоряжения советско-партийных органов разного уровня․
С осени 1918 г․ в течение года территорию Южного Урала контролировали белые․ С возвращением советской власти в регион местные органы получили уже испытанную в других территориях практику заложничества, а не вводили ее поэтапно путем проб и ошибок․ Но первые месяцы с осени 1919 г․ мероприятия в этом направлении были редкими и осторожными․ Когда под воздействием массовых мобилизаций в РККА и продразверстки эйфория освобождения от колчаковского режима у части населения прошла, началось массовое дезертирство, недовольство военным коммунизмом и вооруженные выступления․ Однако местные руководители РКП(б) и органы ЧК заранее прогнозировали эти процессы․ Советской власти в регионе не на кого было опереться․ В информационно-аналитических сводках Челябинской ГубЧК на основании мониторинга настроений социальных групп и самых разных данных перманентно содержались выводы о политической ненадежности населения․ Недовольство продполитикой в Челябинской губернии объясняли «зажиточностью и самодеятельностью большинства крестьян, которых нельзя сравнивать с крестьянами центральных губер-ний»․ Казачество в массе было «настроено контрреволюционно», башкирское население ориентировалось на националистических лидеров, пролетариат тесно связан с деревней и не достаточно сознательный․ Массовый прием в РКП(б) часто приводил к дискредитации власти, вынужденной проводить чистки рядов партии от шкурников, приспособленцев, преступников․ Части РККА, укомплектованные из местных крестьян и казаков, также не внушали доверие в решении проблем повстанчества․ Опорой власти были ЧОН и органы ЧК․ Опыт других регионов и партийные инструкции подсказывали, что ведущий принцип управления и залог победы в малой гражданской войне — террор․ В октябре 1920 г․ в аналитической части сводки губернские чекисты констатировали, что необходима беспощадная борьба, «малейшая нерешительность приводит к гибельным последствиям․ На убийство отдельных лиц необходимо отвечать массовым истреблением всех активных сторонников бандитов»3․
Противоречивость чрезвычайных актов, исходивших от разных структур, перегибы исполнителей и частые амнистии осложняло проведение единой линии по заложничеству, особенно в регионах․ Рядовые коммунисты и местная номенклатура в условиях военного положения воспринимали его как рекомендованное партией необходимое направление своей повседневной работы по нейтрализации повстанцев и их сторонников, воздействуя на них путем ареста родственников и одно-сельчан․ Важным аспектом было стремление устрашить жителей опасных районов, удержать их в повиновении․
3 ОГАЧО Ф․ П-77․ Д․ 127․ ЛЛ․ 22, 45․
Среди особенностей реализации заложничества отметим также отсутствие ограничений на аресты (за исключением членства в партии), действия ответственных лиц по личному усмотрению, факты произвола, сведения счетов, коррупции․ В рамках операций против повстанцев заложников брали военно-политические структуры․ В марте 1920 г․ при подавлении восстания Черного Орла Военревком Уфимской губернии рекомендовал войскам: «по их личному усмотрению, брать заложников из… состоятельных и враждебных… власти жителей»1․ Вообще признаки принадлежности лиц к условной категории подлежащих арестам были относительными, четко не определялись: кулаки, жители конкретного поселка, бывшие белогвардейцы (включая насильно мобилизованных)․
Практикой заложничества обеспечивались и иные направления политики, в частности продразверстка․ В Екатеринбурге военсовет Первой Армии Труда, в подчинении которой находились продотряды и части ВОХР, 20․10․1920 г․ отметил в приказе, что за убийства прод-работников производить «взятие заложников… и расстрел части из них»2․ После убийства завполитбюро ЧК Троицкого уезда М․ Л․ Гербанова в сентябре 1920 г․, уком РКП(б) командировал начальника милиции С․ С․ Моисеева с мандатом на «репрессивные меры»․ По его приказу в станицах расстреляли десятки арестованных жителей․ Позже коллегия ГубЧК утвердила эти казни3 [11, с․ 514]․
После разгрома в конце июля 1920 г․ в пос․ Еленинском карательного отряда председатель Вехнеуральско-го укома партии Н․ Г․ Чижов арестовал 11 родственников дезертиров, а троих из них приказал расстрелять4․
В Миасском уезде после убийства председателя Ку-лахтинского станисполкома С․ Т․ Ларина было взято 27 заложников (август 1920 г․), в сентябре, по приказу председателя Миасского исполкома в Уйской станице — еще 150 человек․ В октябре в ответ на гибель комбата прод-полка А․ П․ Лапина отряд комдез арестовал десятки жителей района, в том числе стариков и женщин․ Верхнеуральская уездная комиссия по борьбе с дезертирством (комдез) 29․10․1920 г․, рассмотрев материалы дела 65 заложников (из них 27 женщин) Уйской станицы, установила, что они «фактически являются укрывателями и попустителями дезертирству» и постановила отправить их в лагерь принудительных работ, располагавшийся в городской тюрьме, до прибытия сессии губревтрибу-нала․ Однако 10 ноября в Верхнеуральске уездная комиссия по проведению амнистии (куда входили и члены сессии), заслушав доклад члена комдез, постановила всех освободить в связи с ноябрьской амнистией․ В протоколе комиссии отмечено, что заложников арестовали в связи с убийством комбата ВОХР (он оказался жив)․ Судя по фамилиям задержанных, все они являлись родственниками повстанцев Зеленой армии Миасского уезда, уже ликвидированной к этому времени․ Кроме указанных обстоятельств, редкий случай освобождения заложников без наказания (хотя некоторых из них впоследствии привлекли к ответственности по линии трибунала и ЧК) объясняется особенностями функционирования комдез․ К осени 1920 г․ данная структура в регионе действовала в пределах приказов и инструкций, оформляя всех задержанных в пределах своей компетенции․ Взятие заложников явно не входило в полномочия комдез, и ее сотрудники, зарегистрировав сопроводительные документы, как обвинительный материал, передали арестованных в тюрьму, находившуюся в ведении губотдела юстиции․ То есть заложники были оформлены в комдез и в тюрьме, имелся обвинительный материал, а значит — их нужно было привлекать к ответственности в рамках расследования в политбюро или трибунальной юстиции․ Учитывая эти факты, расстрелять их было затруднительно, и руководители силовых органов, не желая брать на себя ответственность, нашли выход решить судьбу заложников в рамках объявленной амнистии5․
Взятие заложников с последующими частичными расстрелами прошли осенью 1920 г․ в большинстве казачьих районов Челябинской губернии․ Ввиду ожесточенного сопротивления повстанцев, командующий губернского ВНУС П․ К․ Студеникин 21 октября отдал распоряжение начальникам пяти подчиненных ему бой-участков издать приказы о возложении ответственности на местных жителей, а также арестовывать заложников в местах, где обнаружатся дезертиры и «банды»6․ Уже 26․10․1920 г․ начальник Троицкого бойучастка приказал: «взять 200 заложников из кулацкого элемента…․ предупредив, что таковые будут расстреляны в случае повторных убийств совработников»7․
Во время Западносибирского восстания инициатива исходила от уездных властей․ Уже 16․02․1921 г․ Курганский исполком издал постановление о расстреле 10 «паразитов-заложников» за каждого убитого комму-ниста․ Данное решение 20 февраля санкционировал исполком губернии․ На специальном межведомственном заседании исполкома, укома РКП(б), политбюро и милиции Курганского уезда, с участием сотрудников ГубЧК по вопросу заложников 01․03․1921 г․ постановили «применить к… части из заложников террористический прием… возмездия за убитых членов РКП(б)… в целях восстановления политического равновесия»․ Расстрельный список включал 23 человека8 [5]․ Налицо акт внесудебной расправы, но с соблюдением неких процессуальных процедур: учет, арест и содержание в местах заключения, приказ в условиях военного положения, его утверждение в губернских инстанциях, коллегиальное принятие акта чрезвычайного характера․ По ряду признаков есть сходство с правосудием в губчека, включая быстроту исполнения меры, но без постановления приговора․
Дело придали огласке, однако сработало не устрашение, а эффект подражания в волостных органах власти и карательных частях․ Взятие заложников и лишение их жизни распространилось, грозя выйти из-под контроля․ В районах пример расстрела в Кургане восприняли как руководство к действию․ Так, ревком Иковской волости в конце марта возложил на население безопасность членов РКП(б) под угрозой расстрела заложников1․
Практику пытались упорядочить, по возможности облекать в процессуальные формы, хотя бы и задним числом․ 23 апреля 1921 г․ на заседании ЧелГубЧК в присутствии представителей от губюста, милиции и особого отдела ВЧК утвердили несколько приговоров․ По докладу уполномоченного Мартакова рассмотрели 10 дел, объединенных в одно производство, и в результате назначили наказание 157 соучастникам «бандиту Земли-ну»․ Большая часть из них — родственники и станичники повстанцев, арестованные как заложники в ходе ликвидации выступления в Куртамышском уезде в феврале 1921 г․ Правосудие производилось заочно․ В деле есть дополнительный протокол о расстреле бандитов, утвержденный губчека через два месяца после исполне-ния․ Помимо погибшего в бою И․ Землина, в нем указаны заложники (включая женщин), расстрелянные на месте2․
Командующие войсками могли объявить амнистию добровольно явившимся в определенный срок․ Так, начальник группы отрядов Полуяхтов 10․05․1921 г․ в с․ Ла-пушинском Курганского уезда обещал прощение сдавшимся в течение 10-ти дней и расстрел с конфискацией имущества не сложившим оружия․ Уже в ноябре, после подавления основных очагов восстания, комкавполка Тамберг в с․ Мокроусово предупредил о расстреле каждого десятого заложника из жителей сел, оказавших «приют шайкам бандитов… дома сообщников будут выжигаться» [4, с․ 119–120, 144–145]․
Приказ комиссии ВЦИК от 11․06․1921 г․ санкционировал расстрел заложников на территориях, охваченных восстаниями․ В Челябинской губернии в это время шли переговоры с несколькими повстанческими группами относительно их сдачи на определенных условиях․ Первый раунд с участием сотрудников ГубЧК не привел к компромиссу и договариваться с «бандитами» поручили губвоенкому Б․ А․ Каврайскому․ По итогам 18 июня он представил на заседании губкома РКП(б) доклад об условиях повстанцев и свои предложения: ограничение самосудов, частичная амнистия и взятие заложников из родни добровольцев «бандитов»․ С учетом политики центра его план приняли и в тот же день издали приказ о добровольной явке в течение месяца, с уточнением, что любой сдавшийся получит полное прощение и «будет отпущен вместе со взятым из его семьи залож-ником»․ Однако массовой сдачи не случилось․ Позицию повстанцев раскрывает письмо их командира М․ Вараксина, бывшего на переговорах, к Б․ А․ Каврайскому, где он называет «выходку относительно заложников чисто хулиганской»3․ По косвенным признакам встречам делегаций предшествовал обмен (возможно условный) залож-никами․ Аресты родственников, безусловно, рассматривали как аргумент на возможных переговорах в будущем․ Низкая явка подтолкнула Курганский исполком 1 августа издать новое распоряжение об арестах с угрозами расстрелов заложников․ Среди последних оказалось много женщин, а результаты — скромными, сдавшихся — «совсем малый процент»․ В сентябре уездные власти решили «по мере возможности отпускать заложников»4․
В связи появлением в соседней Башкирии повстанческой армии Г․ С․ Охранюка-Черского верхнеуральские уездные власти в мае 1921 г․ оперативно взяли в городе и уезде сотни заложников, дабы удержать казачество от поддержки повстанцев․ Нам удалось обнаружить несколько списков с сопроводительными пометками․ Судя по ним, аресты и помещение в тюрьму производили уполномоченные уездполитбюро․ В первом списке 22 заложника Верхнеуральска, во втором 43 сельских жителя (из них 11 станицы Магнитной), в третьем без номеров и указания жительства указаны 13 чел․ Всего 78 лиц обоего пола, из которых решением политбюро шестерых в июле освободили, судьба остальных не установ-лена5․ Сопроводительных документов нет, но все списки завизированы завуездполитбюро при передаче заложников в тюрьму․ Очевидно, что арестованных оформляли в обоих ведомствах, что косвенно свидетельствует в пользу показательной составляющей данной акции․
Весной-летом 1921 г․ всплеск карательных акций породил многочисленные перегибы, следствием чего стала новая форма стихийного террора — красный бан-дитизм․ В протоколах ячеек РКП(б) при обострении обстановки ставился вопрос о вооружении коммунистов․ Ячейка пос․ Смеловский (23․03․1921 г․) просила «Верхнеуральские органы партии — снабдить… оружием в потребном количестве»․ В июне 1921 г․ собрание «членов и кандидатов РКП, боевиков» другого поселка, встревоженное слухами о расправах с коммунистами, постановило: «освобождение заложников… сессией Ревтрибунала, взятых с мест ячейками, не учитывало политического настроения масс»․ Председатель ЧелГубЧК докладывал в губком: «появился красный бандитизм — выражающийся в организации низовых ячеек коммунистов… с целью похода против кулаков… спецов и ответственных работников»6․ Он проявлялся в самовольном вооружении, арестах заложников и расправе над ними․ Повод давали и уездные власти․ В мае 1921 г․ начальник раймилиции, ссылаясь на Верхнеуральское политбюро, предложил членам РКП(б) Великопетровской станицы «набрать 50 чел․ заложников»1․
Наряду с сельскими коммунистами красным бандитизмом занимались и начальники ЧОН, например В․ Ф․ Пальчиков (Полтавская станица), без суда убивший четырех человек по подозрению в дезертирстве․ Привлеченный по факту красного бандитизма, он в мае 1922 г․ был оправдан2․ По аналогичным обвинениям в 1922 г․ трибуналы и органы ГПУ привлекали к ответственности десятки работников, но наказания за свои деяния они в большинстве случаев не несли по причинам верности революции и давности произошедшего․
Заключение и вывод
Итак, заложничество являлось составным элементом красного террора как в рамках военного коммунизма, так первых лет НЭП․ Централизованное нормативное регулирование на уровне декретов отсутствовало, решения оформлялись в обстановке живого командования чрезвычайными распоряжениями региональных партийно-советских органов и приказами военного ко-мандования․ Ввиду этого, а также вооруженного противостояния, практика заложничества в регионе была весьма жестокой и вызывала значительные перегибы исполнителей․ Однако имели место и случаи освобождения заложников․ Процессуальное оформление данных акций не было стандартизировано, субъектами применения являлись разные чрезвычайные структуры, действовавшие тем не менее официально от имени государства и революции․ Массовые репрессии, включая внесудебные расправы в конце 1921 г․, породили красный бандитизм, проводниками которого нередко оказывались лица, ранее проводившие красный террор․ Повстанцы в силу ряда причин не пытались системно реализовать практику заложничества, чаще производя индивидуальный террор в отношении коммунистов․