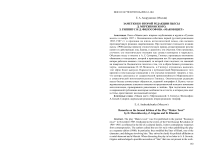Заметки ко второй редакции пьесы Д. Мережковского, З. Гиппиус и Д. Философова "Маков цвет"
Автор: Андрущенко Елена Анатольевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (61), 2022 года.
Бесплатный доступ
Пьеса «Маков цвет» впервые опубликована в журнале «Русская мысль» в ноябре 1907 г. Посвященная событиям первой русской революции 1905-1907 гг. в проекции на жизнь интеллигентной семьи, она вызвала противоречивую реакцию современников. При подготовке отдельного издания пьесы (1908) авторы провели стилистическую правку, редактирование реплик одного из действующих лиц, Бланка, и диалогов с его участием. Они стремились уточнить его политическую позицию как социал-демократа и марксиста. Обсуждая пьесу в письме к А. С. Суворину, Гиппиус признавала возможное обвинение в «тенденции», которой в произведении нет. Но при редактировании авторы работали именно с тенденцией, за которой стоял подтекст, не лежащий на поверхности. Выдвигается гипотеза о том, что в образе Бланка усиливались черты, напоминающие Н. М. Минского, и Гиппиус стремилась выписать этот образ более выпукло. Параллели с публицистикой Мережковского того времени и текстуальные совпадения с его статьями позволяют говорить о том, что авторы сдвигались от дидактической прямолинейности Мережковского к символической многозначительности Гиппиус. Окончательная редакция пьесы больше соответствует образности, заданной эпиграфом А. Белого, чем ее журнальная редакция, а акценты смещены на представителей молодого поколения интеллигенции, примиривших революцию и любовь. При подготовке пьесы к современной публикации некоторые особенности ее текста, о которых речь идет в статье, представляют несомненный интерес.
«маков цвет», мережковский, з. гиппиус, философов, а. белый, суворин, журнальная редакция, вторая редакция, эпиграф
Короткий адрес: https://sciup.org/149140446
IDR: 149140446 | DOI: 10.54770/20729316-2022-2-163
Текст научной статьи Заметки ко второй редакции пьесы Д. Мережковского, З. Гиппиус и Д. Философова "Маков цвет"
Пьеса «Маков цвет» написана Д. С. Мережковским совместно с З.Н. Гиппиус и Д. В. Философовым в 1907 г. во время их совместного пребывания во Франции. Через несколько месяцев после публикации А. Измайлов задался вопросом о ее авторстве: «Ум хорошо. Два лучше. А три, по-видимому, совсем плохо. <...> Чьего участия здесь больше? Какова мера участия самого Мережковского? Гадать об этом нет ни особенного интереса, ни безошибочных данных. Но вот один простой логический подсказ: Мережковский бесспорно талантлив. Все, что он писал, было в разной мере согрето огоньком его таланта. Отчего же теперь подписанная, между прочим, и его именем работа вышла из рук вон плохою?» [Измайлов 1908, 2, 3]. Измайлов полагал, что созданная по шаблонам «литературных посредственностей» пьеса отдает «суздальщиной», под которой Мережковский напрасно поставил свою фамилию. Устанавливать меру его участия в создании пьесы едва ли плодотворно: значимым является сам факт соавторства. Но наличие второй редакции пьесы позволяет говорить о том, как проблематика, связанная с Мережковским, вытеснялась концепцией, восходящей к Гиппиус.
А. Л. Соболев, положивший начало изучению «Макового цвета», полагает, что «по замыслу Гиппиус (безусловно, именно она была инициатором этого проекта), пьеса должна была стать еще одним, на сей раз — художественным свидетельством жизнеспособности тройственного союза» [Соболев 1992, 364]. В статье воссоздается историко-литературный и биографический контекст, обозначаются прототипы некоторых действующих лиц. Соболев пишет, что для Гиппиус «драма из всех родов литературы могла представлять наибольший простор для свободного изложения определенной идеи. Именно из-за этого каждое из немногих выступлений Гиппиус на этом поприще хронологически совпадает с моментом наибольшей ее критической и философско-публицистической активности» [Соболев 1992, 364]. Это относится и к Мережковскому, пьесы которого также выражали идеи, которым посвящены его произведения другого рода, и писались по материалам, необходимым ему для статей или романов. Оба в драматургии оставались верными себе: она проявляла высокую художествен- ность, он — концентрированный интеллектуализм и «книжность».
В преамбуле к публикации переписки Гиппиус с Философовым Соболев писал, что в фабуле пьесы «можно различить некоторые параллели с собственными судьбами Мережковских и Философова, что ставит ее в один ряд с характерными для Гиппиус случаями художественного осмысления биографических коллизий. Но главный смысл ее написания, по всей вероятности, состоял в манифестации жизнеспособности союза Мережковских и Философова не только в бытовом, религиозном или публицистическом смысле — но и в сугубо художественном. В этом смысле принципиально, что помимо трех авторов, указанных на титульном листе, в книге анонимно присутствует еще один — Андрей Белый, чье неподписанное стихотворение открывает пьесу» [Переписка 3. Н. Гиппиус с Д. В. Философовым... 2018, 615].
О том, что ведущая роль в создании пьесы принадлежит именно ей, Гиппиус писала А. С. Суворину 10 (23) февраля 1908 г. из Парижа. «Пьеса “коллективная”, но больше всего моя. Я отлично знаю, что она не удалась; не пройдя через несколько дурных пьес, не напишешь и хорошей» [Письма 3. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского к А. С. Суворину... 2018, 92]. По мнению С. В. Сапожкова, в пьесе выразилось личное переживание Гиппиус, преодолевавшей отношения с Н. М. Минским: «И на сей раз демонстративного разрыва не понадобилось. Все совершилось естественно, само собой. “Сошлись — и не сходились. Сошлись — и не увидели друг друга! И это последнее, когда — было и как бы не было, сошлись — и не увидели...”. Так словами Сони, героини из автобиографической драмы “Маков цвет” (1908), Гиппиус подвела итог своему метафизическому роману с Минским» [Переписка3.Н.Гиппиус с Н.М.Минским... 2018, 119]. Сапожков напоминает о том, что Минский был прототипом Максима Самойловича Когена, персонажа, который уже в ремарках «получает откровенно пародийную характеристику» [Переписка 3. Н. Гиппиус с Н. М. Минским... 2018, 121]. Однако характер переработки текста пьесы дает возможность предполагать, что его черты привнесены в характеристику еще одного персонажа.
Вскоре после журнальной публикации в письме к Суворину Гиппиус утверждала, что в пьесе нет «тенденции»: «В ваш театр, признаться, думали предложить, но побоялись, что будет усмотрена “тенденция”, — которой, впрочем, нет. Теперь же я просто прошу вас прочесть ее и, помимо всяких тенденций, сказать мне, есть ли в ней сцена, что правильно, что скверно» [Письма 3. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского к А. С. Суворину... 2018, 92]. Возможно, это была попытка убедить Суворина в том, что пьеса безопасна для постановки в его театре. Учитывая, что в январе 1908 г. Мережковский тоже пытался привлечь его внимание к этому произведению, — «У нас есть еще пиеса из современной жизни — “Маков Цвет” — напечатана в Ноябре 1907 г. в “Русской Мысли”. Не читали ли Вы этой пиесы?» [Письма 3. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского к А. С. Суворину... 2018, 90], — это предположение представляется небезосновательным.
Между тем во второй редакции пьесы, опубликованной в 1908 г. отдельным изданием, ощутима попытка определиться именно с «тенденцией», выраженной в образе Бланка, и уточнить его характеристику
Современники, воспринимавшие пьесу как реалистическое произведение, обратили внимание на этот персонаж. Е. Колтоновская писала, что интеллигентский идеализм «здоровыми прямолинейными людьми вроде еврея Бланка <.. .> характеризуется, как простое “неуменье жить”» [Ел. Кл. 1908, 6]. В. Боцяновский полагал, что пьеса посвящена судьбе русских эмигрантов, среди которых не стоило выделять евреев. «И другой герой пьесы еврей, Коген, правда, не так ярко, как Соня, испытывает то же чувство оторванности и полного одиночества. Выделять Бланка было совершенно излишне» [Боцяновский 1908, 3]. В. Кранихфельд противопоставил здравый смысл Бланка романтизму действующих лиц: «<...> среди этих издерганных, изнервничавшихся людей еврей Бланк является единственным носителем социал-демократического миросозерцания. <...> Бросьте вашу романтику, — говорит еврей Бланк. — Вы, русские, умеете только умирать, а жить... жить вы еще не научились. Вы непременно хотите быть героями, и если это не удается вам, вы киснете в тупом равнодушии» [Кранихфельд 1908, 92, 93]. Идеологическую весомость этого персонажа ощущали не только критики. Редактируя реплики Бланка и диалоги с его участием, авторы двигались от изображения противостояния разных групп интеллигенции в годы первой русской революции в эстетико-религиозную сферу, когда общественные потрясения приобретали вид метафизических исканий и ими обуславливались.
Переработка коснулась, прежде всего, I действия пьесы. В диалоге об Андрее Бланк говорит, что тот — «неискоренимый декадент-романтик. Революционство старого пошиба. Чисто русская черта. Никакой выдержки. Все хотят сразу, усилием героев. Какой-то обратный аристократизм. Теперь дело не за героями, а за массами» [Гиппиус, Мережковский, Философов 1908, 30]. Соня признается, что ей в этом «трудно разобраться»: «А только Андрея я понимаю. Без порыва, без веры в себя ничего не сделаешь. Себя потеряешь — начнутся будни, серые будни. Андрей — человек праздничный. Да и вся Россия из будней теперь вышла» [Гиппиус, Мережковский, Философов 1908, 30]. В первой редакции пьесы ответная реплика Арсения Ильича включала в себя такую характеристику Бланка (отметим исключенный во второй редакции текст курсивом):
Нет, Бланк прав. Я с ним во многом не согласен, но мне ясна его мысль, схема. У него, по крайней мере, все на ногах держится. Он признает культурную работу, путь подготовительной организации. У него есть своя философия истории. У Андрея революционный угар, запой, когда человек не владеет собой, сам не знает, чего хочет [Мережковский, Философов, Гиппиус 1907, 103].
Здесь акцент с характеристики Бланка переносится на восторженную устремленность Андрея. Примыкающая реплика Сони, — «Ах, папа, папа.
Пускай он хочет того, чего нет на свете. Ведь в этом-то и святость человека, вся его внутренняя правда» [Гиппиус, Мережковский, Философов 1908, 30], содержащая реминисценцию из знаменитого стихотворения Гиппиус «Песня» (1893), — акцентирует внимание на несбыточности, неосязаемости желаний. Следующая реплика Бланка отредактирована незначительно:
Красиво, Софья Арсеньевна, только силы в этой красоте мало. Гораздо легче совершить геройский поступок, чтоб весь мир ахнул, пожертвовать собой и погибнуть, чем исподволь, изо дня в день, с горечью во рту добиваться далекой цели. Русские умирать умеют, а жить... жить еще не умеют. Вы можете действовать только в опьянении. Андрей или на баррикады пойдет, или впадет в тупое равнодушие. Середины нет [Гиппиус, Мережковский, Философов 1908, 31].
В реплике возникает противопоставление еврейской этики русской. (К слову, из реплики Андрея была исключена аллюзия на элементы еврейского обряда: «О счастливом браке мечтаешь! как бы и свою безликую микву завести... Соня, да разве ты не чувствуешь, что, кто в эту микву попадет, тому крышка» [Гиппиус, Мережковский, Философов 1908, 51]). Но особый интерес реплика Бланка представляет потому, что она текстуально совпадает с фрагментом статьи Мережковского «Цветы мещанства».
Статья была напечатана в газете «Речь» в феврале 1908 г, вошла в сборник «В тихом омуте» (1908) и в его составе — в оба полные собрания сочинений писателя. Рассказывая о знакомстве с Жоресом, Мережковский приводит свой разговор с ним: «У вас, русских, все — порыв. Вы готовы прыгнуть в окно и сломать себе шею, вместо того, чтобы спуститься по лестнице. Вы умирать лучше умеете, чем жить...» [Мережковский 1908,2] Совпадение не означает, что диалог с Жоресом восходит к реплике Бланка. Скорее всего, мы имеем дело с неискусной попыткой типизации. Тем более, что в слова Жореса вмонтированы слова самого Мережковского из ответа на письмо А.Б. [А. Бенуа]:
Можно так определить: Запад, подойдя к окну, из которого видна бесконечность, смотрит в него — и доволен, и больше ему ничего не надо. А Восток, подойдя к тому же окну, рано или поздно непременно почувствует желание выскочить из окна. «Это нелепо, — говорит Запад, — выскочишь из окна, шею сломишь; есть двери и лестницы, по которым можно выйти из дому» [Ответ Д. С. Мережковского г. А.Б. 1903, 159].
Видимо, и диалог Арсения Ильича, Сони и Бланка в пьесе, и диалог с Жоресом в статье «Цветы мещанства» являются продуктом интеллектуального конструирования Мережковского. В это время он активно публиковался. Статья «О воскресении» (1907) вошла в первую редакцию статьи «Меч», открывавшую сборник «Не мир, но меч. К будущей критике христианства» (1908); в февральском и мартовском номерах «Русской мысли» за 1907 г. печаталась статья «Революция и религия», вошедшая под назва- нием «Religion et Revolution» в сборник Мережковского, Гиппиус и Фило-софова «Le Tsar et la Revolution» (1907), а затем — под первым заглавием — в сборник «Не мир, но меч»; в августовской книге «Русской мысли» появилась статья «Последний святой», а в «Веке» — «Ответ на вопрос», представляющая собой ответ на анкету «Ге Mercure de France». В его статьях революция, декадентство и интеллигенция являются разными аспектами темы, тогда занимавшей Мережковского. В каком-то смысле действующие лица пьесы выражают одну из этих проблемных доминант, а в образе Бланка воплощена мысль о непонимании метафизического смысла революционной борьбы.
Наибольшей переработке подверглись реплики Бланка в третьем действии пьесы, где происходит его объяснение с Соней. Изменения проводились с целью углубить характеристику Бланка как проводника социал-демократической идеологии. В новой редакции также появилось указание на то, что мудрость Бланка обусловлена его национальностью (отметим курсивом текст, вписанный во вторую редакцию):
Бланк. Все рушится... а хоть бы и так? Надо глядеть гибели прямо в глаза, не бравируя, но и не ужасаясь. Гибель... — смотрят же ей спокойно в глаза сотни товарищей. В том-то и выдержка, чтоб не соблазняться гибелью и делать по-прежнему дело жизни. Смерть? но упорство моей веры в то дело, которому служу, — это ли не победа над смертью? Терпения у тебя, Соня, нет. Нервы расходились, вот и я тебе стал казаться каким-то серым и тусклым. Ты бессознательно вспоминаешь все банальности, все общие места, которые нас, социал-демократов, рисуют в глупом и пошлом виде, и относишь все это ко мне. И ты незаметно отходишь от меня. Ты не хочешь понять, что скрывается под холодной, подчас слишком трезвой внешностью заурядного партийного работника. Говорить о переживаниях не значит еще их переживать, помни это. Ты меня не понимаешь только потому, что я давно пришел к трезвости, давно научился молчать обо всем, что привело меня к упорному, трезвому служению делу борьбы. Я редко высказываюсь, сейчас я говорю с тобою, быть может, в первый раз. Слушай. Из бесконечных далей видны только трезвые и простые вещи. Все же иное — поддельная глубина, истерика. Не глубина это, а болото. Если я отвечу тебе на твои сомнения просто и банально, что у тебя детское нетерпение и что история делается не сразу, знай — в моих словах мудрость еврея. В нас есть особая мудрость. А у тебя, Соня, нет мудрости. Порыв, сменяющийся отчаянием. Теперь нам нужна страшная выдержка, страшное терпение [Гиппиус, Мережковский, Философов 1908, 117-118].
В этой редакции монолога утверждалась политическая и национальная обусловленность характеристики Бланка.
В его следующую реплику вставлена отсылка к «Анти-Дюрингу» Ф. Энгельса: «Бланк. Я до конца жизни буду бороться за счастье других, за угнетенный народ мой, за свое счастье и за тебя тоже. Да, Соня, за тебя. Чтобы ты победила уныние свое, полюбила жизнь. Она прекрасна. В ней святая борьба. Человек победит судьбу. Сильный и светлый вступит он в царство свободы из царства необходимости...» [Гиппиус, Мережковский, Философов 1908, 121]. Таким образом, политическая позиция Бланка в новой редакции пьесы становится позицией не общественного деятеля вообще, а марксиста. В его заключительной реплике, однако, снимается прямолинейное и несколько близкое к народническому противопоставление борьбы за социальную справедливость дворянскому прекраснодушию (курсивом выделен текст реплики во второй редакции).
Что это? Какой усталый романтизм! Боязнь жизни. Точно русская революция случайна, беспочвенна. Да она сама —роскошный цветок, который стоит всех твоих васильков. В тебе, Соня, не трезвый разум говорит, а просто голос разрушающегося дворянства. Социальная революция возвратит к природе, к твоему же васильку, сотни тысяч людей, которые теперь закабалены на фабриках и заводах, оторваны от чистого воздуха, от жизни. Или, пожалуй, к сентиментальному толстовству, а мы хотим взять от культуры всю ее правду. Васильки, маки! Видит их, что ли, русский мужик? И не думает. Он рубит леса, живет в голоде, в грязи да в пьянстве. О васильках теперь помнят лишь барышни, отдыхающие летом в своих поместьях. Пускай себе старые васильки да маки погибают. Вырастут новые цветы, доступные всему человечеству, а не одним избранным [Гиппиус, Мережковский, Философов 1908, 200].
Новая редакция реплики стала короче и теснее связана с мотивами эпиграфа к пьесе. Принадлежность Бориса к поколению Сони и Андрея подчеркивается его репликой об искусственности, нежизненности цветов Бланка: «Да не хочу я этих новых! Противные они у вас какие-то, бумажные» [Гиппиус, Мережковский, Философов 1908, 200].
Вторая редакция «Макового цвета» свидетельствует о том, что при подготовке отдельного издания пьесы авторы стремились уточнить политическую позицию Бланка и усиливали значимость образов Андрея, Сони и Бориса, выражавших невысказанность чаяний и недостижимость подлинной гармонии. Это в большей мере соответствовало характеру творчества Гиппиус, чем Мережковского, что отметил А. Измайлов: «<.. .> так и чувствуется “перо” 3. Гиппиус. Может быть, я и ошибаюсь, но в таком случае один из участников в написании пьесы ассимилировался с автором “Зеркал” до последней тождественности» [Измайлов 1908, 3]. Однозначно утверждать, что при переработке снимался текст, принадлежавший именно Мережковскому, невозможно. Но по характеру общей правки уместно предположить все же преобладание концепции Гиппиус. Не случайно ее имя перенесено на первое место в авторах пьесы. Это справедливо еще и потому, что Мережковский не был умелым драматургом. Обсуждая свою новую пьесу с Вл. И. Немировичем-Данченко, он признавался: «Я ребячески неопытен в театральной технике, и много могу напутать, ложно внушить, <.. .> Словом, я больше забочусь, чтобы мне и моим единомышленникам понравилось, а не всем или большинству» [Музей МХАТ. Арх. Н,-
Д. № 4928/2]. Стремление обусловить конфликт не текущей общественно-политической повесткой, даже если она близка единомышленникам, а вневременным и вечным представляется более органичным творческому видению Гиппиус, чем Мережковского.
Причины, по которым реплики Бланка были переработаны, можно искать также в области автобиографической. Как представляется, в этом образе Гиппиус могла укрупнить узнаваемые черты. Во второй редакции подчеркивается, что Бланк — социал-демократ, марксист, «партийный работник» и еврей, что напоминает Минского, сотрудничавшего с большевиками, осенью 1905 г. ставшего редактором «Новой жизни», впоследствии перешедшей под руководство Ленина. В позднейших воспоминаниях Гиппиус писала: «Был ли Минский большевиком? Конечно, нет. Он большевизма и не знал, в России во время революции не был, но... он к нему тяготел неудержимо, вероятно потому, что был еврей» [Гиппиус 2019, 173]. Карандашом исправлено: «Он при большевиках в России не был. Если в 1905 г. писал у Ленина, то для “надстроек” своего мэонизма, и Ленин, в конце концов, его из газеты своей высадил. Но Минский к большевизму тяготел неудержимо, вероятно потому, что был еврей» [Гиппиус 2019, 173]. Этим замечанием можно объяснить, почему во второй редакции пьесы уточнялось именно это обстоятельство («в моих словах мудрость еврея»), совершенно несущественное, как показывает первая редакция, для содержания монолога. Обратим внимание и на этимологию фамилии персонажа. Бланк (фр.) — «пустое место», «пробел в документе». Еще в начале века Гиппиус говорила о религии Минского и пять раз использовала слово «пустое» и производные от него (например, его религия «для нас — просто ничего, пустое место» [Гиппиус 1999, 178-179]).
Завершая свою рецензию, А. Измайлов писал: «Как случилось, что под этою социал-демократическою кустарною дешевкой очутилось имя Мережковского, — совершенная загадка. Вероятно, ее не придется решать будущему критику Мережковского, потому что эту суздальскую подделку на запрос момента, конечно, он не введет в собрание своих настоящих литературных работ» [Измайлов 1908, 3]. Действительно, пьеса не печаталась в полных собраниях сочинений Мережковского, но при подготовке ее к публикации в составе очередного тома Собрания сочинений писателя, работа над которым ведется в ИМЛИ им. А. М. Горького РАН и ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, некоторые особенности ее текста требуют пристального внимания.
Список литературы Заметки ко второй редакции пьесы Д. Мережковского, З. Гиппиус и Д. Философова "Маков цвет"
- Боцяновский В. Усталые // Русь. 1908. № 31. 1 (14) февраля. С. 3.
- Гиппиус З., Мережковский Д. и Философов Д. Маков цвет. Драма в 4-х действиях. СПб.: Изд. М. В. Пирожкова, 1908. 216 с.
- Гиппиус З. Н. Дневники: в 2 кн. Кн. 1 / Вступит. статья и сост. А. Н. Николюкина. М.: Интелвак, 1999. 732 с.
- Гиппиус-Мережковская З. Н. Собрание сочинений. Т. 16 (дополнительный). М.: Дмитрий Сечин, 2019. 592 с.
- Ел. Кл. З. Гиппиус, Д. Мережковский и Д. Философов. Маков цвет. СПб., 1908. Изд. Пирожкова. Ц. 1 р. // Речь. 1908. № 139. 12 (25) июня. С. 5.
- Измайлов А. А. Что нового в литературе? // Биржевые ведомости (утр.). 1908. № 10284. 5 января. С. 2-3.
- Кранихфельд В. П. Литературные отклики // Современный мир. 1908. № 1. Отд. II. С. 89-95.
- Мережковский Д., Философов Д. и Гиппиус З. Маков цвет. Драма в 4-х действиях // Русская мысль. 1907. Кн. 11 [Ноябрь]. С. 94-164.
- Мережковский Д. Цветы мещанства // Речь. 1908. № 35. 10 (23) февраля. С. 2-3.
- Ответ Д. С. Мережковского г. А.Б. // Новый путь. 1903. № 2. Из частной переписки. С. 159-160.
- Переписка З. Н. Гиппиус с Н. М. Минским (1891-1912) / Вст. ст., примеч. С. В. Сапожкова; сост. и подгот. текстов А. В. Сысоевой, С. В. Сапожкова // Литературное наследство. Т. 106. Кн. 1. М.: ИМЛИ РАН, 2018. С. 108-397.
- Переписка З. Н. Гиппиус с Д. В. Философовым (1898-1918) / Вступ. ст., подгот. текста и комм. А. Л. Соболева // Литературное наследство. Т. 106. Кн. 1. М.: ИМЛИ РАН, 2018. С. 586-857.
- Письма З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского к А. С. Суворину (1891-1911) / Подгот. текста, вступ. статья и комм. Н. А. Богомолова // Литературное наследство. Т. 106. Кн. 1. М.: ИМЛИ РАН, 2018. С. 17-107.
- Соболев А. Л. Мережковские в Париже (1906-1908) // Лица. Биографический альманах. 1. СПб.; М.: Феникс; Atheneum, 1992. С. 319-371.