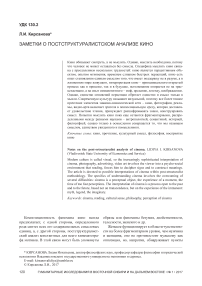Заметки о постструктуралистском анализе кино
Автор: Кирсанова Лидия Игнатьевна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 1 (39), 2017 года.
Бесплатный доступ
Кино обязывает смотреть, а не мыслить. Однако, мыслить необходимо, потому что человек не может оставаться без смысла. Специфика мыслить кино связана с преодолением нескольких трудностей: кино является перцептивным объектом, опытом мгновения, временем слишком быстрых перцепций, кино есть опыт становления единым смыслом того, что имеет поддержку не в разуме, а в жизненном мире живущего, интерпретация кино - принципиального открытый процесс как в прошлое, так и в будущее, истолкование опирается не на трасценденцию, а на опыт имманеннтного - миф, предание, легенду, воображаемое. Однако, единство мгновений перцепции обретает единство и смысл только в мысли. Современную культуру называют визуальной, поэтому все более тонкое прочтение элементов знаково-символической сети - кино, фотографии, рекламы, видео-арта включает зрителя в психосоциальную среду, которая доставляет удовольствие чтения, принуждает расшифровывать знаки, конструировать смысл. Попытки мыслить кино пока еще остаются фрагментарными, распределенными между разными науками - антропологией, семантикой, историей, философией, однако только в осмыслении совершается то, что мы называем смыслом, единством увиденного и помысленного.
Кино, прочтение, культурный смысл, философия, восприятие кино
Короткий адрес: https://sciup.org/170175688
IDR: 170175688 | УДК: 130.2
Текст научной статьи Заметки о постструктуралистском анализе кино
Композиционность феномена кино всегда предполагает, с одной стороны, определенного рода синтез всех его содержательных смысловых единиц, а, с другой стороны, постструктуралистский анализ константных для всего кинематографа мотивов. В этой связи могут быть упомянуты образы или феномены безумия, двойственности, телесности, женского и др.
Женское функционирует в области чувственности на более фрагментарном уровне, чем мужчина и женщина, оно не противостоит мужскому как оппозиция, но, напротив, обнаруживает пункты перехода между ними. Женское или, как определял его Ф. Гваттари, становление женщиной безразлично к своему субстрату – природе мужчины и женщины [3, с. 12-13]. Женское находит «свое» в среде детскости, гомосексуальности, в проявлениях трансвестизма, в среде художественного и эстетического авангарда, в «агентах» эстрадных шоу и т.п.
На уровне состояния сознания и сенсорности женское вовлечено в иные формы становления, отклоняющиеся от фаллоцентризма, утратившего свою чувственность, а потому всегда оказывается немного на периферии, на краю психологической, моральной и социальной нормативности, зачастую сказываясь «больным» – невротическим, психотическим, шизоидным. Объектом внимания современного кинематографа оказываются «пограничные» состояния сознания (М. де Вон «В моей коже», К. Брейя «Романс», «Сцены интимной жизни», М. Хайнеке «Пианистка» и др.), т.е. те организации либидо, которые позволяют ускользнуть от власти репрессивного социума, которые расцениваются как средство спасения наряду с алкоголем, наркотиками, галлюциногенами и т.п.
Женское подвергалось меньшим репрессиям в культуре со стороны чувственности, более свободно выступало через социальные коды в своих претензиях на сентиментальность, являлось хранительницей становления сексуального тела. Однако женское нельзя путать с женщиной, как она выступает в семье, в паре, в среде сородичей. Напротив, настаивание на априори женственности может привести женщину к разрыву с семьей, социумом, более того – разрыву внутри нее самой – невротическому, шизоидному.
Не следует также искать «женское» только в кино, которое снимают женщины или героиней которых является женщина, женское отыскивается и у мужчин-гетеросексуалов, особенно у тех, кто объявляет своей темой любовь, эту вечную тему искусства. Любовь относится к числу таких крупных и неопределенных понятий как и женское, включает не только гетеросексуальные и гомосексуальные составляющие, но и садо-мазохистские (Р.В. Фасбиндер «Марта» и др.), трансвестийные (П. Альмадовер «Все о моей матери») любовные истории идиотов (Ларс фон Триер «Идиоты», Ли Чан-Дон «Оазис») и др. Современное кино является дорогостоящей исследовательской лабораторией, которая буквально «изучает» то, что можно назвать микрофизикой женского (К. Брейя «Сцены интимной жизни»).
Двойственность содержания современного кино, обратившегося к картинам болезней созна- ния (интерес к «расчлененному» телу себя исчерпал в американских боевиках), заключается в том, что благодаря ему обыватель-интеллектуал получает доступ к созерцанию того, чем он в какие-то мгновения жизни или в каких-то состояниях сознания (опьянения, например) себя знает, т.е. получает возможность выступания в свое «человеческое слишком человеческое» (Ф. Ницше). С другой стороны, эстетическое, всегда работающее на преувеличении, испытывает границу сознания и безумия, т.е. усиливает симптом, добиваясь сочувствия, сопереживания и иных форм бессознательного примыкания. Искусство кино, оставаясь формой возвышенного, эксплуатирует идею катарсиса – ощущения с помощью страстей, пытаясь восстановить инстинктивную силу чувств, присущих человеку, в которых он нуждается для сохранения в себе человеческого. Чтобы сохранить жизнь, нужно не только мыслить, но и страдать. Однако кино преобразует чистую чувственность в предъявляемую чувственность, т.е. формирует позицию наблюдателя, отчужденного от своих собственных переживаний, тем самым реализуя схему психоаналитика. Провоцируя сверх-чувственность посредством эстетических и художественных эффектов (цвет, звук, музыка, крупный план, монтаж и др.), кино возвращает субъекту его знаемое как воспоминание, как память, как вытесненное непереносимое переживание, т.е. вменяет зрителю схему клиента. Этот тезис можно усилить: зритель сам «в себе» себе – клиент, а будучи приобщенным к символу, зрительному образу, является «для себя» психоаналитиком [5].
Еще одно замечание, касающееся современного кино, заключается в том, что оно опирается на дискурс тела, т.е. такую реальность, которая приобретается через вкус, прикосновение, слух, зрение, обоняние, всю целостность сенсорного тела. Крупный план кинематографа гипертрофирует конечные, проводящие точки этих ощущений – нос, глаза, уши, кожу и др. Не стоит усилий вспомнить кричащий рот, расширенные глаза, поры кожи, т.е. поверхности тела, усиленные «техническим» глазом кинокамеры. «Вооруженный» взгляд оператора, преувеличивающий каждую из точек поверхности тела, выводит созерцателя на до-линг-вистический уровень, к тем значениям, смыслам, которые «не воспитаны» речью, не прошли путь рационального и культурного приручения [4, с. 201-203]. Однако, оставаясь искусством, формой культуры, кино обладает способностью не только возбуждать чувственный опыт или апеллировать к нему как к возможному прошлому, но и уравновешивать его в символическом созерцании посредством визуальных, аудиальных и др. образов, т.е. части того смутного, неуловимого, того, что мы называем мгновением жизни, символ конституирует и закрепляет как достоверное и распознаваемое. Кино напоминает психоаналитическую песочницу, в которой закопаны всякие непонятные вещи – обрывки воспоминаний, смутные образы, неуловимые запахи, шорохи и звуки, а на поверхности движутся вполне знакомые и распознаваемые фигурки – лица, сюжет, музыкальная фраза и т.п., все те символы, благодаря которым за этим хаосом бессознательного можно наблюдать, созерцать, анализировать, а в случае необходимости – контролировать.
Кино, как и культура в целом, создают предохранительный клапан для иррациональных импульсов, которые иначе были бы губительны для человека. С помощью кино обретает воплощение блестящая нарциссическая иллюзия: современный человек восхищается, получает удовольствие от тех гадостей, которые он делает (садирует, пер-версирует, фетешизируется и проч.) воплощает свои самые мерзкие фантазии, дает разгул своему воображаемому (Ф. Озон «Крысятник», «Криминальные любовники» и др.), но сохраняет достаточную степень контроля посредством эстетической формы (символы – звуковые и зрительные образы взаимно уравновешивают друг друга, гармонизируя чувственность, сохраняя условия для целостности и смысла). Именно в этом пункте, в случаях хорошего кино, природа человеческой чувственности – неодолимая, брутальная, устрашающая наталкивается на препятствие – необходимость быть эстетической формой. Неконтролируемые формы чувственности вызывают чувство страха, а инстинкт самосохранения ведет к их символизации, в том числе – посредством кинематографа. В символе запечатлены не знания человека, не логосы вещей, а опыт, который ведет от одного человека к другому, накапливается, отсекает чрезмерное, придает значения и не дает погибнуть. Хорошее кино – это тайна найденного символического синтеза, превращающего страхи в выражение лица на экране (И. Бергман «Персона»). Именно это позволяет рассматривать кино как научение опыту видеть и понимать мир, других людей и самого себя [1; 2].
Список литературы Заметки о постструктуралистском анализе кино
- Барт Р. Камера lucidа. Комментарий к фотографии. М.: Ad Marginem, Москва,1997.
- Барт Р. Фото-шоки//Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 61-64.
- Делез Ж. Кино. Кино 1. Образ -движение. Кино 2. Образ -время. М.: Ad Marginem, 2004.
- Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб.: Ювента, Наука, 1999.
- Юберсфельд А. Из книги «Читать театр». Введение//Как всегда -об авангарде: Антология французского театрального авангарда. М.: ТПФ «Союзтеарт», 1992. С. 190-196.