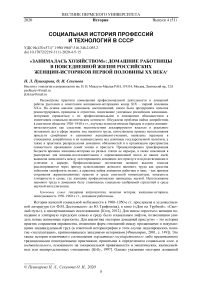"Занималась хозяйством": домашние работницы в повседневной жизни российских женщин-историков первой половины ХХ века
Автор: Пушкарева Н.Л., Секенова О.И.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Социальная история профессий и технологий в СССР
Статья в выпуске: 4 (51), 2020 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрены практики совмещения профессиональной деятельности и домашней работы русскими и советскими женщинами-историками конца XIX - первой половины ХХ в. На основе анализа дневников, воспоминаний, писем была предпринята попытка реконструировать принципы и стратегии, помогавшие успешным российским женщинам-историкам справляться с их профессиональными и домашними обязанностями в изменчивом социально-политическом контексте. Обсуждена проблема найма домработниц в советском обществе 1920-1940-х гг., изучены психологические барьеры и страхи женщин-интеллектуалок как следствие несоответствия декларируемого властью и реального положения дел в сфере защиты лиц наемного труда, сопоставлены приемы использования прислуги семейными и одинокими женщинами-учеными, выявлены перемены в отношениях домработниц и их нанимательниц под влиянием государственной политики, a также в практиках распределения домашних обязанностей и в организации пространства совместного проживания семей хозяев и прислуги. Проанализирована трансформация бюджета времени женщины-историка на разных этапах ее карьеры, а также изменения в распорядке дня женщин-исследовательниц с дореволюционной эпохи до наших дней, выявлена зависимость между делегированием домашних дел прислуге или родственникам и успехами в карьере. Профессиональные достижения женщин высших классов рассматриваются через призму использования женского наемного труда как средства избегания «конфликта полов», а практика найма домашних работниц и нянь - как признак сохранения дореволюционных практик в среде советской номенклатуры, показатель элитарности в семье, где женщина профессионально занималась наукой. Использование наемного труда в домашнем быту становилось социально одобряемой стратегией в среде научной интеллигенции.
Гендерная антропология, женская история, женщины-историки, повседневность 1950-1960-х гг, домашние работницы
Короткий адрес: https://sciup.org/147246335
IDR: 147246335 | УДК: 94(470+571)" | DOI: 10.17072/2219-3111-2020-4-5-15
Текст научной статьи "Занималась хозяйством": домашние работницы в повседневной жизни российских женщин-историков первой половины ХХ века
прислуги» изучена скорее со стороны «золушек», работавших на своих нанимательниц [ Самарина , 2019], чем со стороны «хозяек» [ Веременко , 2019].
Совмещение интеллектуального труда и домашних обязанностей – проблема, знакомая всем женщинам, занятым в сфере науки. Как разрешали ee интеллектуалки прошлого, русские и советские женщины-историки столетие и больше назад? Было ли ощутимым воздействие на этот процесс событий второй половины XIX – начала XX в. – обеспечения доступности высшего образования для женщин, рождения женского движения, активистки которого выступали за предоставление женщинам гражданских прав, в том числе права заниматься наукой? Как социально-политический контекст влиял на режим дня и распределение времени тех представительниц интеллектуального труда, кто решился считать свою научную работу важной составляющей личностной самореализации? И заметны ли особенности использования услуг домработниц в семьях русской научной интеллигенции? Поскольку материальное благосостояние и распределение благ в семьях российской и советской научной интеллигенции на рубеже XIX и ХХ вв. и в ранее советское время уже отчасти исследованы [ Лебина , Чистиков , 2003; Пушкарева , 2016], стоит рассмотреть частный случай социальной истории российского прислужничества – практику распределения трудовых и экономических ресурсов между членами семьи, влияние института домработниц на образ жизни интеллектуалок первой половины ХХ в. В данной статье речь пойдет о практиках взаимодействия женщин-историков и прислуги в первой половине ХХ в. как о частном примере, позволяющем судить о повседневных проблемах российских женщин-ученых. В данном случае необходимо понимать, что эгодокументы «хозяек» являются в первую очередь нарративным источником, содержащим информацию о том, как нанимательницы относились к своим домашним работницам, какими принципами руководствовались при распределении домашних обязанностей и что не удовлетворяло их в отношениях с прислугой, тогда как о мыслях самих домашних работниц в интеллигентных семьях мы знаем только со слов их хозяек.
Возникнув в древности в результате отделения рабочего места от места проживания, домашний труд при разделении работы на видимую , вознаграждаемую, и невидимую , принимаемую как должное, попал во вторую категорию. Он оставался «невидимым» (a подчас и непро-говоренным), пока его выполнял кто-то из членов семьи [ Burnett , 1974, p.135], как правило, женщина. И со времени возникновения частной собственности высокий достаток был основанием для найма помощников в работе по дому. Традиция предполагала большее взаимодействие с этими помощниками именно женщин [ Ярская-Смирнова , 2002, с. 88–90; Веременко , 2013], ee следствием оставалось распределение семейных ролей в привилегированных сословиях русского общества и на рубеже XIX и XX вв., в том числе в семьях российских ученых. Жены больше, чем их мужья, взаимодействовали с прислугой; эгодокументы свидетельствуют об «особости» взаимоотношений хозяек и помощниц, эмоционально-окрашенном отношении к домашнему труду, равно как и о постоянном желании делегировать кому-то хоть часть его.
Обобщая биографические траектории дореволюционных женщин-историков, заметим: почти все они происходили из состоятельных семей. Получение высшего исторического образования в 1900-х гг. на женских курсах и позднее редкие случаи обучения вместе с мужчинами на историческом факультете были привилегией женщин высших сословий, закончивших до поступления в вуз гимназию или сдавших экзамены экстерном [ Минеева , 2012, с. 247]. Финансовый вопрос остро стоял для слушательниц словесно-исторических отделений Высших женских курсов (далее – ВЖК): многие их них хотели получить высшее образование, дабы преподавать в женских гимназиях. Рассчитывать на удачное замужество или большое наследство они не могли или не хотели, полагая, что прокормить должна работа.
Сравнение материального положения слушательниц ВЖК Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Киева показывает, что были они самого разного достатка. Случалось, что девушки жили с родителями и чувствовали себя обеспеченными, a были и весьма нуждающиеся [Федосова, 1980, с. 42]. Первая известная нам преподавательница истории в вузе, Е. Н. Щепкина (родилась в Санкт-Петербурге, училась в Москве, вернулась в Санкт-Петербург для преподавания на ВЖК, открывшихся там в 1878 г.), отмечала: «На московских курсах и речи не могло быть о голодающих, здесь [же] они встречались нередко, случались даже смерти от голода, от истощения». Одна из дальних родственниц самой Е.Н. Щепкиной начала жизнь в столице с продажи парикмахеру на Невском «великолепной длиннейшей косы» (РГАЛИ. Ф. 569. Оп. 2. Д. 1. Л. 9). В 1880-е гг. из-за дороговизны арендной платы за помещения курсистки естественного отделения занимались с 10 до 14 часов дня, а с 14 до 18 часов уступали место «словесницам», в том числе будущим женщинам-историкам (РГАЛИ. Ф. 569. Оп. 1. Д. 131. Л. 8).
Свободным временем курсистки распоряжались тоже по-разному: кто-то работал, чтобы иметь возможность содержать себя и оплачивать учебу на курсах (строгого контроля за посещением занятий, какой был на Высших медицинских курсах для женщин [ Руднева , 2012, с.92], на Бестужевских, готовивших будущих историков, не было), кто-то участвовал в общественной жизни (становился членом женских союзов, клубов, партий [ Пушкарева, Пушкарева , 2020]), иные просто общались, развлекались [ Громова, 2016]. Либеральный дух ВЖК нередко влиял на обеспеченных студенток: они отказывались от материальной поддержки семьи, объединялись в коммуны и обучались в них ведению хозяйства и разрешению бытовых проблем. «Бойкий медицинский студент-еврей нанял на паях скромную квартиру и привлек туда двух искавших комнату курсисток, – вспоминала Е.Н. Щепкина, – они получили по отдельной комнате, а студенты жили по двое в больших. Кто-то приходил к ним иногда прибираться, носить дрова, [но] топили сами, сами грели воду в кухне. Общей еды не заводили» (РГАЛИ. Ф. 569. Оп. 1. Д. 131. Л. 10). Показательно, что разделения на «мужские» и «женские» дела не было, иначе бы Е.Н. Щепкина, автор доклада о женском крестьянском труде на Первом Всероссийском женском съезде 1908 г. ( Щепкина , 1998), регулярно отмечавшая в своих научных статьях бытовые мелочи (РГАЛИ. Ф. 569. Оп. 1. Д. 39–40), обязательно сказала об этом. Более тяжелый труд (уборка квартиры, заготовка дров) выполнялся нанятыми лицами, подобно тому, как это написано Н.С. Лесковым в романе «Некуда» о радикальной Знаменской коммуне: в ней тоже была прислуга, обеспечивавшая комфортный быт «коммунаров» ( Лесков , 1864). Использование наемного труда в домашней жизни представительниц интеллигенции и мещан было не только допустимым, но и обыденным даже в кругах радикальной молодежи [ Rustemeyer , Siebert , 1997, S. 53]. При этом из обихода вышли помощники с узкой специализацией (кухарки, уборщицы, прачки), все предпочитали прислугу, которая могла бы выполнять все операции [ Веременко, Тропов , 2001, с. 55–63].
Профессиональное стремление женщин высших классов было, таким образом, обеспечено низкооплачиваемым трудом «работавших в частном услужении»; это обычное внутриген-дерное неравенство – средство избегания конфликта полов (и потому так редки были попытки вовлечь в эту сферу мужей, мужчин). Жизнь вскладчину обучала будущих подвижниц науки брать часть домашней работы на себя, однако и бестужевки, и гизотки (так называли себя московские курсистки – РГАЛИ. Ф. 569. Оп. 2. Д. 3. Л. 112) из зажиточных семей имели возможность полностью отдаваться своим исследованиям [ Пушкарева , 2017, с.120]. Хуже было тем, кто для поступления на ВЖК порывал с семьей и вынужден были обеспечивать себя; они больше волновались по поводу бытовых проблем, чем мечтали о прорыве в науке. Порой бытовая проблема сопровождала всю жизнь: этнограф А.Я. Ефименко образования на курсах не получила, интерес к научной работе обрела под влиянием супруга, ссыльного П.П. Ефименко; материальный уровень семьи был таков, что женщине самой нужно было зарабатывать научной деятельностью на всё: на прислугу (если хватало), на обеспечение больного мужа и на детей ( Багалiй , 1930, с. 13). Большинство же первых российских женщин-историков могли не слишком беспокоиться о куске хлеба и посвящать научной работе все мысли и свободное время. Так, преподавательницы истории на ВЖК – девять в Санкт-Петербурге [ Вахромеева , 2018, с. 353– 4480] и двое (Е.Н.Елеонская, В.Н.Харузина) в Москве (ЦГА Москвы. Ф. 363. Оп. 1. Д. 126. Л. 21–26об.) – были финансово независимыми, могли себе позволить иметь прислугу и, руководя ею и домашним хозяйством, самыми затратными по времени домашними делами не занимались. Как и их товарки из среды городской интеллигенции, они использовали наемный труд (кухарок, не только готовивших, но и закупавших продукты, уборщиц, нянек для детей) во имя создания условий для своей научной деятельности [ Pushkareva , 2017]. Заметим при этом, что с 1897 до 1917 г. работа прислугой была самой распространенной женской профессией (1,3 млн. женщин, или 41% «самостоятельного» женского населения (Распределение рабочих и прислуги…, 1905, с. VI–VII) [ Кончаковская , 2018, с. 104-105].
Великая революция 1917–1922 гг. и последовавший за нею «большевистский эксперимент» перевернули привычный образ жизни всех социальных слоев. Отказавшиеся от эмиграции и вынужденные приспосабливаться к новым житейским обстоятельствам российские женщины-ученые должны были взять на себя бытовые вопросы организации повседневной жизни. Привычка использовать наемный труд не исчезла, но число помощниц сократилось, и они все более обучались умению формулировать свои права (О митинге прислуг, 1917, 12 марта, с. 3) [ Клоц , 2012, с. 23]. Дневник исследовательницы русско-британских отношений И.И. Любименко, сохранившийся в Санкт-Петербургском филиале архива РАН, содержит описание первых послереволюционных лет как самого тяжелого периода ее жизни (СПбФ АРАН. Ф. 885. Оп. 1. Д. 219. Л. 1–2). L’ecriture feminine автора (всегда предполагающего наличие эмоционального контекста: описания отношений с близкими, рассуждения о собственном бессилии) выплеснулось во множество строк о «жизни чувств» (размолвке с мужем, несчастливой влюбленности, тяжелой болезни), осложненной бытовой неустроенностью. Прожившая до сорока лет в условиях материального благополучия, ученая была вынуждена взять на себя обязанности, ранее выполнявшиеся прислугой (хотя был и муж, В.Н. Любименко, зав. биологической станцией [ Самокиш , 2014], но его оклада на домашних помощниц не хватало). «Два с половиной года без прислуги, когда я была физической работницей в доме, утомили меня физически», – грустила И.И.Любименко, признаваясь тут же, что «физическая работа отвлекала» от излишней сосредоточенности на чувствах (СПбФ АРАН. Ф. 885. Оп. 1. Д. 202. Л. 336).
С окончанием Гражданской войны и повышением уровня жизни горожан институт прислуги окреп. Услугами помощниц стали пользоваться жены работников номенклатуры, a потом и служащие [ Фицпатрик , 2001, с. 121–122]. Термин прислуга ушел из обыденной речи, его заменили на «идеологически выдержанный» – домашняя работница или домработница. Одновременно с феминизацией профессии прислуги советская власть пыталась осуществить легитимизацию в общественном сознании статуса домработницы в домах номенклатуры и служащих как соответствующего социалистической идеологии, а не как пережитка эксплуатации и царизма. Этот процесс проходил путем институциональной легитимизации (через профпро-свещение и культпросвещение, реализуемые Нарпитом – профессиональным союзом работников народного питания) с использованием публичной дискуссии об улучшении быта домработниц при советской власти в прессе и создания персонажей-служанок в советском кинематографе [ Klots, 2017, p. 118, 121, 244–258]. Несмотря на попытки включить наемный домашний труд в систему социалистической экономики, до распада СССР он зачастую находился в теневом секторе [ Ткач , 2009, с. 138, 148].
Показателен опыт отношений с домработницами одной из первых женщин-академиков по отделению истории, М.В. Нечкиной (1901–1985). Происходившая из семьи инженера-технолога, она до революции росла в доме, в котором прислуга была обыденным явлениям; ee часто вспоминала в письмах, особенно няню Феню (Ф.М. Переднину), вырастившую сестер Нечкиных и обучившую их выполнению нехитрых домашних дел (потому в тяжелые для семьи 1915–1921 гг. девушки их не чурались) ( Нечкина , 2013, с. 69). Как и И.И. Любименко, М.В. Нечкина полагала, что умственный труд отвлекает от бытовых проблем и даже от голода. Но едва М.В. Нечкина переехала в Москву в начале 1920-х гг. и стала жить отдельно от матери, она сразу стала искать домработницу; труд последней был еще более востребован, когда она в 1925 г. вышла замуж за химика Д.А.Эпштейна. Оба нуждались в свободном времени для исследований. В 1928 г. в письме к мужу она писала: «Встаю я часов в 10 утра, прибираю комнату и завтракаю. Позавтракав, отправляюсь по делам, которых никак не переделаешь – или сначала занимаюсь, а потом иду по делам» (АРАН. Ф. 1820. Оп. 1. Д. 431. Л. 36–36об.). В письмах 1920-х гг. М.В. Нечкина часто возвращалась к теме помощи по дому: львиную долю времени занимали в семье молодых ученых хлопоты об улучшении жилищных условий. Детей у пары не было, все время тратилось на исследовательскую, редакторскую и преподавательскую (Институт красной профессуры) работу.
Делегирование домашних дел наемным работницам было для М.В. Нечкиной залогом возможности творить. Даже в период безденежья она не отказывалась от прислуги, при каждом случае обсуждая ее кандидатуру с няней Феней. «У меня новая прислуга – Наташа. Она комсомолка, ей всего 20 лет. Она все хорошо делает, только очень рассеянная и часто все забывает»
(Там же. Л. 17об.); «Наташа моя очень плохо стирает, прямо чистое с ней горе. Все у нее линяет. Я сшила новый халатик для умыванья, перед шитьем я в кипятке стирала пробный лоскуток – ничего не линяло. Она раз постирала – и такая гадость, что на новую вещь глядеть не хочется» (Там же. Л. 21).
Действительно, работа прислуги считалась несложной, большинство трудоустраивающихся полагало, что обучиться ей можно на месте. Но не знавшие норм городской жизни и обязанностей прислуги крестьянки не удовлетворяли требованиям работодательниц: не умели вести себя в доме, ухаживать за домашними вещами и одеждой, приготовить даже самый «легкий» городской обед. A на них кроме стирки и уборки возлагалось «доставание» продуктов, стояние в очередях. После войны в условиях дефицита продуктов и товаров умение получить то, что «выбрасывали» на прилавки, было особенно ценным, в связи с чем М.В. Нечкина писала, что домашняя работница Даша, простояв в одной из очередей, «могла взять хоть все мясо цыплят», но «она неизвестно почему взяла только одного цыпленка и "закатилась" за прочими вечером, когда их уже не было» (Там же. Л. 231–232). Недовольство прислугой объяснялось еще и тем, что, великолепно умеющая организовать свое время, М.В. Нечкина испытывала раздражение от неумелости и явной ленцы прислужниц. Выполнявшая любую домашнюю работу лучше домработницы, она брала на себя подобные обязанности в редкие периоды отдыха от научного труда, например, в санатории для научных работников в Теберде. «Комнату прибираю сама, – писала она, – уборщица здесь одна, ее не допросишься. Да к тому же у меня большое нежелание затруднять себя с ключом. Посему я съездила в аул, в кооператив, купила мешок, половую тряпку и веник, и ежедневно сама выметаю и мою пол». Супруг М.В. Нечкиной поддерживал стремление жены тратить время на науку (a не на уборку) и упрекал eё в излишнем рвении в домашних делах (Там же. Л. 72).
Интеллектуальный труд в годы советской власти был маркером принадлежности к элите; женщины, занятые научной работой, считали найм домашней прислуги нормальной практикой, позволявшей освободить время для исследовательских занятий. О том говорят эгодокументы других женщин-историков. Родившаяся в состоятельной петербургской семье, Е. Н. Туликова (Ошанина, 1911–1982), в начале 1930-х гг. вынужденно работавшая на фабрике, писала о своем «свободном» времени в отпуске: «Всё занималась домашним хозяйством, готовила обеды и стояла в очередях» (ЦГА Москвы. Ф. Л-125. Оп. 1. Д. 22. Л. 83). До середины 1930-х гг. жившая с сестрой и матерью, она делила с ними все домашние обязанности, но как только позволили деньги, мать сразу же наняла прислугу (ЦГА Москвы. Ф. Л-125. Оп. 1. Д. 20. Л. 19 об.). Мать Е.Н.Ошаниной была служащей, но необходимость обеспечения двух дочерей-подростков и неработающего сожителя-мужчины с трудом позволяли использовать труд домработниц, поэтому часть домашних дел лежала на сестрах-школьницах. После неудачного замужества Е.Н.Ошанина долго не возвращалась в родительский дом, но в итоге решила: «…Очень трудно жить совсем одной: масса хлопот, чтобы накормить себя вечером, и много времени тратится на это» (ЦГА Москвы. Ф. Л-125. Оп.1. Д. 23. Л. 85). Видя спасение от переживания разрыва с мужем (китаистом И.М. Ошаниным) в интеллектуальном труде, она закончила в 1941 г. исторический факультет Московского института философии, литературы и истории. Е.Н. Ошанина размышляла о том, что, несмотря на все попытки, предпринятые в первые десятилетия советской власти, создать адекватную систему государственного бытового обслуживания, освобождение женщин от «рабского» труда на кухне оказалось невозможным без использования труда наемных лиц.
Ни у М.В. Нечкиной, ни у Е.Н. Ошаниной не было детей. Между тем появление в семье женщины-ученой даже одного ребенка ставило ее в ситуацию выбора: продолжать научную карьеру (и искать няню) или выкраивать время на воспитание ребенка [ Пушкарева , 2014, с. 106–107]. Дневниковые записи заведующей Отделом рукописей РГБ имени В. И. Ленина, историка-архивиста С.В. Житомирской (1916–2002) – ценнейший источник по истории повседневности представительниц интеллектуального труда. Легшие в основу воспоминаний, бесхитростно названных «Просто жизнь», они позволяют представить трудности москвички в поиске домашней прислуги. Лучшей своей домработницей С.В. Житомирская считала няню Васену (В.С. Вострикову). В «коммуналке» вместе с С.В. Житомирской жила и вторая домработница – Нюра. Няня Васена спала на полатях в передней, a Нюра – в десятиметровой комнате
(бывшей ванной) вместе с младшей сестрой, ее мужем и их двумя детьми ( Житомирская , 2008, с. 178–179). Такие стесненные условия не были для женщин-ученых необычными. В одной комнате с домработницей жила и семья историка-медиевиста Е.В. Гутновой. Отказаться от услуг помощницы семья не могла: в детский сад сына старались не отдавать, a без нее трудно было бы справиться с выполнением научных и преподавательских обязательств ( Гутнова , 2001, с. 146, 181). Очевидно и то, что отсутствие приватности в жизни компенсировалось возможностью заниматься дома творческим трудом, a также установлением теплых отношений с нанятыми. По словам С.В. Житомирской, няни и домработницы обычно предпочитали помогать женщинам-ученым, чем жить в среде военных (на некоторое время Васена уходила от Житомирской и работала в семье трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина – Житомирская , 2008, с. 111): рядом с хозяйками-учеными домработницы и няни обретали достойное обращение, уважение.
Общий коммунальный быт работодательниц и домработниц стирал социальные различия, сближая их. Прожив бок о бок не один год в одной комнате, они эмоционально привязывались друг к другу, и эта привязанность могла быть основанием для отношений, продолжавшихся много лет спустя. Но бытовая привязанность могла быть несимметричной: няня Васена, состоя в «профсоюзе рабочих народного питания и общежитий» (С.В. Житомирская ошибалась: в 1950–1960 гг. речь могла идти уже о профсоюзе работников коммунального хозяйства или о профсоюзе работников местной промышленности и коммунального хозяйства), как только получила отдельную квартиру в «хрущевке», сразу дистанцировалась от Житомирских. Она опасалась потерять жилплощадь, если будет ночевать у работодателей, и соглашалась «приезжать только в гости» ( Житомирская , 2008, с. 278). Для научной работницы С.В.Житомирской такое превращение прислуги в новую знакомую было неприемлемо; с тех пор она нанимала для дочери только приходящих нянь.
В отношении найма домашней прислуги работницы интеллектуального труда (в нашем распоряжении эгодокументы прежде всего женщин-историков, чей профессиональный быт предполагал работу в архивах, библиотеках и дома) следовали, как мы видим, традиции, идущей из дореволюционного быта привилегированных сословий. Дворянка И.И. Любименко, М.В. Нечкина из семьи инженера, Е.Н. Ошанина из состоятельной петербургской интеллигенции, С.В. Житомирская и Е.В. Гутнова - из зажиточных еврейских семей – все они знали «другую жизнь», в которой бытовые хлопоты можно было возложить на прислугу, сохранив себя для научных занятий [ Пушкарева , 2014, с. 20]. Десятилетия советской власти не вытравили этой памяти, так что и в 1950-е гг. в семьях научных работников ценилась «старая» прислуга, 1900–1910 гг. рождения, имевшая помимо деловых качеств долговременную эмоциональную связь с семьями, в которых работала. Но и годы революционной ломки внесли заметные перемены в «историю найма прислужниц». Далеко не всем интеллектуалкам удавалось найти домработницу из «бывших». Куда чаще попадались бывшие крестьянки и мещанки, считавшие своих работодательниц «кровососами»: таковым было следствие «осовечивания» прислуги и попыток легально встроить этот род деятельности в советскую экономику [ Клоц , 2012, с. 23]. Не случайно И.И. Любименко, размышляя в конце 1920-х гг. о возможном переезде в Киев в связи с реорганизацией Академии наук, писала, что «самое неприятное – это иметь домработницу…», поскольку все эти «надомные работницы» смотрят на ученых, занятых творческим трудом, как «на паразитов», «как на дойных коров», признаваясь, тем не менее, в своем мягком отношении к нанятым: «Я совершенно не умею защищаться и заставлять работать» (СПбФ АРАН. Ф. 885. Оп. 1. Д. 202. Л. 343). Следствием невозможности передать домашние хлопоты надежной помощнице стало резкое снижение продуктивности работы этой исследовательницы. Дочь знаменитого ботаника, академика Императорской академии наук, И.И. Любименко стала сама вести хозяйство, предпочитая измотанность бытом душевому дискомфорту от общения с «помощницей».
Государство после революции декларировало максимальную защиту прав домработниц в ущерб правам работодателя. Из-за этого многие наниматели, не слишком знакомые с действующим законодательством о прислуге, боялись, что в случае некачественного выполнения домработницей поручений любое замечание в ee адрес могло быть расценено как нарушение прав равноправной с работодательницей советской гражданки. Так, в коммунальной квартире, где проживала С.В. Житомирская, от мелких гадостей одной из соседок страдали все, кроме домработниц Паши и Васены (им зловредная соседка не пакостила, страшась обвиненной в «буржуазном чванстве») (Житомирская, 2008, с. 180).
Свою домашнюю прислугу (если не удавалось найти кого-то из «бывших», воспитанных на прежней системе ценностей) немалое число женщин-ученых просто боялось. Близкие знакомые историка и этнолога Ю.П. Аверкиевой, пережившей сталинские репрессии, передавали ее слова о том, что супруг ученой А.А. Петров был отравлен их домработницей в 1949 г., когда репрессированная Юлия Петровна находилась в исправительно-трудовых лагерях [ Нитобург , 2003, с. 410].
Очевидно, что повседневность лиц интеллектуального труда в досоветский и советский периоды имела не только различия, но и общее – a именно стремление освободиться от хотя бы части домашних дел во имя работы по профессии [ Веременко , 2019, с. 350–352]. До большевистского социального эксперимента отношения женщин-ученых со своей прислугой складывались традиционно и мало отличались от аналогичных в Европе или США [ Light , 2008, р. 10–11]. Женщин-ученых до 1920-х гг. было мало, все они были материально обеспечены, могли позволить найм прислуги. Никакого панибратства и претензий на социальное равенство со стороны нанимаемых женщины-интеллектуалки не чувствовали. Вместе с реализацией обещания «кто был никем – тот станет всем» (строка из «Интернационала») бытовая ситуация у женщин-ученых, представительниц средних городских слоев или «бывших» (эксплуататорских классов) кардинально изменилась. Через Институт красной профессуры, рабфаки и иные структуры в науку, в том числе в гуманитарную, постепенно пришло немало женщин из другой социальной среды. У женщин-ученых нового типа не было привычки передавать свои домашние обязанности прислуге. Послереволюционная неустроенность быта заставила и женщин-ученых из среды «бывших» задуматься о том, как обеспечить заботу о себе и близких родственниках, не прибегая к помощи лиц наемного труда, что (как доказали эгодокументы) тут же сказалось на объемах и результатах их исследовательской работы (СПбФ АРАН. Ф. 133. Оп. 3. Д. 7. Л. 3).
Распорядок дня женщины-исследовательницы изменился: значительную долю времени стали занимать хлопоты по благоустройству быта, улучшению жилищных условий, обеспечению продуктами и питанием (зарплаты на то, чтобы постоянно питаться вне дома, не хватало). От возможности сократить число повседневных домашних дел, разделить их иногда с мужьями стала зависеть карьера женщины-исследовательницы. С 1930-х гг., с появления советской элиты, «номенклатуры», использование наемного труда в домашнем быту стало социально одобряемой стратегией, которая получила распространение и в среде научной интеллигенции. По разным причинам научные работницы не спешили отдавать детей в сад и пользовались тем, что значительную часть рабочего времени находились дома. Найм домработниц, особенно в период коллективизации, в начале 1930-х гг., был делом несложным. В то же время часть научных работниц отказывалась от прислуги и минимизировала свое общение с ней, поскольку конфликты с прислугой угрожали их психологическому комфорту. Эта тенденция сохранилась в период «оттепели» и стагнации, но в постсоветский период ситуация вновь изменилась: в стране растет количество всевозможных «бюро по найму», возродился институт горничных, нянь, гувернанток [ Лебина , 2006, с. 74]. Насколько он релевантен образу жизни представительниц интеллектуального труда, еще предстоит выяснить.
Список литературы "Занималась хозяйством": домашние работницы в повседневной жизни российских женщин-историков первой половины ХХ века
- Вахромеева О.Б. Преподавание наук на Высших женских (Бестужевских) курсах (1878-1918). М.: Полит. энциклопедия, 2018. 903 с.
- Веременко В.А. "Безвластная власть": статус женской домашней прислуги в России во второй половине XIX - начале ХХ в. // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: История России. 2019. Т. 18, № 2. С. 320-354.
- Веременко В.А. "Дура в доме". Женская домашняя прислуга в дворянских семьях России второй половины XIX - начале ХХ в. // Адам и Ева. 2013. N 21. С. 241-273.
- Веременко В.А., Тропов И.А. Реформы и микросоциальные процессы в России (вторая половина XIX - начало ХХ вв.) // Социально-экономическая и политическая модернизация в России Х1Х-ХХ вв. СПб.: Б. и., 2001. С. 55-63.
- Громова А.И. Досуг столичной курсистки в России конца XIX - начала. XX в. // Вестник Брянского госуниверситета. 2016. №4(30). С. 30-36.