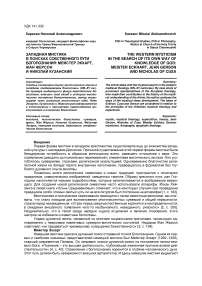Западная мистика в поисках собственного пути богопознания: Мейстер Экхарт, Жан Жерсон и Николай Кузанский
Автор: Карасев Николай Александрович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 10, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена опыту мистического поиска в западном средневековом богословии (XIII-XV вв.). На примере выдающихся фигур европейского богословия, внесших свой вклад в историю мистического понимания божественного, автор анализирует пути развития мистических идей. Идеи Экхарта, Кузанского и Жерсона рассматриваются в соотношении с принципами православного мистического и опытного богословия.
Мистика, мистическое богословие, суеверие, ереси, жан жерсон, николай кузанский, мейстер экхарт, немецкая мистика, ареопагит, апофатическое богословие
Короткий адрес: https://sciup.org/14940739
IDR: 14940739 | УДК: 141.332
Текст научной статьи Западная мистика в поисках собственного пути богопознания: Мейстер Экхарт, Жан Жерсон и Николай Кузанский
Первая форма мистики в западном христианстве существовала еще до знакомства западной культуры с наследием Дионисия. Причиной существования этой первой формы мистики была безудержная потребность в образном воплощении всего, имевшего отношение к вере. Это стремление доводило до психических переживаний с элементами мистического экстаза. Оно усугублялось суевериями, страхами, религиозной экзальтацией. Одновременно благочестие религиозной жизни на Западе теряло внутреннее наполнение, превращалось в формализм без глубокого духовного опыта молитвы.
Появилось много религиозной символики и новых традиций: пристрастие к почитанию праздников, символических изображений, священных таинств. Образы крестного пути, ран Господних наполняются новыми подробностями, которые запечатлеваются в воображении верующего. Для создания новой религиозной символики часто использовали апокрифы. Йохан Хейзинга в своей книге «Осень Средневековья» отмечает, что в некоторых случаях при проведении праздников особо чтимых святых чуть ли не вся литургия был построена на апокрифах [1, с. 182].
Мистические и психические переживания приводили к таким известным явлениям, как стигматы, что стало поводом для возникновения многочисленных суеверий и общей нервозности, страха перед неизведанным: «Страх перед сверхъестественным коренится в неопределенности, в ожидании внезапного появления чего-то необычайного, невиданного, ужасного» [2, с. 200]. Неудивительно, что в такой среде нередки чудеса исцеления и явления откровения; этого настроя не избежали и известные богословы.
Упадок духовной жизни, связанный со многими социальными причинами, происходил одновременно с неврозами навязчивых суеверно-мистических состояний. Недаром Жан Жерсон советовал «не предаваться чрезмерному созерцанию божественного» [3, с. 194].
Мейстер Экхарт
Немецкая мистика сделала духовный поиск отправной точкой богопознания. Одним из первых и наиболее значимых представителей немецкой мистики был Мейстер Экхарт (1260–1328), старший современник Паламы. Он направил поиски духовной жизни на постижение непостижимого Бога: «Познание – это высшая деятельность, глубочайшая жизненная причина всякой действительности» [4, с. 40]. Стремление к богопознанию коренится в глубине человеческого духа. Этот путь должен быть независим от внешних авторитетов. И здесь немецкие мистики выдвигают идею о том, что «глубочайшее и единственно истинное познание Бога находится в “глубине верующей души”» [5, с. 39]. Но в силу того, что вопрос об энергии даже не поднимался, мистика делает шаг в сторону пантеизма; мистик разделяет сущность Бога и его бытие. Сущность Бога, таким образом, некая духовная первосубстанция, неизменяемая, вечная, не поддающаяся никакому определению. Эту сущность и Богом назвать нельзя; это своего рода Божественность, сущность всех вещей. «Бог – это не определенная сущность в ряду других, это все сущее, все то, что истинно» [6, с. 348]. Тогда Святая Троица – это самораскрытие мистической субстанции Божества, а бытие Святой Троицы – вечный процесс самораскрытия и самопознания Божества.
Бытие души неразрывно связано с бытием Божиим. Бог вечно превращается в творение, а творение восходит к Богу и там растворяется: «Мир есть Бог, и Бог есть мир. Но творение не что иное, как Бог» [7, с. 41]. Исходя из этих положений строится и личный путь каждой души к Богу.
Таким образом, сущности Бога и человека совместимы по своей природе, между Богом и человеком не существует онтологической пропасти: «Человек божественен по природе и всегда таким будет» [8, S. 347]. Отсюда человек может познавать сущность Божию, соединяться с ней; но также и Бог в своем самопознании раскрывается в глубине человеческой души.
Таким образом, процесс богопознания по Экхарту – это не процесс обожения, а процесс достижения состояния Бога по существу. Человек достигает состояния сверхчеловека, а затем трансформируется в Бога. В этом плане, как считает В. Виндельбанд, «человек в своем тождестве с божеством является гносеологическим принципом мистицизма» [9, с. 40]. Человек, следовательно, может познать Бога только тогда, когда сам становится Богом. Этот процесс совершается внутри души «неизъяснимым и неизреченным созерцанием», он покрыт тайной и «является ядром самой души». Внутренний мир души, отрешаясь от всего внешнего, достигает блаженного состояния в созерцании Бога.
Элементы мистики проявляются у Экхарта в такой законченности, развитии и связи, как ни у одного другого из его предшественников или последователей. Его гармоничное учение объединяет единичные моменты, встречающиеся раздельно у других мистиков. Глубокое принципиальное обоснование позиции приближает его к крупнейшим научным мыслителям. Но в сопоставлении с православной мистикой эта форма ведет в никуда.
Есть духовный поиск, есть понимание непостижимости Божией, есть стремление преодолеть себя и приобщиться этой непостижимости: «Внимание Экхарта было устремлено к Высшему, его удивительная сила мысли сочеталась с искренним благоговением и детской чистотой души» [10, S. 314]. Но нет духовного подвига, борьбы со страстями; нет стремления к обожению. Личное общение с Богом заменено на самообщение, самосозерцание, самоуслаждение. Стать Богом по сущности – это не спасение; эта душевная трансмутация ведет к духовной прелести. Процесс обожения – не теория, а духовная жизнь, наполненная напряженным духовным опытом борьбы и победы над ветхой стороной человеческого самолюбия.
В середине XX в. русский богослов В.Н. Лосский в докторской диссертации «Отрицательное богословие и познание Бога у Мейстера Экхарта» пытался сопоставить мистику Экхарта и Паламы. Одним из исходных пунктов диссертации Лосского был постулат о том, что православие является не исторической формой восточного христианства, а общей непреходящей истиной. Современный исследователь С.С. Хоружий пишет: «Владимир Лосский намеревался показать, как часто Экхарт и его школа в своей мистической интуиции были близки основным темам пала-мизма, как они пытались освободиться от латинской средневековой схоластики» [11, с. 149].
Путь к Богу Экхарт ищет свой, местами в соприкосновении, а местами в противопоставлении с Фомой, Дионисием и Августином, а через него с плотиновской традицией. Так, в отношении понимания Святой Троицы он отходит от традиции Дионисия: он, не признавая энергии Божественной сущности, ищет источник обожения и в этом поиске заходит слишком далеко. Божественное бытие Святой Троицы Экхарт ставит в зависимость от божественного акта творения, «объединяет происхождение Божественных Лиц и творческий акт в едином внутреннем действии Бога» [12, с. 201]. Отрицая всякое различие между «эманацией» Лиц и творением, Экхарт выводит понимание Единого как глубинного источника однократного действия, производящего Лица Сына и Святого Духа так же, как и твари. И тогда тварь и Божество имеют единую реальность бытия по отношению к этой глубине. Здесь, как замечает В.Н. Лосский, «Экхарт следует не традиции псевдо-Дионисия, а какой-то другой» [13].
Таким образом, Мейстер Экхарт пытался решить вопрос богопознания с помощью мистики апофатического богословия. Однако без духовного опыта апофатика приобрела рациональную форму, став своего рода разновидностью неоплатонической мистики. Отвергнув понимание божественной нетварной энергии, человек пришел к мысли, что он может сам стать Богом по существу. И даже более: в крайних формах этого мистического направления Бога нет вовсе, есть человек – и он есть Бог; внутри его души кроется эта тайна. Познание этой тайны трансформирует человека в Бога. Этот путь мистического осмысления проложен в немецкой мистике.
Немецкая мистика, с одной стороны, встала на путь уклонения от традиционного католического вероучения, но, с другой, защитила от полного разложения католическое сознание и духовную жизнь на пути поиска смысла жизни. Главное заблуждение немецких мистиков было в том, что они искали идеальный образ единения человека с Богом, упуская из виду, что такой образ уже есть: это Христос. Во Христе, таким образом, явлено единение человеческой и божественной природы, что иное соединение уже невозможно.
Немецкая мистика, выступая против засилья схоластики и упадка духовной жизни, в качестве протеста против католической канонники пыталась создать новый путь к единению с Богом. Но, не имея прочной основы: ни духовного опыта, ни богословского осмысления святоотеческого наследия, связанного с духовной традицией общехристианского мистического потока, – она нашла выражение в своей собственной форме, хотя эта форма и стала еретической даже в глазах католической церкви.
Жан Жерсон
Одной из главных фигур, положивших конец великой ереси, был ректор Парижского университета, богослов Жан Жерсон (1363–1429). Жерсон утвердил в среде духовников мнение, согласно которому высшим авторитетом в церковном укладе является не папское звание, а экуменический совет.
Жерсон создал один из важнейших систематических трудов Средневековья – «Мистическая теология, составленная умозрительно» (Mystica Theologia speculative conscripta, 1402/3), дополненный «Практической теологической мистикой» (Theologia mystica practica, 1407).
Немецкий исследователь Петер Динцельбахер пишет о Жерсоне, что он в возрасте шестидесяти двух лет сам пережил мистический опыт, благодаря которому стал считать возможность единения с Богом уже в этой жизни, прежде рассматриваемую скептически, реальной, однако свидетельства об этом неясны. Во всяком случае в последний год своей жизни, как и Фома Аквинский, он написал труд на толкование «Песни Песней», который закончил за три дня до смерти. Уже за несколько лет до этого он, как кажется, приблизился к некоторым концепциям рейнской мистики (например, рождение Бога в душе), которые раньше он отвергал [14].
Современный исследователь отмечает: «Жерсон говорит о мистицизме не так, как говорят сегодня западные мистики. Термин “мистицизм” появился недавно, примерно в XVII столетии. Он говорит о мистическом богословии, которое он позаимствовал у Дионисия. <…> Для Жерсона богословие – это разговор Бога, и он видит его в качестве подлинного восприятия Бога. Уникальность мистического познания Бога состоит в его происхождении: оно – опытное. Жерсон в прологе перечисляет разновидности опыта, с которым он был знаком» [15, с. 5].
Жерсон дал несколько определений мистицизма; одно из них является классическим, ориентированным на Фому и Бонавентуру: «Мистическая теология – это опытное познание Бога, которое приходит через объятия всеобщей любви» (Theologia mystica est experimentalis cognitio habita de Deo per amoris unitivi complexum) [16, р. 291]. Однако Жерсон предлагает в том же фрагменте некоторые иначе сформулированные определения: тяга духа к Богу из любовной тоски, анагогическое движение, которое из пылающей и чистой любви ведет к Богу, пережитое, отведанное познание Бога ( sapida notitia habita de Deo ), если его связывает и объединяет вершина эмоциональной и рациональной способности любви.
Жерсон настаивает на том, что наряду с интеллектуальными должны быть задействованы и эмоциональные силы души, однако считает, что настоящее богосозерцание еще при жизни невозможно. Хотя Бог воспринимается только в темноте, происходит это не без ярчайшего излучения и говорящего молчания; тем самым, несмотря на все почитание Дионисия, отвергается радикальная апофатическая теология. Учение о богосозерцательной жизни канцлер резко критикует: то, что душа в единении преображается в бытие Бога, противоречит общепризнанному учению Святой Церкви.
Жерсон в целом ставит любовь или совершенную, бессловную молитву при мистическом подъеме души над познанием или созерцанием, над высшей интеллектуальной деятельностью. Конечно, эти элементы ни в коем случае не являются взаимоисключающими. Все время подчеркиваются раскаяние и изменение как необходимые условия для познания Бога. Это также относится к теологам, учение которых опустилось до ставшей самоцелью псевдонауки.
Мистический опыт доступен даже для людей необразованных, но не суждение о нем. Трактаты Жерсона «О различении истинных видений от ложных» (De distinctione verarum visionum a falsis, 1401) и «Об испытании духа» (De probatione spiritum), представленные участникам Кон-станцского собора в 1415 г., должны были стать основными работами для осуждения харизматиков в рамках официальной церкви. В трактатах Жерсона описываются различные источники видений, в том числе естественные, вследствие болезни головы. В то же время личные откровения, чье содержание и так уже передано в Священном Писании, подозрительны, так как Бог говорит лишь однажды (Иов 33:14).
Жерсон в первую очередь продолжал традицию, протянувшуюся от Дионисия через Гюго Бальмского и Томаса Галлуса до позднего Средневековья, а также традицию францисканца Бонавентуры. Произведения Жерсона были широко признаны такими деятелями, как Дионисий Кар-тузианец, Иоганн Момбаер и Николаус Кемпф.
Николай Кузанский
Важнейшим мыслителем западного Средневековья, много сделавшим для развития мистического богословия, был Николай Кузанский (1401–1464). Он также опирался в своих работах на Дионисия, знал работы Луллия и Майстера Экхарта, Эриугены и Жерсона. В «Ученом незнании» (De docta ignorantia) и других своих трудах Кузанский разработал строгую герменевтическую систему. Через геометрические сравнения он описывает невозможность познания абсолютного максимума, Бога, в котором совпадают все противоположности (conincidentia oppositorum). Согласно учению Кузанского, в Христе сходятся конечное и бесконечное. И только если преодолеть ограниченность разума, если познание станет любовью, – только тогда возможно вступить в ту тьму, которая покажет истинный путь к темноте познания формы всех форм.
Николай Кузанский предлагал веру в качестве решения. Рассудок не может объять непостижимость Божию; вера есть исходный и конечный пункт познания, а познание есть развертывание веры. Но вера – это не область знания, поэтому он выдвигает путь интеллектуального незнания. По Кузанскому, Бог как абсолютно непознаваемая сущность имеет бытие, которое по существу есть «чистый акт существования», а его бесконечное деяние есть сам процесс познания: «Деяние осуществляется не за пределами, а в самом процессе познания (intellectus) и составляет ядро этого процесса» [17, с. 10]. Такой образ выходит за пределы святоотеческого понимания мышления; это уже новая форма мышления, введенная именно Кузанским. «Величие этого мыслителя, завершающего целую эпоху христианского Средневековья, заключается прежде всего в том, что благодаря его усилиям трансцендентный предмет теологии (божественная сущность) становится самопознающим, трансцендентальным предметом (неразумной, сверхразумной областью) философского знания» [18, с. 12].
Заключение
В основных положениях немецкой мистики проявились различия между православной мистикой и мистикой европейской. Европейская мистика тяготеет к пантеизму; мистик ради единения с Богом теряет личность. Отсутствуют духовный подвиг, особенно подвиг молитвы, и понимание христианского смирения и послушания. Все наполнено гностическими принципами познания, опирается на рационализм и диалектику. Мистическое познание пересекается с диалектикой спекулятивного богословия. Эта мистика далеко отошла не только от православного понимания, но и от католического религиозного сознания, а также стала эталоном для всех форм мистики в Западной Европе.
Это мистика интеллектуального идеализма, мистика самовнушения и внутреннего умопостигаемого созерцания. Созерцательная мистика основывается на гностическом проникновении в глубину душевно-психического движения. Она возникала, как правило, на опыте произнесения и слушания проповедей, по глубоком размышлении и внутреннем озарении. Но душа требует нравственного императива. Практическая жизнь, в отличие от умозрения, нуждается во Христе как нравственном идеальном образе. Поэтому в дальнейшем эта форма мистики наполняется опытом духовной жизни и приобретает характер практической мистики. Основным направляющим стержнем ее было подражание жизни Христа.
Ссылки:
-
1. Хейзинга Й. Осень Средневековья. М., 2004. 544 с.
-
2. Там же. С. 200.
-
3. Там же. С. 194.
-
4. Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками : в 2 т. М., 2000. Т. 1. 639 с.
-
5. Там же. С.39.
-
6. Там же. С.348.
-
7. Там же. С.41.
-
8. Lasson A. Meister Eckhart, der Mystiker. Zur Geschichte der Religiosen Spekulation in Deuchland. Wiesbaden, 2003. 386 S.
-
9. Виндельбанд В. Указ. соч. С. 40.
-
10. Lasson A. Op. cit. S. 314.
-
11. Хоружий С.С. В.Н. Лосский и его исследование о Мейстере Экхарте // Богословские труды. 2003. № 38. С. 147–149.
-
12. Лосский В.Н. Отрицательное богословие и познание Бога в учении Мейстера Экхарта // Там же. С. 149–236.
-
13. Там же. С. 201.
-
14. Dinzelbacher P. Christliche Mystik im Abendland. Ihre Geschichte von den Anfängen bis zum Ende des Mittelalters. München, 1994. 464 S.
-
15. Harmless W. Mystics. Oxford, 2008. 368 p.
-
16. Connolly J.L. John Gerson, reformer and mystic. London, 1928. 403 p.
-
17. Ломоносов А.Г. Идея спасения в философии Фихте (вступительная статья) // Фихте И.Г. Сочинения. СПб., 2008. С. 5–27. 18. Там же. С. 12.
Список литературы Западная мистика в поисках собственного пути богопознания: Мейстер Экхарт, Жан Жерсон и Николай Кузанский
- Хейзинга Й. Осень Средневековья. М., 2004. 544 с
- Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками: в 2 т. М., 2000. Т. 1. 639 с
- Lasson A. Meister Eckhart, der Mystiker. Zur Geschichte der Religiösen Spekulation in Deuchland. Wiesbaden, 2003. 386 S
- Хоружий С.С. В.Н. Лосский и его исследование о Мейстере Экхарте//Богословские труды. 2003. № 38. С. 147-149.
- Лосский В.Н. Отрицательное богословие и познание Бога в учении Мейстера Экхарта//Там же. С. 149-236.
- Dinzelbacher P. Christliche Mystik im Abendland. Ihre Geschichte von den Anfängen bis zum Ende des Mittelalters. München, 1994. 464 S.
- Harmless W. Mystics. Oxford, 2008. 368 p.
- Connolly J.L. John Gerson, reformer and mystic. London, 1928. 403 p.
- Ломоносов А.Г. Идея спасения в философии Фихте (вступительная статья)//Фихте И.Г. Сочинения. СПб., 2008. С. 5-27.