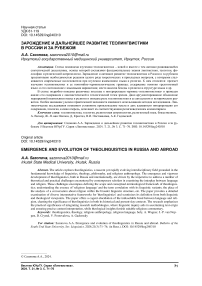Зарождение и дальнейшее развитие теолингвистики в России и за рубежом
Автор: Сазонова А.А.
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics
Рубрика: Инновации и инновационные технологии в науке о языке
Статья в выпуске: 3 т.21, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению теолингвистики - новой и вместе с тем активно развивающейся синтетической дисциплины, основу которой составляют фундаментальные знания лингвистики, теологии, философии и религиозной антропологии. Зарождение и активное развитие теолингвистики в России и за рубежом продиктовано необходимостью решения целого ряда теоретических и прикладных вопросов, с которыми сталкиваются современные исследователи при изучении взаимосвязи языка и религии. К ним относятся: предмет изучения теолингвистики и ее понятийно-терминологические границы; содержание понятия «религиозный язык» и его соотношение с языковыми вариантами; место анализа беседы о религии в структуре языка и др.В статье подробно описаны различные подходы к интерпретации термина «теолингвистика» и проведен анализ его содержания с лингвистической и теологической точек зрения. Дано аргументированное объяснениенеразрывной взаимосвязи языка и религии и описана роль теолингвистики в ее актуальном и историческом развитии. Особое внимание уделено практической значимости взаимного использования методов исследования. Лингвистические исследования позволяют установить происхождение текста и дать адекватную интерпретацию его содержания, теология, в свою очередь, дополняет их соответствующим религиоведческим комментарием.
Теолингвистика, теология, религиозная антропология, религиозный язык, божественное, а. вагнер, ж.-п. ван ноппен, д. кристал, в.и. постовалова, а.к. гадомский
Короткий адрес: https://sciup.org/147246141
IDR: 147246141 | УДК: 81-119 | DOI: 10.14529/ling240310
Текст научной статьи Зарождение и дальнейшее развитие теолингвистики в России и за рубежом
Из существующих в современном языкознании синтетических направлений наиболее близкой к решению вопроса о соотношении и взаимодействии языка, мышления и духовной культуры нам видится теолингвистика – интегративная дисциплина, вобравшая в себя многолетний опыт и достижения сразу нескольких фундаментальных наук, а именно лингвистики, теологии и религиозной антропологии.
Термин «теолингвистика» (theolinguistics) впервые был введен в научный оборот бельгийским лингвистом Жан-Пьером ван Ноппеном (J.-P. an Noppen) в 1976 году. Лингвист рассматривал теолингвистику как раздел языкознания, который стремится описать, как человеческое слово может быть применено по отношению к божественному, а также каким образом язык функционирует в «религиозных» ситуациях и передает смыслы, выходящие за узкие рамки стандартного понимания» [11].
По мнению учёного, религия не может существовать в отрыве от лингвистики. Более того, во многих отношениях она принимает форму религиозного поведения или, как пишет Ж.-П. ван Ноп-пен, становится так называемой лингвистической антрепризой (linguistic enterprise), т. е. выступает в роли самой лингвистики [12]. Другими словами, ее главный атрибут – язык – представляет собой незаменимый инструмент процессов познания и передачи религиозного опыта. В языке фиксируются и сохраняются все церковные авторитетные тексты, а их чтение, изучение и комментирование является неотъемлемой частью религиозного поведения.
Идея о неразрывной взаимосвязи языка и религии, изложенная Ж.-П. ван Ноппеном в одном из номеров Linguistica Biblica, получила свое дальнейшее развитие в трудах британского лингвиста Дэвида Кристала (David Crystal). Он одним из первых обозначил понятийно-терминологические границы теолингвистики и определил предмет ее исследования, о чем свидетельствует соответствующая запись в A Dictionary of Linguistics and Phonetics и The Cambridge Encyclopedia of Language. По определению Д. Кристала, теолин-гвистика – это наука, изучающая взаимодействие языка и религии (теории и практики), которая основывается на ритуалах, сакральных текстах, проповедях, доктринах и частных утверждениях веры [10, с. 484].
Религиозные тексты отличает многообразие языковых средств и понятийная неоднозначность, анализ и изучение которых представляет для современных исследователей трудноразрешимую задачу. Решение данной проблемы Д. Кристал видит в совместной деятельности лингвистов и теологов. По словам ученого, достоверная теолингви-стика может возникнуть только в результате взаимопонимания различных дисциплин, а также взаимного использования своих методов. По его мнению, теолог не должен следовать устаревшим концепциям языка, а лингвист не должен придерживаться наивных или ошибочных взглядов на теологию и строить свою аргументацию, опираясь на зыбкие философские предположения [9].
Данное утверждение становится особенно актуальным, когда речь идет о декодировании древних сакральных текстов неизвестного происхождения. По мнению Т.И. Семеновой и Е.П. Череми-синовой, «авторы этих текстов, облачая мысли в слова, передают свое видение мира, вкладывают определенный смысл, правильное восприятие которого в некоторых случаях может иметь решающее значение для понимания сакрального смысла религиозных текстов» [8, с. 84]. В таких случаях трудно переоценить значимость лингвистических исследований, так как именно они позволяют установить происхождение текста, а также дать адекватную интерпретацию его содержания. Теология же, имея в своем арсенале достоверные данные лингвистических исследований, дополняет их соответствующим религиоведческим комментарием.
По мере своего развития теолингвистика и связанные с ней вопросы соотношения языка и религии все чаще оказывались в поле зрения не только лингвистов, но и теологов, одним из которых является Андреас Вагнер (Andreas Wagner), современный немецкий теолог с лингвистическим бэкграундом. В своем докладе на лингвистическом коллоквиуме в Касселе в 1999 г., посвященном актуальным тенденциям развития языка, он поставил вопросы, помогающие определить научный статус теолингвистики. В частности, он считал важным выяснить, почему дисциплину, изучающую взаимодействие языка и религии, следует называть theo- linguistik.
А. Вагнер отмечал, что, следуя греческой этимологии слова theos , понятие теистического применительно только к христианству, поскольку передает представления о Боге как о Личности, что не соответствует концепциям понимания божественного, принятых в других религиях и вероисповеданиях. Проблематичным также видится вопрос о возможном переименовании теолингвистики. Ни Religion-linguistik, ни Glaubens(-sprache)-linguistik, обозначенные А. Вагнером как терминологические инварианты, не могут конкурировать с heolinguistik по причине их громоздкости и несоответствия содержанию дисциплины [13, с. 508–512].
Не менее значимым немецкий теолог считал вопрос определения предмета и задач теолингви-стики. Принимая во внимание пограничный характер дисциплины, он предлагал рассматривать ее с двух точек зрения: лингвистической и теологической. В первом случае теолингвистика выступает в качестве дисциплины, которая ориентирована преимущественно на языковую составляющую. По мнению А. Вагнера, к основным проблемам, которые решает данная дисциплина, относятся: «проблема религиозного языка, религиозное языковое поведение – религиозные формы коммуникации, а также области использования религиозных средств коммуникации. Во втором случае теолингвистика выступает как историко-теологическая дисциплина, занятая решением задач, касающихся современной систематики, а в историческом плане – решением задач, имеющих дело с историческими и экзегетическими аспектами» [7, с. 222].
В отношении понятия «религиозный язык» А. Вагнер придерживается концепции, разработанной известными немецкими лингвистами Манфредом Кэмпфертом и Петером Гартманном, у каждого из которых, несмотря на общность научных интересов, было собственное мнение по данному вопросу. Так, М. Кэмпферт в структуре языка религии акцентирует свое внимание на изучении семантических признаков актантов и пропозиции предложений. П. Гартманн же уделяет большее внимание исследованию семантики религиозного текста. Что касается самого А. Вагнера, то в качестве дополнения к семантическому и текстуальному определению он предлагает рассматривать язык религии в рамках прагматики и вариативной лингвистики [13, с. 509].
В изучении актуальных вопросов теолингви-стики А. Вагнер также не мог обойти стороной такой важный и интересный аспект, как религиозное языковое поведение. Обширное поле для исследований в этой сфере, по мнению теолога, представляет центральная христианская форма коммуникации (zentrale christliche Kommunika-tionsform) – богослужение [13, с. 510]. А. Вагнер рассматривает богослужение как сложнейший многогранный феномен, нуждающийся в тщательном изучении и подробном лингвистическом анализе всех его элементов (проповедь, литургия, молитва и т. д.), а также некоторых значимых экстра-лингвистических факторов (порядок, взаимообусловленность, проникновение, последовательность и т. д.) [13, с. 510].
А. Вагнер подчеркивает важность проведения лингвистического анализа на всех возможных языковых уровнях, усматривая в каждом из них предмет для самостоятельного исследования. Особое внимание, с его точки зрения, следовало бы обратить на изучение лексического, синтаксического и прагматического уровней, поскольку в них наиболее явно отражена специфика религиозного языка. К ней он, в частности, относит узкоспециальную лексику, консервативно-антикизирующий синтаксис и некоторые прагматические аспекты литургии. Теолог убежден, что сотрудничество лингвистов и теологов в решении этих языковых вопросов позволило бы в значительной степени нивелировать проблемы, связанные с исследованием других форм религиозной коммуникации (беседа со священником, занятие по подготовке к конфирмации и др.) [13, с. 510].
При обсуждении темы, касающейся области использования религиозных средств коммуника- ции, А. Вагнер указывал на то, что данная сфера пока остается для большинства лингвистов и теологов своего рода «белым пятном», и им еще только предстоит решение этой проблемы. Им был обозначен круг вопросов, которые следует рассмотреть в первую очередь. К ним относятся: где, когда и при каких обстоятельствах используется религиозный язык? Кто является участником такой коммуникации? Как религиозный язык соотносится с языковыми вариантами? Какую роль играют диалекты в душепопечении и проповеди? Как ведутся разговоры о религии? Какое место в структуре языка занимает анализ беседы о религии? [13, с. 510].
Рассуждая о роли теолингвистики с позиции богослова, А. Вагнер выделяет в ней две области, исследование которых позволило бы прояснить многие языковые вопросы, связанные с практической деятельностью теолога. Это – области, в которых взаимодействие лингвистики и теологии рассматривается в их актуальном и историческом развитии. По мнению А. Вагнера, «настоящее» теолингвистики в языковом плане определяется систематическими или практико-теологическими аспектами, «прошлое» – историко-экзегетическими [13, с. 511].
В изучении теолингвистики в ее актуальном воплощении А. Вагнер акцентирует свое внимание на взаимосвязи языковой и теологической деятельности. Он рассматривает их как единое целое, полагая, что изучение языка является неотъемлемой частью практической деятельности теолога. Вместе с тем он отмечает, что далеко не всегда теологи готовы воспользоваться случаем поразмыслить о языке и применить полученные знания на практике. Некоторые из них предпочли бы и вовсе отказаться от рассуждений на эту тему и решать лингвотеологические вопросы привычном для себя способом [13, с. 511].
А. Вагнер убежден, что успешное решение проблем коммуникации в теологии и церкви возможно только при участии лингвистов. В качестве примера использования лингвистических знаний на практике он приводит диалог между пациентом и врачом. На наш взгляд, теолог остановился на данном аспекте неслучайно, поскольку такая форма коммуникации напоминает беседу, которую ведут между собой прихожанин и священнослужитель. Речевое поведение пришедшего на исповедь человека во многом схоже с поведением пациента в кабинете у врача. Он так же открыто и подробно рассказывает о своих проблемах и делится своими переживаниями. Священнослужитель подобно врачу сначала внимательно выслушивает прихожанина, а затем дает ему советы и наставления. А. Вагнер отмечает, что, имея в распоряжении методику анализа и интерпретации разговора между пациентом и врачом, теолог может активно применять ее в своей профессиональной деятельности и тем самым успешно разрешать многие проблемы коммуникации, возникающие в теологической практике [13, с. 511, 512].
Рассматривая соотношение лингвистики и теологии в историческом развитии, А. Вагнер подчёркивает их исконное или традиционное взаимодействие. В частности, он утверждает, что лингвистика по большей части произошла из так называемой священной филологии (philologia sacra). Речь идет о таких значимых для теологии языках, как латынь, древнегреческий и иврит, изучение которых невозможно без привлечения историкотеологического и лингвистического знания. Однако наиболее явно взаимодействие лингвистики и теологии проявляется в изучении Библии и истории церкви. Лингвистический анализ истории теологии всегда носит теологический и, следовательно, теолингвистический характер. Примечательно в данном вопросе и то, что доминирующую роль в соотношении лингвистики и теологии он отводит именно лингвистике. Что же касается теологии, то она, в понимании А. Вагнера, выступает скорее в качестве методично поглощающей (methodisch aufnehmende) и мало что может дать лингвистике [13, с. 512].
Обозначенные А. Вагнером перспективы развития теолингвистики получили свое продолжение в работах целого ряда современных отечественных (В.И. Постовалова, В.А. Степаненко, О.А. Прохва-тилова, В.И. Супрун, С.И. Федотова, О.В. Чевела, С.И. Шамарова) и зарубежных (Н.В. Яблоновская, В.И. Ярмак, А.К. Гадомский, E. Kucharska-Dreiss, В. Хлебда, К. Кончаревич, М. Радованович, M. Wojtak, I. Winiarska-Górska, A. Regiewicz, P. Kładoczny, M. Dawidziak-Kładoczna) ученых.
В.И. Постовалова, представитель российской школы теолингвистики, рассуждая о соотношении и взаимодействии языка и религии, отмечает две наметившиеся в современной науке тенденции. Первой тенденцией ученый называет активное интегрирование языка в сознание и духовную жизнь человека, второй – включение и распространение в его мировоззрении теологического знания. Актуализацию этих тенденций В.И. По-стовалова связывает с возращением к философско-антропологической программе В. фон Гумбольда, целью которой неизменно остается всестороннее и гармоничное развитие личности [5]. Реализации этой программы во многом способствовало появление и развитие теолингвистики – дисциплины, в русле которой человек рассматривается с позиции языкознания, религиозной антропологии, философии и теологии. Взаимодействие этих дисциплин послужило отправным пунктом для дальнейшей разработки креационного подхода в гуманитарных науках, позволяющего по-новому взглянуть на природу человека и его онтологию.
Основным критерием, отличающим данный подход от секулярного, по мнению В.И. Постова-ловой, является то, что при религиозном подходе человек предстает не только в «горизонтальной»
(антропоцентрической), но и в «вертикальной» (теоантропоцентрической) плоскости. При секулярном же подходе человек представлен только в «горизонтальном» (земном) плане своего существования, что значительно сужает поле деятельности исследователя, а полученные им данные выглядят скудными и малодостоверными [4, с. 57].
Иначе интерпретируется и сама наука о человеке. С ее преобразованием в религиозную антропологию (применительно к христианству – теоан-тропологию) меняется понимание и самого предмета ее изучения – человека. В отличие от антропоцентризма, где человек традиционно выступает центром мироздания и творцом всего сущего, в теоантропоцентрическом преломлении он предстает как « образ и подобие Божие и соотносится скорее со сверхприродным Богом, чем с природой.
Человек, исследуемый в русле теоантропо-центризма, уникален по своей природе. По данным русско-православного и римско-католического словаря, он билатерален, т. е. находится на стыке двух миров – вещественного и духовного: по телу он причастен к миру вещественному, а по душе – к миру духовному. В каждом из этих миров он действует одновременно и как пришелец, и как царь, введенный в эти миры Богом. Задача, возложенная на человека свыше, – «возделывать» мир словом» [1, с. 47–48].
В приведенном высказывании язык выступает в качестве единственного в своем роде орудия (само)познания, центром сосредоточения человеческого и божественного. Эта идея нашла свое отражение и в теоантропокосмической парадигме, предложенной В.И. Постоваловой. Она рассматривает язык как Богочеловеческую синергию, нераздельное и неслиянное единство Божественной и человеческой энергий, являющихся при этом еще и средой, где начинает свое развитие высшая энергия – энергия Бога [5, 6].
Взаимосвязь языка и религии – предмет многочисленных дискуссий не только в отечественной, но и зарубежной науке. А.К. Гадомский, представитель славянского направления в теолин-гвистике, объясняет взаимодействие языка и религии их общим историческим прошлым. По мысли ученого, язык сопровождал религию с момента ее зарождения, незамедлительно реагируя на все ее малейшие проявления и изменения; он словно «мощный аккумулятор, который накапливает и передает знания о Боге и о всем, что с Ним связано. Языковой универсум и создаваемая средствами языка религиозная картина мира – это те источники информации, с которыми, по мнению лингвиста, человек контактирует в большей степени» [3, с. 6].
Существенное влияние на развитие религиозного языка и становление языкознания как науки оказало христианство. Именно принятие и распространение христианской веры, по мнению
А.К. Гадомского, послужило мощным импульсом к изучению книжно-церковной письменности и обрядности. Информация, содержащаяся в религиозных текстах, требовала тщательного анализа, систематизации и толкования. Ситуация осложнялась тем, что теологи не обладали необходимым для этой деятельности научным потенциалом; требовалось квалифицированное лингвистическое сопровождение.
От совместной деятельности теологов и лингвистов зависели и до сих пор зависят не только влияние и распространение христианской идеологии, но и развитие теологического знания в целом. Языкознание долгое время служило интересам и потребностям Церкви, светским же оно стало значительно позднее [2, 3].
В настоящее время изучение языка религии перестало быть прерогативой только церковнослужителей. Теолингвистика сегодня – это самостоятельная дисциплина со своим объектом, предметом, комплексом методов исследования и задачами, главная из которой – пролить свет на вопрос о том, что есть религия с лингвистической точки зрения, как она проявляется в языке и какое влияние через язык оказывает на человека.
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
-
1. В непродолжительной истории развития теолингвистики можно выделить два основных этапа. Первый связан с именами таких ученых, как Ж. П. ван Ноппен, Д. Кристал и А. Вагнер, которые в своих работах показали взаимосвязь языка и религии, определили объект, предмет и задачи новой дисциплины. Второй этап развития теолин-гвистики, представителями которого являются
-
2. Становление и развитие теолингвистики в зарубежном языкознании было продиктовано главным образом необходимостью тесного сотрудничества лингвистов и теологов для решения лингвистических проблем, возникающих в процессе профессиональной деятельности последних.
-
3. В отечественной лингвистике развитие тео-лингвистики было связано с возвращением к философско-антропологической программе В. фон Гумбольда и с поиском утраченных вследствие насаждения атеизма подлинных значений слов.
-
4. В рамках онтологического учения, на котором базируется теолингвистика, язык рассматривается как медиум раскрытия бытия. Слово трактуется в более широком понимании, а именно как актуализированное И(и)мя. С позиции концепто-логии имя предстает как иррациональное начало, а концепт как его логический, или рациональный каркас, с помощью которого в земном хаосе не происходит полного «распада» имени, актуализированного из бытия вечного во временное бытие. В теоантропокосмической парадигме язык рассматривается в контексте Бог–космос–человек. Данная парадигма основывается на знаниях о человеке, полученных в теологии, философии, в том числе космологии, и христианской антропологии. Исследования, проводимые в русле этой парадигмы, позволяют упорядочить имеющиеся представления о человеке и способствуют более глубокому пониманию используемого им языка.
В.И. Постовалова, А.К. Гадомский, Э. Кухарская-Драйсс, В.А. Степаненко и др., ознаменован введением базового для теолингвистики понятия «теоантропокосмическая парадигма» и разработкой новых методов исследования языка в религиозной сфере.
Список литературы Зарождение и дальнейшее развитие теолингвистики в России и за рубежом
- Богословская антропология. Русско-православный/римско-католический словарь: издания на русском и немецком языках / под науч. ред. прот. Андрея Лоргуса, Б. Штубенрауха. М.: Паломник; Никея, 2013. 736 с.
- Гадомский А.К. Теолингвистика и грамматика // Ученые записки ТНУ. Серия: Филология. 2006. Т. 19 (58), вып. 4. С. 15-25.
- Гадомский А.К. Религиозный язык - теолингвистика - языкознание // Ученые записки ТНУ. Серия: Филология. 2007. Т. 20 (59), вып. 1. С. 287-292.
- Постовалова В. И. Теолингвистика в современном гуманитарном познании: истоки, основные идеи и направления // Научно-педагогический журнал Восточной Сибири Magister Dixit. 2012. № 4. С. 107-216.
- Постовалова В.И. Наука о языке в свете идеала цельного знания: в поисках интегральных парадигм. М.: Ленанд, 2016.
- Постовалова В.И. Лингвистическая реальность и пути ее постижения (Восхождение к интегральным парадигмам) // Метафизика. 2016. № 4 (22). С. 59-75.
- Степаненко В.А. Прототипическая модель мироздания по данным ассоциативных словарей и концептуальных метафор // Прототипические и непрототипические единицы в языке: кол. монография / отв. ред. Л.М. Ковалёва; под ред. С.Ю. Богдановой, Т.И. Семёновой. Иркутск: ИГЛУ, 2012. С. 175-203.
- Черемисинова Е.П. Морально-этический концепт righteousness в религиозном дискурсе // Лингвистика и лингводидактика в свете современных научных парадигм: сб. науч. трудов. Иркутск: Изд-во Аспринт, 2020. С. 83-94.
- Crystal D. Whatever happened to theolinguistics? // Religion, Language and the Human Mind; ed. by: Paul Chilton, Monika Kopytowska. New York: Oxford University Press, 2018. Р. 3-19.
- Crystal D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Wiley-Blackwell: Penguin Books, 2008. 508 p.
- Van Noppen J.-P. From Methodist Discourse and Industrial Work Ethic: A Critical Theolinguistic Approach // Persee: [site]. 1995. URL: https://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1995_num_73_3_4031 (accessed 15.11.2023).
- Van Noppen J.-P. From Theolinguistics to Critical Theolinguistics: the Case for Communicative Probity // Persee: [site]. 2004. URL: http://www.jpvannoppen.tk (accessed 15.11.2023).
- Wagner A. Theolinguistik? - Theolinguistik! // Internationale Tendenzen der Syntaktik, Semantik und Pragmatik. Akten des 32. Linguistischen Kolloquiums in Kassel 1997. Hrsg. von Hans Otto Spillmann und Ingo Warnke. Frankfurt [u.a.]: PETERLANG Internationaler Verlag der Wissenschaften, 1999. S. 507-512.