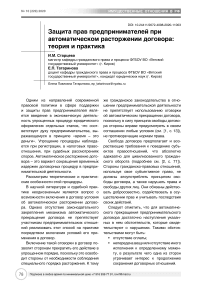Защита прав предпринимателей при автоматическом расторжении договора: теория и практика
Автор: Старцева И.М., Татаринова Елена Павловна
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Гражданское право
Статья в выпуске: 10 (229), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются актуальные проблемы применения оговорки об автоматическом расторжении предпринимательского договора, позволяющей сторонам прекратить его действие в упрощенном порядке. Авторы сопоставляют и анализируют теоретические и практические аспекты применения этой оговорки. Делают вывод о том, что при включении такой записи в договор стороны должны заранее спрогнозировать соответствующие последствия и соотнести их со своими намерениями.
Предпринимательский договор, автоматическое расторжение договора, упрощенная процедура расторжения договора, последствия расторжения договора, свобода договора
Короткий адрес: https://sciup.org/170173104
IDR: 170173104 | DOI: 10.24411/2072-4098-2020-11003
Текст научной статьи Защита прав предпринимателей при автоматическом расторжении договора: теория и практика
Одним из направлений современной правовой политики в сфере поддержки и защиты прав предпринимателей является введение в экономическую деятельность упрощенных процедур юридического оформления отдельных этапов, что соответствует духу предпринимательства, выражающемуся в принципе «время – это деньги». Упрощение процедуры наблюдается при регистрации, в налоговых правоотношения, при судебных рассмотрениях споров. Автоматическое расторжение договора – это вариант сокращения временны ́ х издержек договорных процедур в предпринимательской деятельности.
Рассмотрим теоретические и практические особенности этой процедуры.
В научной литературе и судебной практике неоднозначным является вопрос о возможности включения в договор условия об автоматическом расторжении договора. Однако отсутствие законодательного закрепления механизма автоматического прекращения договора не препятствует участникам предпринимательских отношений реализовать этот способ на практике посредством включения условий его применения в договор.
Включение такой оговорки в договор позволит сторонам прекратить его действие в упрощенном порядке, поскольку это освободит стороны от необходимости соблюдения специального порядка расторжения. К тому же гражданское законодательство в отношении предпринимательской деятельности не препятствует использованию оговорки об автоматическом прекращении договора, поскольку в силу принципа свободы договора стороны вправе предусмотреть в своем соглашении любые условия (см. [1, c. 13]), не противоречащие нормам права.
Свобода договора предполагает и возрастающие требования к поведению субъектов правоотношений, что абсолютно адекватно для цивилизованного гражданского оборота (подробнее см. [2, с. 71]). Стороны гражданско-правовых отношений, используя свое субъективное право, не должны злоупотреблять принципом свободы договора, а также нарушать права и свободы других лиц. Они обязаны действовать добросовестно, содействовать в осуществлении прав и учитывать последствия своих действий.
Следует отметить, что для автоматического прекращения предпринимательского договора достаточно наступления указанных в нем обстоятельств, которые свидетельствуют о нарушении. Такими обстоятельствами могут быть:
-
• отсутствие оплаты;
-
• непередача вещи или отсутствие иного исполнения к определенному моменту, в результате чего одна из сторон утрачивает интерес к продолжению сохранения договорных отношений.
Например, в одном из постановлений Арбитражного суда Дальневосточного округа указано, что включение в договор условия об автоматическом расторжении в случае нарушения графика оплаты, просмотренного требованиям договора, свидетельствует об упрощенном порядке расторжения договора и об отсутствии оснований для обращения в суд [3].
В то же время не всякое нарушение договорного обязательства влечет автоматическое прекращение договора. Так, в судебной практике встречаются дела, в которых суды отклоняют доводы сторон по поводу автоматического расторжения договора при частичном неисполнении его условий.
Например, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, заключили договор поставки и указали в договоре условие, согласно которому покупатель должен в течение 5 банковских дней с момента вступления в силу договора перечислить продавцу 70 процентов от общей цены договора. Если же покупателем не будет произведена оплата в течение указанного срока, то договор будет считаться автоматически расторгнутым по инициативе покупателя. Однако покупателем был перечислен авансовый платеж в размере 30 процентов от общей суммы договора. В этом случае суд пришел к выводу о том, что стороны частично исполнили договор, что исключает возможность его автоматического расторжения. Таким образом, договор может быть прекращен автоматически лишь в том случае, когда условия договора будут полностью не исполнены. В противном случае сторона не сможет ссылаться на автоматическое прекращение договора.
Следует отметить, что условие об автоматическом расторжении договора нельзя предусмотреть в договоре, если законом для соответствующего случая предусмотрено специальное регулирование. Так, согласно статье 954 Гражданского кодекса Российской Федерации [4] (далее – ГК РФ) если договором страхования предусмотре- но внесение страховой премии в рассрочку, то договором могут быть определены последствия неуплаты очередных страховых взносов в установленные сроки. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого просрочено, то страховщик вправе зачесть сумму просроченного страхового взноса при определении размера страховой выплаты.
То есть из закона прямо не следует, что в договор страхования можно включить условия о его автоматическом расторжении, что лишает страховщика возможности использовать этот механизм. Однако в договоре страхования могут быть предусмотрены меры ответственности за допущенное страхователем нарушение внесения денежных средств, а также право страховщика на отказ от договора страхования или от выплаты страхового возмещения.
Это подтверждается и судебной практикой.
Так, между ООО «Страховая компания «Селекта» и ИП Иванова В.С. был заключен договор страхования ответственности товаропроизводителя (изготовителя) за качество продукции. Во исполнение условий договора страхования истец обращался к ответчику с заявлением о выплате страхового возмещения. Иск о взыскании страхового возмещения удовлетворен правомерно. Поскольку страховщик не воспользовался своим правом на отказ от договора в связи с просрочкой внесения страхового взноса, он не освобождается от обязанности выплатить страховое возмещение [5].
При анализе механизма автоматического расторжения договора необходимо акцентировать внимание на плюсах и минусах включения рассматриваемой оговорки в договор.
Основным преимуществом автоматического расторжения нарушенного предпринимательского договора является дисциплинирующее и стимулирующее воздействие на стороны, а также уверенность контрагентов в достижении желаемого результата.
Может показаться, что такой механизм расторжения нарушенного договора ущемляет интересы должника, но на самом деле это не так, поскольку при заключении договора предполагается, что должник ознакомлен с его условиями. Соответственно, он знает, что договор автоматически прекратит свое действие со всеми вытекающими для него последствиями при допущенной им просрочке.
Но здесь может возникнуть другой вопрос: насколько такого рода оговорка об автоматическом расторжении нарушенного договора соответствует интересам самого кредитора? Например, в ситуации, когда прекращение договора становится невыгодным для поставщика, но в силу включенного в договор условия об автоматическом прекращении договор в случае его нарушения прекратит свое действие бесповоротно. Но ведь нарушение может быть абсолютно незначительным, а кредитор – иметь интерес в сохранении договора (см. [6, с. 169]). Однако желания кредитора будет недостаточно, и договор прекратит свое действие независимо от его воли.
Более того, условие об автоматическом расторжении нарушенного договора дает должнику право по своему усмотрению отказываться от договора посредством допущения нарушения – результат, который вряд ли был бы желаем разумным кредитором. Допустим, если должник потеряет интерес к договору, то он может просто допустить соответствующее нарушение, например прострочку по оплате или отсутствия иного исполнения к определенному сроку, и договор будет считаться бесповоротно расторгнутым независимо от воли кредитора.
Так, Верховным Судом Российской Федерации в постановлении Пленума от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [7] разъяснено, что поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения [8, с. 114]. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации [9]). Таким образом, на суды фактически возложена обязанность исследовать вопрос о добросовестности либо недобросовестности сторон и применять соответствующие нормы и правовые последствия при рассмотрении гражданско-правового спора, если усматривается отклонение их действий от добросовестного поведения [10, п. 11].
Также необходимо подчеркнуть, что основанием для оспаривания договора с оговоркой о его автоматическом расторжении может являться несправедливость его условий, закрепленная пунктом 3 статьи 428 ГК РФ. Доктрина несправедливости условий договора подлежит применению в случаях, если условия договора определены одной из сторон, а другая сторона в силу неравенства переговорных возможностей поставлена в положение, существенно затрудняющее согласование иного содержания условий договора. Следовательно, «слабая» сторона вправе потребовать расторжения, если она не приняла бы такие условия при наличии у нее возможности участвовать в их определении. Следует отметить, что такой подход к оспариванию договора с оговоркой о его автоматическом расторжении специфичен и не имеет массового характера в силу того, что судебная практика в достаточном объеме не успела сформироваться, что не позволяет оценивать перспективы оспаривания, тем не менее такой подход имеет место и может быть использован «слабой» стороной при разрешении споров.
В связи с этим стороны при включении оговорки об автоматическом расторжении договора должны заранее прогнозировать соответствующие последствия и соотносить их со своими намерениями, а также учитывать особенности предпринимательской разновидности договорной конструкции (подробнее см. [12]). Такая необходимость прежде всего связана с тем, что при возникновении спора суд будет оценивать фактическое поведение участников, выражающее их отношение к принятым на себя обязательствам.
Таким образом, не ко всем отношениям сторон применяется условие об автоматическом прекращении договора. Однако в каждом конкретном случае необходимо оценивать характер правоотношений сторон, их действительные намерения, а также то, что частичное неисполнение обусловленных соглашением обязательств не свидетельствует о праве сторон ссылаться на автоматическое прекращение договора.
На основании проведенного исследовании можно сделать следующие теоретические выводы и дать практические рекомендации:
-
1) при заключении договора лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, необходимо осмысленно осуществлять свой выбор относительно включения оговорки об автоматическом расторжении договора, так как, помимо упрощения процедуры, наблюдаются и правовые риски;
-
2) в договоре необходимо тщательно и недвусмысленно прописывать ситуации потенциальных нарушений, влекущих автоматическое расторжение договора, например в случае просрочки оплаты, и конкретно указать ее длительность.
Список литературы Защита прав предпринимателей при автоматическом расторжении договора: теория и практика
- Садовая И. Г. Принцип свободы гражданско-правового договора в российском праве // Отечественная юриспруденция. 2017. № 10 (24). С. 12-14.
- Иванова Ю. А, Меняйло Л. Н., Федулов В. И. Принцип свободы договора в гражданском праве // Вестник Московского университета МВД России. 2018. № 5. С. 69-71.
- Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 17 августа 2017 года. № Ф03-2878/17 по делу № А51-30117/2016. ияи ИирвУ/Ьаве.дагат.ги/37181126/
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) : Федеральный закон от 26 января 1996 года № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410.
- Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 декабря 2018 года № 09АП-59159/2018 по делу № А40-159620/18. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- Карапетов А. Г. Основные тенденции правового регулирования расторжения нарушенного договора в зарубежном Российском гражданском праве : дис. ... докт. юрид. наук. М., 2011. 499 с.
- О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 // Российская газета. 2015. 30 июня.
- Шелепина Е. А. Принцип добросовестности в гражданском праве: особенности применения в суде и правовые последствия // Образование и право. 2019. № 11. С. 112-116.
- Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ // Российская газета 2002. № 137.
- Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2016) : утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20 декабря 2016 года // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2017. № 10, 11.
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ : в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 года № 251-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- Порсюров Е. А., Татаринова Е. П. Договор конвертируемого займа: преимущества и недостатки // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2020. № 2 (221). С. 86-92.