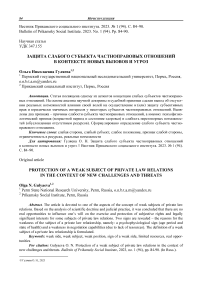Защита слабого субъекта частноправовых отношений в контексте новых вызовов и угроз
Автор: Гуляева О. Н.
Журнал: Вестник Прикамского социального института.
Рубрика: Юриспруденция
Статья в выпуске: 1 (94), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена одному из аспектов концепции слабых субъектов частноправовых отношений. На основе анализа научной доктрины и судебной практики сделан вывод об отсутствии реальных возможностей влияния своей волей на осуществление и (или) защиту субъективных прав и юридически значимых интересов у некоторых субъектов частноправовых отношений. Выявлены два признака – причины слабости субъекта частноправовых отношений, а именно: психофизиологический признак (возрастной период и состояние здоровья) и слабость переговорных возможностей (обусловленная отсутствием ресурсов). Сформулировано определение слабого субъекта частноправового отношения.
Слабая сторона, слабый субъект, слабое положение, признак слабой стороны, ограниченность в ресурсах, реальные возможности
Короткий адрес: https://sciup.org/14126464
IDR: 14126464 | УДК: 347.155
Текст научной статьи Защита слабого субъекта частноправовых отношений в контексте новых вызовов и угроз
Одной из приоритетных задач современного государства является защита «слабых», что обусловлено потребностью общества в социальной стабильности и развитии традиционных ценностей, к которым относятся, в частности, высокие нравственные идеалы, гуманизм, справедливость, взаимопомощь и взаимоуважение1. Так, принцип защиты слабого субъекта основывается на общеправовых идеях справедливости, разумности и добросовестности.
Частноправовое регулирование, характеризуясь автономией воли и отсутствием субординации, фактически не способно обеспечить равенство участников отношений. По справедливому замечанию В. В. Груздева, в объективной реальности положение субъектов правоотношений зависит от множества факторов, большинство из которых не подлежат правовому регулированию [1, c. 81].
Если исходить из позиции, что правоспособность – это абстрактная способность субъекта иметь права, то возможности определяют реализацию данной способности. Так, гражданская правоспособность включает в свое содержание право собственности; это означает, что лицо обладает потенциальной возможностью иметь имущество на праве собственности, однако реальная возможность приобретения имущества в собственность опосредуется широким индивидуальным спектром факторов. Согласимся с Е. В. Вавилиным в том, что сопоставление возможностей субъектов частноправовых отношений является определяющим критерием слабости [2, c. 31].
Думается, что возможность влияния (в соответствии с одним из основных принципов частного права – диспозитивностью) выражается в реальной возможности своей волей оказывать влияние на осуществление субъективных прав. В частности, О. А. Кузнецова указывала: «Волю в договоре формирует не один субъект, а как минимум два» [3, c. 77].
Согласно названному принципу осуществление субъективных прав по своему усмотрению означает возможность влиять не только на содержание правоотношений, но и на потенциал защиты нарушенных прав [4, c. 86]. Следовательно, у слабого субъекта отсутствуют возможности влияния своей волей на осуществление и защиту субъективных прав.
Итак, слабость субъекта частноправового отношения выражается в отсутствии реальных возможностей влияния своей волей на осуществление и защиту субъективных прав и юридически значимых интересов. Отсутствие исследуемых возможностей у субъектов частноправовых отношений может быть вызвано различными причинами. Юридическая доктрина содержит широкий перечень факторов, ограничивающих возможности влияния на осуществление и защиту субъективных прав и юридически значимых интересов у того или иного субъекта правоотношения.
Считаем, что слабым субъект может быть в связи с субъективными и объективными причинами-факторами.
Субъективные факторы – это индивидуальные характеристики и действия субъекта, которые являются преодолеваемыми. К ним относятся, в частности, следующие: отсутствие ознакомления с договором является фактором, который делает сторону более слабой в правоотношении; отсутствие юридического отдела в структуре юридического лица; поспешность волеизъявления, опора на доверительные отношения и т. п. Данные факторы распространенно связаны с ожидаемой предусмотрительностью лица, а потому не обладают извинительным содержанием. М. И. Брагинский и В. В. Витрянский справедливо замечали дихотомию воли и волеизъявления в сделке, которая представляет собой защиту одной из ее сторон: либо лица, чья воля порочна, либо контрагента и тем самым стабильного гражданского оборота [5, c. 172]. Значит, субъективные факторы не имеют юридического значения.
Объективные факторы – это непреодолимые индивидуальные характеристики субъекта, вызванные независимыми от данного лица обстоятельствами. К данной группе следует отнести: непрофессионализм, ограниченность в информационных или финансовых ресурсах, возрастной период, состояние здоровья и др. Считаем, что перечень объективных факторов допустимо свести к двум признакам слабого субъекта частноправового отношения.
Первый признак – слабость переговорных возможностей.
Теория неравенства переговорных возможностей является распространенной в зарубежном правопорядке, действует с конца XIX – начала XX в. [6]. F. A. Razak, Z. A. A. Ghadas, N. Ghapa отмечают, что договорное право требует баланса двух противоположных намерений. Несбалансированность проявляется в случае ограничения свободы одной из сторон, в частности, при неравенстве переговорных возможностей. Значит, сторона, которая является более слабой в переговорных позициях, не может реализовывать свою свободу в договорных отношениях [7].
В связи с тем, что слабый субъект частноправовых отношений – широкое понятие, включающее в себя сторону договора, мы допускаем, что слабость переговорных возможностей можно рассмотреть в широком значении – как положение, существенно затрудняющее влияние своей волей и в своем интересе на возникновение, изменение и (или) прекращение правоотношений в связи с отсутствием ресурсов.
Придерживаясь позиции, что правоотношения – это связь субъектов права, полагаем, что любое правоотношение подразумевает согласование воль и интересов сторон, под которым мы понимаем «переговоры».
Например, член семьи собственника жилого помещения является слабым субъектом в связи с тем, что он не имеет возможностей влиять на жилищные правоотношения по причине слабой переговорной позиции. Т. П. Строгонова, исследуя правовое положение членов семьи собственника, приходит к выводу, что основанием возникновения прав у данных субъектов является одностороннее волеизъявление собственника на вселение [8, c. 294]. У вселяемого гражданина отсутствуют ресурсы влияния на учет его воли в складывающихся правоотношениях.
-
E. McGaughey, анализируя доктрину неравенства переговорных сил в английском праве, заметил, что переговорная сила зависит от трех главных факторов: от ресурсов, организации и информации [9].
Перечень причин, отражающих данный признак слабости, не исчерпывающий. При этом считаем возможным разделить причины неравенства переговорных возможностей на группы на основании тех ресурсов, которые способствуют реализации возможностей в «переговорах».
Во-первых, конкурентные (финансовые) ресурсы, а именно рыночное преимущество контрагента, оказывают наибольшее влияние в конкурентных, антимонопольных правоотношениях. Так, субъект, занимающий доминирующее положение на рынке, имеет возможность исключительно или преимущественно определять условия заключаемых им договоров, игнорируя и ущемляя права и интересы второй стороны [10; 11]. Финансовое преимущество распространенно выступает одновременно с первым признаком, а потому не имеет самостоятельного характера.
Во-вторых, личностные ресурсы (непрофессионализм / некомпетентность / неопытность) – наиболее распространенные причины слабого положения субъекта правоотношения. Они указывают на то, что сильный субъект осуществляет некую деятельность постоянно в течение длительного времени, а потому имеет большой опыт в данной сфере. В частности, потребители медицинских услуг распространенно находятся в отношениях с медицинскими организациями на основе доверия и зависимости, так как не обладают знаниями в данной сфере. Судебная практика подтверждает слабость кредитора-гражданина в отношениях несостоятельности (банкротства), так как он не является профессиональным участником сферы банкротства1.
Некомпетентность может проявляться на уровне не только вида деятельности, но и ее процесса, к примеру, это касается владения техническими устройствами. Актуальной видится «Новая потребительская повестка дня»1 – концепция потребительской политики Европейского союза на период с 2020 по 2025 г. Она выделяет особую категорию лиц, находящихся в слабом положении, – «офлайнеров», которые мало знакомы с цифровыми технологиями, а потому более склонны к убыткам, вызванным мошенничеством (в частности, лица, проживающие в сельской местности, городских районах).
В-третьих, правовые ресурсы, а именно: объем прав и обязанностей субъекта. Данная причина слабости аналогично отражается на реальных возможностях лица в правоотношениях. Например, в отношениях внесудебной несостоятельности (банкротства) гражданина интересы кредитора защищены недостаточно [12], что выражается в осложненной возможности воспрепятствования освобождения должника от долгов.
В-четвертых, информационные ресурсы, ограниченность в которых имеет свое проявление. Это можно наблюдать, например, в корпоративных правоотношениях в случае ограниченного доступа миноритарного акционера к информации о деятельности общества [13], а также в потребительских отношениях, в ситуации, когда покупатель не имеет исчерпывающей информации о приобретаемом им товаре.
В литературе можно встретить мнение о сложности определения положения субъектов в оценке их слабого положения в связи с недооценкой исследуемой причины слабости. Е. С. Терди, М. В. Асеев сделали вывод, что нанимателя по договору невозможно определить как слабую сторону, если он является профессионалом в данной деятельности [14]. Думается, что основанием для признания нанимателя слабым субъектом в данной ситуации является отсутствие информационных ресурсов о предмете договора. Наймодатель обладает всей совокупностью информации о жилом помещении, в том числе о лицах, имеющих право пользования данным жилым помещением, что может существенно повлиять на права и интересы второй стороны правоотношения. О. А. Кузнецова отмечает: «…в отличие от большинства субъектов предпринимательской деятельности для сельхозпроизводителей законодатель сохранил принцип ответственности за вину» [15, c. 127]; указанные субъекты допустимо являются слабыми субъектами в связи с тем, что не имеют информационных ресурсов, связанных с прогнозированием погодных условий, что влияет на возможность исполнения договора.
Проявление защиты субъекта, у которого отсутствуют информационные ресурсы, усматривается в закреплении статуса добросовестности данного лица. Например, в случае перехода по возмездной сделке права собственности на заложенное имущество от залогодателя к добросовестному приобретателю залог прекращается в силу закона2, что иллюстрирует защиту субъективных прав и интересов слабого лица, которое не знало и не должно было знать о том, что имущество является предметом залога.
В-пятых, организационные ресурсы. Организационная слабость отмечена Верховным Судом РФ на стороне работника, так как работодатель преимущественно обладает основными доказательствами по делу3. Другой пример ограниченности организационных ресурсов можно выявить при участии государства в гражданском обороте. Несмотря на принцип равенства субъектов, при вступлении государства в частные правоотношения его организационные возможности дают существенное преимущество. В судебной прак- тике Конституционного Суда РФ критерием более сильного положения публично-правового образования является большее количество организационных возможностей (по выявлению противоправных действий в отношении жилого помещения, находящегося в собственности)1.
В-шестых, временные ресурсы. Ограниченность во временных ресурсах вынуждает вступать в «переговоры» либо прекращать их в срочном порядке, что распространенно свидетельствует о невозможности осмотрительно осуществить данные действия, согласовать в «переговорах» все необходимые условия. Это способствует злоупотреблениям с сильной стороны. П. А. Правящий, рассуждая о возможном неравенстве переговорных возможностей в отношениях займа между двумя гражданами, приходит к выводу, что кредитор имеет определенное преимущество в переговорах в ситуации, если должник «нуждается в деньгах немедленно, а также не может подтвердить свой доход и (или) кредитную историю» [16].
Вторым признаком слабого субъекта являются психофизиологические особенности участников частноправовых отношений.
Данный признак объединяет субъектов, которые в связи с индивидуальными физиологическими и психологическими характеристиками находятся в зависимости от третьих лиц в связи с необходимостью удовлетворения психологических и физиологических потребностей с их помощью. Психофизиологические причины-факторы имеют широкий спектр проявлений, например детский либо пожилой возрастной период, беременность, состояние здоровья и др.
Так, несовершеннолетние в связи с физиологической и психической незрелостью обладают потребностями, которые могут быть удовлетворены только третьими лицами (в частности, родителями): потребность в воспитании и усвоении социальных норм, в осознании своих и чужих интересов, последствий своих действий, потребность в финансовом обеспечении и др. Несовершеннолетние не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права своей волей и в своем интересе, в том числе потому, что не всегда могут самостоятельно определить свою волю и интерес в правоотношении.
Другой пример. Беременная работница имеет потребность в щадящих условиях и режиме труда, обладает потенциальной потребностью в последующем длительном отпуске по уходу за ребенком. Данные потребности могут быть удовлетворены исключительно работодателем, работник в данной ситуации не способен своей волей влиять на правоотношения, осуществлять и защищать трудовые права и интересы.
Несмотря на широкую защищенность данной категории в российском законодательстве, системной правовой защиты субъективных прав и интересов психофизиологически слабых субъектов нет.
Итак, в настоящее время усматривается широкий перечень слабых субъектов частноправовых отношений. В российском законодательстве к ним допустимо отнести потребителей, работников, присоединяющуюся сторону договора, обратившуюся за заключением публичного договора сторону, миноритариев, супруга, находящегося в крайне неблагоприятном положении, несовершеннолетних, пожилых лиц, членов семьи собственника жилого помещения, производителя сельскохозяйственной продукции и др.
Таким образом, считаем актуальным исследование слабых субъектов частноправовых отношений в целях формирования их системной защиты, которая отвечает современным потребностям государства в социальной стабильности и поддержке.
Список литературы Защита слабого субъекта частноправовых отношений в контексте новых вызовов и угроз
- Груздев В. В. Правообразовательные возможности в гражданском обороте // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 2. С. 80–84.
- Вавилин Е. В. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2016. 416 с.
- Кузнецова О. А. Применение судами принципа свободы договора // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2009. № 1. С. 73–83.
- Яковлев В. Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Свердловск, 1972. 252 с.
- Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. М., 2007. 848 с.
- Barnhizer D. D. Inequality of Bargaining Power. MSU Legal Studies Research Paper No. 02-01 / Michigan State University College of Law. 106 p. URL: https://ssrn.com/abstract=570705. Дата публикации: 30.07.2004.
- Razak F. A., Ghadas Z. A. A., Ghapa N. Legal theory and raison d’etre behind the use of unfair contract terms // Jurnal Ilmiah Peuradeun. 2021. Vol. 9. No. 3. Pp. 623–638. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v9i3.647.
- Строгонова Т. П. Юридическое понятие «члены семьи собственника жилого помещения» // Сибирское юридическое обозрение. 2019. № 3. С. 291–296.
- McGaughey E. Is unequal bargaining power an unjust factor? // King’s College London Law School Research Paper. 2018. № 17. 21 p. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3200512. Дата публикации: 12.07.2018.
- 10. Карапетов А. Г., Бевзенко Р. С. Комментарий к нормам ГК об отдельных видах договоров в контексте Постановления Пленума ВАС РФ «О свободе договора и ее пределах» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2014. № 8. С. 4–97.
- Предпринимательское право: современный взгляд / Е. А. Абросимова, В. К. Андреев, Е. Г. Афанасьева [и др.]; отв. ред. С. А. Карелина, П. Г. Лахно, И. С. Шиткина. М., 2019. 600 с.
- Внесудебное банкротство / О. Зайцев, Р. Мифтахутдинов, А. Юхнин, С. Карелина, Е. Сердитова, М. Пацация, Е. Уксусова, И. Ястржембский, Д. Архипов, О. Пермяков, Д. Константинов, Н. Строев, О. Бабкин // Закон. 2020. № 9. С. 21–38.
- Клячин А. А. Право участника общества с ограниченной ответственностью на получение информации о деятельности общества // Третий Пермский конгресс ученых-юристов: материалы междунар. науч.-практ. конф. Пермь, 2012. С. 174–175.
- Терди Е. С., Асеев М. В. Концепция реформирования расторжения договора коммерческого найма жилого помещения // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2022. № 3. С. 85–114.
- Кузнецова О. А. Соотношение противоправности, вины и непреодолимой силы на примере ответственности сельхозпроизводителя // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2013. № 2. С. 127–139.
- Правящий П. А. Обеспечительная передача титула, не предусмотренная законом: исследование практики судов общей юрисдикции // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2022. № 2. С. 152–200.