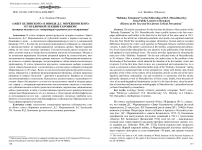"Завет Белинского" в изводе Д.С. Мережковского: от публичной лекции к брошюре (история текста и его литературно-критического восприятия)
Автор: Холиков Алексей Александрович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 3 (54), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье впервые реконструируется история создания «Завета Белинского» Д.С. Мережковским от публичной лекции к первым газетным публикациям и далее - к окончательно сформировавшемуся тексту в одноименной брошюре 1915 г. В качестве источников привлекаются собранные по периодике и преимущественно не переиздававшиеся материалы времен Первой мировой войны (в том числе газетные хроники). Текстологический анализ позволил выявить отличия между устными выступлениями писателя в Петрограде, Москве и их печатными вариантами. Изучение авторской правки на стилистическом, композиционном и содержательном уровнях показало, что Мережковский внимательно отнесся к изданию брошюры, актуализировав ее общественно-политическую проблематику. В статье приводятся аргументы, касающиеся выбора основного текста «Завета Белинского» для включения в состав нового собрания сочинений Мережковского в 20 томах. Вслед за текстологической реконструкцией исследователь обращается к проблеме функционирования брошюры, которая привлекла внимание ее первых читателей, - критиков и рецензентов. Впервые их отклики систематизированы и осмыслены. В результате делается вывод о дальнейшем изучении «Завета Белинского» с учетом его метатекстовых связей в четырех ракурсах: наряду с литературно-критическими выступлениями писателя; в контексте его публицистических статей о роли интеллигенции, патриотизме, национализме, войне и революции; в связи с художественным (прежде всего драматургическим) творчеством Мережковского тех лет; наконец, с точки зрения автобиографического истолкования (до сих пор - наименее очевидного, поскольку проблема осознанного и бессознательного автобиографизма в публицистике Мережковского не была сформулирована учеными).
Текстология, литературная критика, публицистика, газета
Короткий адрес: https://sciup.org/149127449
IDR: 149127449 | DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00071
Текст научной статьи "Завет Белинского" в изводе Д.С. Мережковского: от публичной лекции к брошюре (история текста и его литературно-критического восприятия)
Из отчета, опубликованного газетой «Речь» 28 февраля 1915 г, известно, что лекция Д.С. Мережковского «Завет Белинского» собрала (по всей вероятности, 25 числа [см.: В.Г. Белинский: pro et contra2011, 1106]) в Тени-шевском училище Петрограда много публики и прошла с большим успехом [см.: Д.С. Мережковский о «завете Белинского» 1915, 5]. Основным материалом для выступления послужил изданный в 1914 г. трехтомник «Писем» В.Г. Белинского [Белинский 1914] (для тех лет - максимально полный свод эпистолярного наследия критика; критическую оценку этого издания см.: [Оксман 1950, 201-254]). Книги увидели свет незадолго до начала Первой мировой войны, и Мережковский посчитал необходимым открыть свою речь со слов извинения: «Я знаю, как трудно отвлечь

внимание от великих событий, которые теперь происходят. Но тема моей лекции - о религиозности и общественности русской интеллигенции - не так далека от этих событий, как это кажется» [Д.С. Мережковский о «завете Белинского» 1915, 5]. Следом Мережковский повторит выступление в Москве, о чем б марта сообщили «Русские ведомости»: «Вчера в Большой аудитории Политехнического музея Д.С. Мережковский прочитал лекцию под заглавием: “Завет Белинского” (Религиозность и общественность русской интеллигенции)» [Лекция Д.С. Мережковского 1915, 4]. Анонимный обозреватель отметил, что «аудитория была переполнена, и лектора встретили и проводили дружными аплодисментами» [Лекция Д.С. Мережковского 1915, 4].
Спустя месяц «Завет Белинского» с подзаголовком «Религиозность и общественность русской интеллигенции» появляется на страницах двух утренних выпусков газеты «Биржевые ведомости» (11 (24) апреля. № 14777. С. 2; 16 (29) апреля. № 14787. С. 2), а уже летом одноименная брошюра [Мережковский 1915 с] Мережковского упоминается среди новых книг (см. список изданий, поступивших в редакцию: Русские ведомости. 1915. 22 июля. С. 5). Ее тираж -3100 экземпляров (и это в условиях военного времени!) - лишний раз подтверждает успех устных выступлений писателя. Неудивительно, что брошюра привлекла внимание критиков и рецензентов. Будучи рассеянными по периодике, их отклики до сих пор не были собраны и осмыслены исследователями. Даже в таком авторитетном труде, как «Летопись литературных событий в России конца XIX - начала XX в. (1891 - октябрь 1917). Вып. 3» (2005), упомянуты не все. Кроме того, в научных публикациях время от времени встречается ошибочное датирование лекции и брошюры 1914 г. Но, прежде чем обратиться к функционированию окончательно сложившегося текста, реконструируем его историю по дошедшим до нас источникам.
***
К сожалению, мы не располагаем первоначальной рукописью лекции [в РГАЛИ хранится расписка Д.С. Мережковского в получении денег в счет гонорара за брошюру «Завет Белинского» от издательства «Прометей» (РГАЛИ. Ф. 327. On. 1. Ед. хр. 10); там же в фонде Л.В. Кулешова и А.С. Хохловой находится лист с тезисами лекции, прочитанной Мережковским 5 марта 1915 г. в Москве (РГАЛИ. Ф. 2679. On. 1. Ед. хр. 1203)]. Между тем обращение к опубликованным отчетам ее первых слушателей, вышедшему позднее газетному варианту и, наконец, к брошюре позволяет проследить за текстом в его динамике. Репортер петроградской «Речи» в начале заметки прямо цитирует Мережковского: «Есть ли русская интеллигенция - воплощение народа, об этом можно, конечно, спорить, но что другого воплощения у нас нет - это бесспорно... В судьбах России, которые теперь решаются, русская интеллигенция рано или поздно сыграет свою роль, и на ней лежит поэтому грозная ответственность. Но существует ли русская интеллигенция, как руководительница народа?»
[Д.С. Мережковский о «завете Белинского» 1915, 5]. Газетная публикация открывается теми же словами: «Есть ли русская интеллигенция подлинное воплощение русского народного сознания и русской народной совести, -об этом можно спорить. Но что другого воплощения нет сейчас, - кажется, бесспорно. Бесспорно и то, что в судьбах России, которые на наших глазах совершаются, русская интеллигенция рано или поздно примет участие» [Мережковский 1915 а, 2]. Заключительный вопрос в ней также присутствует («...существует ли русская интеллигенция, как связанная с народом, руководящая сила умственная, нравственная и общественная?» [Мережковский 1915 а, 2]), однако ему предшествует еще один, опущенный в обзоре вопрос. Сказав о «грозной ответственности», которая падает на русскую интеллигенцию, Мережковский предлагает поразмышлять: «Выдержит ли она эту ответственность?» Далее анонимный хроникер, цитируя лишь отдельные фразы, с точностью воспроизводит логику мысли писателя, которая развивается от тезиса о том, что Белинский - «первый русский интеллигент», «олицетворение (в газетном варианте использовано другое слово - “прообраз”. - Л.Х) всей русской интеллигенции», к сомнению, а затем и опровержению слов Ф.М. Достоевского, согласно которым Белинский - «преступная совесть России», в противном случае «положение наше действительно отчаянное» (в газетном варианте читаем - “положение наше, в самом деле, отчаянное”. -Л.Х) [Мережковский 1915 а, 2]. Уже на этом примере из преамбулы к основной части лекции хорошо видно, что если газетный текст и отличался от устного выступления, то прежде всего стилистически (при этом нельзя исключать искажений речи под пером писавшего журналиста).
В композиционном отношении между лекцией и ее газетной версией прослеживается такая же четкая преемственность. Сперва (и это соответствует фрагменту под номером I) говорится, что Мережковский с опорой на письма Белинского показывает «основные черты его характера» (в печатном варианте сказано более образно - «вглядимся в лицо» [Мережковский 1915 а, 2]): «нереальность, недействительность, аскетический идеализм, “не от мира сего”» (из всех приведенных характеристик в публикации Мережковского отсутствует «аскетический идеализм», зато встречается «идеальность»). Затем, как и во фрагменте II, подчеркивается, что «Белинский гораздо ближе к христианству, даже к православию, чем Достоевский, потому что вся “русская суть” Белинского есть бессознательное подвижническое христианство». Содержание фрагментов III и IV передается в той же последовательности: от мысли о Белинском как «мученике, монахе, но без веры», сознательное мышление которого «состояло в бессознательных поисках веры», к утверждению, что «два Белинских вели между собой борьбу - “Виссарион смиренный” и “Виссарион неистовый”, - общественность не могла примириться с религиозностью». Наконец, в V и VI фрагментах газетного текста «Завета Белинского» звучит призыв к интеллигенции соединить «стихию религиозную и стихию общественную», изменить сознание, не изменяя совести, «проникнуться

народной верой», и тогда общим лозунгом будет: «Да здравствует великая армия русского духа, да здравствует русская интеллигенция» [Д.С. Мережковский о «завете Белинского» 1915, 5].
Судя по отчету московского репортера, лекция в Политехническом музее принципиально не отличалась от выступления в Тенишевском училище. Однако читателю «Русских ведомостей» сообщались дополнительные подробности. В частности, передавались сетования Мережковского на то, что «особенно горячо нападали на интеллигенцию “веховцы”, -ив этом они - ученики Достоевского, который учил, что безбожная интеллигенция не может быть представительницей народа-богоносца» [Лекция Д.С. Мережковского 1915, 4] (повторятся в преамбуле газетной публикации [см. также: Андрущенко 2007, 163-168; Дудек 2007, 169-178]). Кроме того, в отчете о лекции в Москве более детально пересказаны пассажи из I фрагмента текста Мережковского о внешнем облике Белинского («худой, сутулый, некрасивый, и лишь в глазах видна страстная обнаженная душа»), укладе его жизни («физическая беспомощность, неприспособленность к миру, внешняя нищета»), родословной («происходил от деда-священника, который кончил жизнь полузатворником»), отношениях с женщинами («женитьба от отчаяния, самоистязание в браке») [Лекция Д.С. Мережковского 1915, 4].
Думается, приведенных фактов достаточно, чтобы считать опубликованный в «Биржевых ведомостях» текст «Завета Белинского» более-менее идентичным одноименной лекции. Именно поэтому отсутствие в газетных отчетах отдельных тезисов Мережковского интересно не только с точки зрения истории данного текста, но и в связи с характеристикой особенностей его восприятия первыми слушателями, производившими отбор наиболее важной, на их взгляд, информации. В этом отношении примечательно, что ни петроградский, ни московский репортеры не зафиксировали (безотносительно к причинам) ряд существенных суждений. Среди них - мысль о том, что «в художественных оценках Белинского - неимоверные промахи» [Мережковский 1915 а, 2], сопровождающаяся конкретными примерами. Между тем в лекции о Белинском сохраняется уже апробированная писателем триада: жизнь - творчество - религия. И хотя здесь она не выражена столь очевидным образом (на уровне рамочного текста), как в работах о Л. Толстом и Достоевском или Н.В. Гоголе, однако заложена в логическую структуру лекции и конституирует ее. Помимо этого, в обоих отчетах о прочитанной Мережковским лекции несколько сглажена ее общественно-политическая острота и злободневность применительно к Достоевскому (ср. с напечатанным текстом выступления: «Ныне грозящий нам национализм “звериного образа”, утверждение народности безбожное и бесчеловечное, есть в значительной мере дело Достоевского» [Мережковский 1915 Ь, 2]; или о нем же: «Все его пророчества исполняются или опять-таки как будто исполняются: идея “всеславянства”, мечта о Царь-граде, как о твердыне будущей русско-византийской теократии, отречение от “гнилого Запада” и, наконец, разгром русской интеллигенции» [Мереж- ковский 1915 а, 2]).
О том, что животрепещущие вопросы современности в разговоре о Белинском имели для Мережковского куда более важное значение, нежели историко-литературные проблемы XIX в., говорит и характер изменений, произошедших с текстом лекции при подготовке к печати брошюры. Между ней и газетным «препринтом» имеется принципиальное расхождение. В IV фрагменте после слов: «От одного к другому, от “монашества” к “неистовству”, от религии к революции - таков путь Белинского, первого русского интеллигента и, может быть, всей русской интеллигенции» - и до фразы: «Круг сознания не замкнут; но когда замкнется, то, может быть, и революционная мысль о человечестве-обществе соединится с религиозною мыслью о человеке-личности» [Мережковский 1915 Ь, 2] - следует вставка, которая в брошюре занимает чуть более пяти страниц [Мережковский 1915 с, 29-34]. На них говорится о том, что «самодержавие с православием, - вечная недвижимость или движение назад» [Мережковский 1915 с, 30], об отношении Белинского к политике и его «первом бунте», «начале вечной “движимости”» [Мережковский 1915 с, 31], увлеченности революционной идеей социализма, близости с анархистом М.А. Бакуниным и, наконец, повороте от общественности к человеческой личности. «Здесь еще нет религиозного утверждения, - заключает автор, - но есть отрицание отрицания - единственно возможное в религии “доказательство от противного”» [Мережковский 1915 с, 34]. Остальные отличия между отдельным изданием «Завета Белинского» и его газетной публикацией носят пунктуационный и стилистический характер.
Анализ правки указывает на то, что Мережковский внимательно отнесся к изданию, не только актуализируя общественно-политическую проблематику и подводя читателя к мысли о религиозной революции в России, которую русская интеллигенция должна совершить вместе с народом, но одновременно шлифуя свой текст. Так, избранные фразы становятся более компактными: «“Безбожное” сознание, “безбожная” совесть не могут быть сознанием и совестью русского “народа-богоносца”, - таково главное обвинение [Достоевского против интеллигенции, обвинение], которое на тысячи ладов повторялось и доныне повторяется» [Мережковский 1915 а, 2]; «“Я одарен движимостью вперед”[, - говорит Белинский]»; «... - говорит Достоевский [о Белинском]» [Мережковский 1915 Ь, 2] (здесь и далее квадратными скобками отмечены удаленные при подготовке брошюры слова). Синтаксические конструкции упрощаются (вместо «Но что-то сильнее, чем сознание, мешает ему...» читаем: «Но что-то сильнее сознания мешает ему...» [Мережковский 1915 с, 28]. В перечислении «Свобода, равенство и братство...» союз «и» заменяется запятой [Мережковский 1915 с, 35]) или гармонизируются (фраза «У такого народа не может быть сознание безбожное, безбожная совесть...» трансформируется: «У такого народа не может быть безбожное сознание, безбожная совесть...» [Мережковский 1915 с, 41]). Исчезают избыточные лексические повторы («Говорит слабым хриповатым голосом <...>; [говорит], “упорствуя, волнуясь
и спеша”...»; «рядом с его каморкою - прачечная <...>; комната [его] не запирается...» [Мережковский 1915 а, 2]; «...соединить три мысли <...>. Но недаром выходит одна [мысль] из другой...» [Мережковский 1915 Ь, 2]) и кавычки к некоторым словам или даже оборотам («монашество», «бесплотность», «монах», «монашеская», «разобрать», «бросается в разврат, от отчаяния», «безбожие», «обращенному», «вера», «бунт», «хула на Духа») [Мережковский 1915 с, 13-16, 19, 22, 24, 27-28, 36, 39, 41]. Исправляются некоторые (далеко не все!) неточности в цитатах из Белинского («Умру на журнале, и [я] в гроб велю положить...» [Мережковский 1915 а, 2]). Появляются дополнительные графические выделения слов («Едва ли даже не одна из слабостей Белинского именно то, что он был слишком русский, только русский человек» [Мережковский 1915 с, 19]); в нескольких фрагментах (I-IV) сделаны дополнительные абзацные отступы, благодаря которым текст становится более четким и внятным в структурном отношении. После отдельных пассажей Мережковский убирает указания на источник (воспоминания И.С. Тургенева, А.Я. Панаевой).
Произведенный текстологический анализ убеждает, что сегодня при подготовке «Завета Белинского» к печати в составе научного собрания сочинений Д.С. Мережковского в двадцати томах (готовится под эгидой ИМЛИ - ИРЛИ РАН; редколлегия: Е.А. Андрущенко, О.А. Коростелев, К.А. Кумпан, А.В. Лавров, В.В. Полонский, А.А. Холиков; издательство «Дмитрий Сечин») в качестве основного следует выбирать текст брошюры 1915 г, а не первую газетную публикацию. Однако и он нуждается в исправлении оставшихся опечаток (пунктуационных и лексико-грамматических), а приводимые Мережковским цитаты, содержащие ряд искажений первоисточника, - в тщательной сверке. Одна из современных републикаций «Завета Белинского» [В.Г. Белинский: pro et contra 2011, 537-554, 1106-1107] свидетельствует также о насущной потребности в более развернутых комментариях, исключающих все еще сохраняющиеся лакуны.
***
Реакция современников на отдельное издание «Завета Белинского» отмечена традиционными упреками Мережковского в злоупотреблении чужим словом. С.О. Португейс (впоследствии прославится как «первый советолог» русской эмиграции), разместивший свой отзыв в газете «День» под псевдонимом «Ст. Ив.», назвал Мережковского «тайновидцем цитаты» и «поистине великим мастером цитат»: «Цитата ему на диво послушна. Какое бы задание ни поставил себе автор, к его услугам множество цитат, жертвенно, самозабвенно падающих в заранее для них заготовленные автором рамки» [Португейс 1915, 5]. Д.И. Выгодский (в дальнейшем -известный переводчик, репрессированный и скончавшийся в лагере) на страницах «Нового журнала для всех» высказался о Мережковском в том же духе: «Цитаты он приводит в таком изобилии и с таким поразительным умением, что у читателя, путающегося в их хитросплетении, и в самом деле является уверенность в том, что Белинский - первое издание Мереж- ковского, что Белинский думал и говорил то, что думает и говорит Мережковский» [Выгодский 1916, 77]. Оба рецензента указывают на искусственную близость взглядов автора и героя, чуть ли не дословно совпадая в итоговой оценке. «Таков завет Белинского России. - Читаем в “Дне”. - Совсем точь-в-точь такой же, как и заветы Мережковского. Прямо удивительно, до чего Белинский предвосхитил Мережковского. Талантливый человек был покойник» [Португейс 1915, 5]. «И совсем в духе Мережковского завет Белинского <.. .>. - Говорится в другом издании. - Эта удивительная тождественность Белинского с Мережковским заставляет спросить последнего: не принял ли он свои собственные мысли за “неуслышанные речи” Белинского, не ослышался ли он?» [Выгодский 1916, 77]
В идеологически близкой Мережковскому «Речи» [см. об этом: Хо-ликов, Коростелев 2017, 146-160] появились два более развернутых отзыва на «Завет Белинского». Первый опубликовал Т.П. Чулков, второй -Ф.Д. Батюшков. Они не обходят вниманием то, что регулярно ставилось в вину Мережковскому-критику. Чулков указывает на увлеченность автора антиномиями и колебания в его оценках. Однако смягчает собственное замечание: «Это своеобразие душевных движений Мережковского не умаляет, конечно, его значения, как мыслителя и писателя. Напротив, необычайная искренность его если и дает иногда повод к нападкам на странное, на первый взгляд, непостоянство в его суждениях о людях, идеях и событиях, зато радует более проницательные умы, потому что это непостоянство лишь кажущееся и мнимое: в сущности своей Мережковский остается себе верен» [Чулков 1915, 3]. Батюшков, в свою очередь, осторожно напоминает об излюбленном методе Мережковского, который «раздваивает облик Белинского приемом, ставшим у него несколько шаблонным: я не говорю “неверным”, потому что в каждом из нас неоднократно борются как бы разные “лики”, то есть разные стороны нашего духовного существа, разные качества и свойства. Но Мережковский уже много раз его применял. И теперь перед нами два Белинских: Виссарион Смиренный, аскет, почти монах в миру, и Виссарион Неистовый, революционер-общественник, отрицатель» [Батюшков 1915, 2].
Вместе с тем и Чулков, и Батюшков отмечают некоторую недоговоренность в новой работе Мережковского. Оставляя под вопросом тезис о равенстве между идеей свободы и Богом для Белинского, Батюшков утверждает, что характер его деятельности и «оценка плодов его “мыслей”, хотя бы и внушенных во многом страстным и великим сердцем, требовали большего по размерам полотна» [Батюшков 1915, 2]. В этом отношении «одним из лучших» он считает труд Мережковского о М.Ю. Лермонтове. Называя «Завет Белинского» «совершенной по форме и психологически тонкой» [Чулков 1915, 4] речью, Чулков пишет: «В этой своей публичной лекции Д.С. Мережковский как бы умалчивает о чем-то. И, если бы мы не знали других его книг, мы бы недоумевали, как сам Мережковский отвечает на вопрос, поставленный так остро и так требовательно. В этом умолчании сегодня о том, о чем говорилось вчера и, быть может, сказано
будет завтра, есть какая-то высокая и мудрая правда» [Чулков 1915, 4].
В умозаключении Чулкова - ключ к пониманию «Завета Белинского», изучение которого не может вестись изолированно (как и любого иного текста писателя, необязательно при этом входящего в более крупные ме-татекстовые образования) [см. об этом: Холиков 2011, 15-25]. С одной стороны, работа Мережковского может быть поставлена в общий ряд с его литературно-критическими выступлениями. Чулков сам сравнивает ее с трактатом «Л. Толстой и Достоевский» («Книгу эту мы все прочли, и едва ли нужно напоминать о ее значении» [Чулков 1915, 3-4]), говоря о сложности мироотношения автора, который сперва «открыл русскому и европейскому обществу» Достоевского «во всей его необъятной полноте и гениальной значимости», а теперь на него же «нападает» [Чулков 1915, 3]. В литературном контексте «Завет Белинского» рассматривает и Батюшков, вспоминая книгу о Л. Толстом и Достоевском, которая ему понравилась, но дополняя рассуждения о критическом методе Мережковского («Его главное качество в умении создать какой-то особый, живой и жизненный образ из отдельных мыслей разбираемого автора, связывая их в сложный, но все-таки цельный облик, который приобретает особую конкретность благодаря отдельным штрихам из личной жизни, цитатам из частных писем, сообщениям сверстников и современников» [Батюшков 1915, 2]), оценкой его очерков о Н.А. Некрасове и Ф.И. Тютчеве, составивших книгу «Две тайны русской поэзии» (1915).
К сожалению, даже в этом, очевидном, на первый взгляд, литературнокритическом контексте, «Завет Белинского» практически не рассматривается учеными. Редкие исключения - послесловие Е.А. Андрущенко к изданию «Л. Толстого и Достоевского» в серии «Литературные памятники» [Андрущенко 2000, 481-528] и небольшая публикация (фактически - тезисы) Л.Н. Житковой [Житкова 2004, 85-88], в которой, помимо «Завета Белинского», упоминается оценка критика в другой, еще юношеской, брошюре - «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1893) - и прослеживается влияние его идей на работы Мережковского о Пушкине, Лермонтове, Гоголе.
С другой стороны, помимо литературно-критического, существует собственно публицистический ракурс изучения «Завета Белинского», и он представляется нам куда более показательным для статей Мережковского военных и революционных лет. В рецензии Чулкова звучит робкое предположение: «Неужели Мережковский отказался от самого себя? Или он, сражаясь с нашими нео-славянофилами, “слагает канон” Белинскому и уподобляется тем зоилам, которые, по слову поэта, кадят мертвому, “чтобы живых задеть кадилом”?» [Чулков 1915, 4]. Вопрос в определенной степени риторический. Когда-то в «Грядущем хаме» (1906) Мережковский недоумевал, как близкий ему Достоевский (тогда он именовался «пророком русской революции», а не «реакционером» и «националистом») мог произнести свой «приговор» над Белинским, не поняв, что если он «и не был со Христом, то Христос был с ним» [Мережковский 1914 а, XIV, 33].
В дальнейшем, на фоне расцветшего в годы Первой мировой войны национализма, у Мережковского изменится отношение к почвеннику Достоевскому, но не к Белинскому Недаром в «Грядущем хаме» прозвучала мысль, повторенная в 1915 г: «О русской интеллигенции иногда можно сказать то же, что о Белинском: она еще не со Христом, но уже с нею Христос» [Мережковский 1914 а, XIV, 34]. Не помешает вспомнить и две другие публикации начала века. В одной из них - «Теперь или никогда» -встречается прямая отсылка к словам Белинского о том, что русский народ самый атеистический из всех народов, и следом утверждается: «Формула Белинского о русском атеизме приобретает, по-видимому, гораздо большую силу в применении к русской интеллигенции», но это «только внешность, только лакированный европейским лаком, тонкий слой нашей культуры», и «глубина русского атеизма - мнимая зеркальная глубина» [Мережковский 1914 а, XIV, 141-142]. В другой статье - «Страшный суд над русской интеллигенцией» - Белинский не упоминается, хотя спустя десять лет именно в его адрес будет дословно повторено то, что относилось в этом тексте к характеристике Петра I - «первый русский интеллигент» [Мережковский 1914 а, XIV, 150].
В годы Первой мировой войны Мережковский не охладеет к Петру I, он по-прежнему для него «первообраз», и «сущность его остается сверхнациональною, всемирною» [Мережковский 1914 Ь, 23]. Этим словам из статьи «О религиозной лжи национализма», которая позднее войдет в «Невоенный дневник» (1917), предшествует пассаж, начинающийся с того, что «борьба с национализмом - главная задача русской интеллигенции», и завершающийся фактически призывом: «“Да будет проклята всякая народность, исключающая из себя человечность!” - этот завет Белинского (курсив наш. - XX) - завет всей русской общественности» [Мережковский 1917, 126]. Примечательно, что в журнальной публикации 1914 г. данный фрагмент оказался в числе вырезанных цензурой. Не потому ли уже в следующем году Мережковский выступает с лекцией о завете Белинского, используя его в качестве «завесы» в разговоре о самых жгучих общественно-политических вопросах?! Как верно предположил Чулков: кадит мертвому, «чтобы живых задеть кадилом».
Вот почему «Завет Белинского» стоит в одном ряду с выступлениями Мережковского о роли интеллигенции, патриотизме, национализме, войне и революции в петербургском/петроградском Религиозно-философском обществе [см.: Религиозно-философское общество... 2009], на страницах сборников «Было и будет. Дневник. 1910-1914» (1915) и «Невоенный дневник. 1914-1916» (1917), в брошюре «Зачем воскрес? Религиозная личность и общественность» (1916), чуть более завуалированно - в исследовании «Две тайны русской поэзии: Некрасов и Тютчев» (1915), наконец, в статьях этих же лет, не вошедших в авторские книги, но в настоящее время готовящихся нами к печати в составе нового собрания сочинений [см. также: Холиков, Коростелев 2018, 496-564]. В эмиграции отношение Мережковского к Белинскому оставалось положительным. Он считал его
«крупным и значительным человеком», «одним из отцов русской революции» [Мережковский 2001, 251, 542].
К завершению разговора о роли русской интеллигенции и пониманию ее Мережковским следует добавить, что имя Белинского входит не только в литературно-критический и публицистический, но и в художественный пласт творческого наследия писателя. Подготовка лекции «Завет Белинского» велась, как известно, одновременно с работой Мережковского над пьесой «Романтики» (поставлена в 1916 г. В.Э. Мейерхольдом на сцене Александрийского театра), герой которой Михаил Кубанин (прототипом послужил М.А. Бакунин) в ответ на слова Ксандры «Твой Белинский -просто дурак!» произносит: «Нет, не он, а мы дураки. Дон-Кихоты, безумцы, романтики. Самые смешные люди в мире. Ну и пусть. Пусть над нами смеются взрослые, важные, умные. Не бойтесь, друзья, не они, а мы победим, мы, смешные, победим смеющихся!» [Мережковский 2000, 316]. Изданные в 1914 г. письма Белинского для этого драматического произведения послужили одним из основных источников текста. Особого внимания при этом заслуживает рассмотрение «Романтиков» наряду с пьесой «Будет радость» и романом о декабристах, создававшихся в эти же предреволюционные годы.
***
Таким образом, в случае с Белинским Мережковский остался верен собственному принципу - говорить об одном, но в разных формах [Холи-ков 2014, 182]. Не менее интересно было бы проследить, в какой мере «Завет Белинского» поддается истолкованию в автобиографическом ракурсе. В тексте, по крайней мере, встречаются неявные переклички с «Автобиографической заметкой», которая как раз в 1915 г. была в очередной раз опубликована, но уже не в газете и не в прижизненном «Полном собрании сочинений», а в составе одного из выпусков «Русской литературы XX века. 1890-1910» под редакцией С.А. Венгерова - издания, для которого она первоначально заказывалась (см. опубликованный в этой связи отзыв об автобиографических заметках Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус: [Буренин 1915, 4]; см. также: [Холиков 2018, 677-688]). В частности, напрашивается параллель между признанием Мережковского в том, что «смерть матери, болезнь жены и некоторые другие тяжелые обстоятельства» его личной жизни «были причиной того религиозного переворота», который он сам пережил [Мережковский 1914 а, XXIV, 113-114], и вольным (вероятно, опирающимся на личный опыт) предположением писателя, будто «последний переворот» Белинского, «не только умственный, но и жизненный» (приход к мысли о человеке-личности, которая, по мнению Мережковского, «от противного» соприкасается с мыслью о Боге) произошел под большим влиянием «тяжелой болезни, предчувствием своей собственной смерти и смерти друга, Ник. Вл. Станкевича» [Мережковский 1915 с, 33]. Другой пример - специально подобранная Мережковским цитата из воспоминаний И.С. Тургенева о Белинском: «Мы не решили еще вопроса о существовании бога, - сказал он мне однажды с горьким упреком, - а вы хотите есть!» [Мережковский 1915 с, 9] - косвенно перекликается с автобиографическим фрагментом из статьи Мережковского об А.П. Чехове «Асфодели и ромашка» (1908): «Я был молод; мне все хотелось поскорее разрешить вопросы о смысле бытия, о Боге, о вечности. И я предлагал их Чехову, как учителю жизни. А он сводил на анекдоты да на шутки. Говорю ему, бывало, о “слезинке замученного ребенка”, которой нельзя простить, а он вдруг обернется ко мне, посмотрит на меня своими ясными, не насмешливыми, но немного холодными, “докторскими” глазами и промолвит: - А, кстати, голубчик, что я вам хотел сказать: как будете в Москве, ступайте-ка к Тестову, закажите селянку - превосходно готовят, - да не забудьте, что к ней большая водка нужна. Мне было досадно, почти обидно: я ему о вечности, а он мне о селянке» [Мережковский 1914 а, XVI, 40-41]. Наконец, даже портретное описание «первого русского интеллигента» Белинского («Человек небольшого роста <...>. Лицо бледно-красноватое <...>. Вообще все незначительно, “мизерабельно” <.. .>. Все - кроме глаз» [Мережковский 1915 с, 10]) напоминает под пером Мережковского его собственную автохарактеристику, данную в письме к О .А. Флоренской: «Знаете, у меня лицо, “как у всех” - средний русский интеллигент. Небольшой рост, черненькая бородка, лицо бледное, усталое. В глазах и в манере говорить есть некоторое безумие <...>. Серость, “лицерабельность” наружности <.. .> уходит в метафизическую глубину существа...» [Шутова 2008, 147]. Как видно, проблема осознанного и бессознательного автобиографизма в публицистике Мережковского, до сих пор не поставленная учеными и обозначенная здесь в связи с «Заветом Белинского» лишь пунктирно, не лишена оснований, но выходит далеко за рамки сформулированной нами темы, а значит, заслуживает самостоятельного и куда более обстоятельного разговора в ближайшей перспективе.
Список литературы "Завет Белинского" в изводе Д.С. Мережковского: от публичной лекции к брошюре (история текста и его литературно-критического восприятия)
- Андрущенко Е.А. Д.С. Мережковский против «Вех» // Сборник «Вехи» в контексте русской культуры / отв. ред. А.А. Тахо-Годи, Е.А. Тахо-Годи. М., 2007. C. 163-168.
- Андрущенко Е.А. Тайновидение Мережковского // Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский / изд. подг. Е.А. Андрущенко. М., 2000. С. 481-528.
- Батюшков Ф. О критических очерках Д.С. Мережковского и «критическом» манифесте П.С. Когана // Речь. 1915. 14 (27) октября. № 283. С. 2.
- Белинский В.Г. Письма: в 3 т. / ред. и прим. Е.А. Ляцкого. СПБ., 1914.
- Буренин В. Критические очерки // Новое время. 1915. 13 (26) ноября. № 14253. С. 4.
- В.Г. Белинский: pro et contra / сост., вступ. статья, коммент. А.А. Ермичева. СПб., 2011.
- Выгодский Д. Д.С. Мережковский. Завет Белинского. К-во Прометей. Пет. 1915 // Новый журнал для всех. 1916. № 2-3 (февраль - март). С. 77.
- Д.С. Мережковский о «завете Белинского» // Речь. 1915. 28 февраля. № 57. С. 5.
- Дудек А. Духовный облик русской интеллигенции в оценке Дмитрия Мережковского // Сборник «Вехи» в контексте русской культуры / отв. ред. А.А. Та-хо-Годи, Е.А. Тахо-Годи. М., 2007. С. 169-178.
- Житкова Л.Н. Белинский и Мережковский: осмысление наследия // Дергачевские чтения - 2002. Русская литература: национальное развитие и региональные особенности: материалы VI Всероссийской научной конференции. Екатеринбург, 2004. С. 85-88.
- Лекция Д.С. Мережковского // Русские ведомости. 1915. 6 марта. № 53. С. 4.
- (а) Мережковский Д. Завет Белинского (Религиозность и общественность русской интеллигенции) // Биржевые ведомости. Утренний выпуск. 1915. 11 (24) апреля. № 14777. С. 2.
- (Ь) Мережковский Д. Завет Белинского (Религиозность и общественность русской интеллигенции) // Биржевые ведомости. Утренний выпуск. 1915. 16 (29) апреля. № 14787. С. 2.
- (с) Мережковский Д.С. Завет Белинского: Религиозность и общественность русской интеллигенции. [Пг., 1915].
- (а) Мережковский Д.С. Полное собрание сочинений: в 24 т. М., 1914.
- (Ь) Мережковский Д.С. О религиозной лжи национализма // Голос жизни. 1914. № 4. С. 22-24.
- Мережковский Д.С. О религиозной лжи национализма // Мережковский Д.С. Невоенный дневник. 1914-1916. Пг., 1917. С. 121-132.
- Мережковский Д.С. Романтики // Мережковский Д.С. Драматургия. Томск, 2000. С. 276-330.
- Мережковский Д.С. Царство Антихриста: статьи периода эмиграции / сост., коммент. О.А. Коростелева и А.Н. Николюкина; послесл. О.А. Коростелева. СПб., 2001.
- Оксман Ю. Переписка Белинского: Критико-библиографический обзор // Литературное наследство. Т. 56. Кн. II. М., 1950. С. 201-254.
- Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде): История в материалах и документах: 1907-1917: в 3 т. / сост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч. О.Т. Ермишина, О.А. Коростелева, Л.В. Хачатурян и др. М., 2009.
- Ст. Ив. [Португейс С.О.] Д.С. Мережковский. «Завет Белинского». Кн-во «Прометей». Птгд 1915 г. Ц. 30 к. // День. 1915. 29 октября. № 298. С. 5.
- Холиков А.А. «Автобиографическая заметка» как текст и контекст второго прижизненного «Полного собрания сочинений» Д.С. Мережковского // Текстологический временник. Русская литература ХХ века: вопросы текстологии и источниковедения. Кн. 3. Письма и дневники в русском литературном наследии ХХ века / отв. ред. Н.В. Корниенко. М., 2018. С. 677-688.
- Холиков А.А. Прижизненное полное собрание сочинений Дмитрия Мережковского: Текстология, история литературы, поэтика. М.; СПб., 2014.
- Холиков А.А. Принципы научного изучения прижизненных полных собраний сочинений русских писателей // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. 2011. № 3. С. 15-25.
- Холиков А.А., Коростелев О.А. От войны к революции: публицистика Д.С. Мережковского, не вошедшая в авторские сборники (1917-1918) // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 2017. № 1. С. 146-160.
- Холиков А.А., Коростелев О.А. Публицистика Д.С. Мережковского (1917-1918 гг.) // Д.С. Мережковский: писатель - критик - мыслитель / ред.-сост. О.А. Коростелев, А.А. Холиков. М., 2018. С. 496-564.
- Чулков Г. Д.С. Мережковский. Завет Белинского. Религиозность и общественность русской интеллигенции. К-во «Прометей» // Речь. 1915. 17 (30) августа. № 225. С. 3-4.
- Шутова Т. «Нечаянная радость»: письма Д.С. Мережковского О.А. Флоренской // Новый журнал. 2008. № 253. С. 140-160.