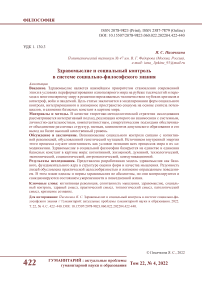Здравомыслие и социальный контроль в системе социально-философского знания
Автор: Писачкина Яна Семеновна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4 (60), 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение. Здравомыслие является важнейшим приоритетом становления современной эпохи в условиях переформатирования однополярного мира на рубеже тысячелетий и перехода к многополярному миру в решении переживаемых человечеством глубоких кризисов и катастроф, войн и пандемий. Цель статьи заключается в моделировании форм социального контроля, интегрированного в жизненное пространство социума на основе синтеза потенциалов, и единении базисных констант в картине мира. Материалы и методы. В качестве теоретико-методологической стратегии исследования рассматривается интегративный подход, реализация которого во взаимосвязи с системным, личностно-деятельностным, компетентностным, синергетическим подходами обеспечивает объединение различных структур, звеньев, компонентов довузовского образования и его выход на более высокий качественный уровень. Обсуждение и заключение. Возникновение социального контроля связано с когнитивной революцией, обусловленной генетической мутацией. Источником внутренней энергии этого процесса служит спонтанность как условие познания всех процессов мира в их самодвижении. Здравомыслие в социальной философии базируется на единстве и единении базисных констант в картине мира: когнитивной, жизненной, духовной, технологической, экономической, социологической, антропологической, коммуникационной. Результаты исследования. Представлена разработанная модель здравомыслия как базового, фундаментального ядра в структуре оценки форм и качества мышления. Разумность людей обусловлена практической целесообразностью и жизненно оправданным поведением. В этом плане идеалы и нормы здравомыслия не абсолютны, но они контролируются и санкционируются состоянием укорененности в повседневной жизни.
Когнитивная революция, спонтанность мышления, здравомыслие, социальный контроль, здравый смысл, практический смысл, топологический смысл, патологический смысл, кризисное сознание
Короткий адрес: https://sciup.org/147238927
IDR: 147238927 | УДК: 1. | DOI: 10.15507/2078-9823.060.022.202204.422-440
Текст научной статьи Здравомыслие и социальный контроль в системе социально-философского знания
Здравомыслие является важнейшим приоритетом становления современной эпохи в условиях переформатирования однополярного мира на рубеже тысячелетий и перехода к многополярному миру в решении переживаемых человечеством глубоких кризисов и катастроф, войн, травм и пандемий. Настоящая статья связана с исследованием проблем социального контроля в аспекте философии здравомыслия в условиях переживаемого человечеством глубокого кризиса и катастроф, эпохи войн и общечеловеческих проблем. Ма- териалами данного исследования служат философские, социологические, социокультурные труды, составляющие методологическую основу здравомыслия в аспекте социального контроля. Представлены характеристики компетенций духа в онтологическом, гносеологическом и логическом планах. Они выражают проекции миростроения по законам истины, добра и красоты. В праксеологическом плане мироустроения они реализуют (выражают) законы гуманизма, свободы и равноправия. В антропологическом плане они ориентируют архитектонику само- устроения на внутренние инициации самоотдачи, доверия и солидарности, что полностью соответствует идеям данной статьи в анализе социального контроля в соответствии с его миссией.
Методы
Методологические основания исследования связаны с понятиями методологического мышления и методологической компетентности. В качестве теоретико-методологической стратегии исследования рассматривается интегративный подход, реализация которого во взаимосвязи с системным, личностно-деятельностным, компетентностным, синергетическим подходами обеспечивает объединение различных структур, звеньев, компонентов исследовательской деятельности. Компе-тентностный подход – важнейший компонент современной технологии научных исследований. В настоящем исследовании применены методы социальных, социокультурных наук и философии науки в сопоставлении видов социальной практики и контексте становления современных форм социального контроля в аспектах: парадигматики, аналитики, проблемоло-гии, информатизации и гуманитаризации социальной среды. Конструктивная креативность как производство и сотворение «неестественного» предстает в качестве важного целеполагающего момента исследования. Компетентностный подход связан с применением методов прогноза и анализа результатов с оценкой логики выделения «болевых точек» и «точек роста», анализируемых в настоящей статье. Здравомыслие – это форма и качество мышления. В этом плане идеалы и нормы здравомыслия не абсолютны, но они контролируются и санкционируются состоянием укорененности в повседневной жизни. Разумность людей обусловлена практической целесообразностью и жизненно оправданным поведением.
Обсуждение
Когнитивная революция. По оценке современных авторов, это период между 70 и 30 тыс. лет назад, связанный с появлением новых способов думать и общаться. Современная теория утверждает, что случайные генетические мутации изменили внутреннюю «настройку» человеческого мозга. Са-пиенсы обрели умение думать и общаться, используя словесный язык. Это состояние в науке и культуре ученые связывают с мутацией Древа познания. Данная особенность познания связана с новообретенным языком. Она позволила сапиенсу завоевать мир. Однако обретение уникальных способностей такого рода человеком и преимущества, полученные им, были порождены когнитивной революцией [39, с. 30]. Для нее характерен ряд моментов, включающих аспекты, которые выражают способности передавать определенные объемы информации об окружающем мире и возможности планировать и осуществлять сложные действия. Например, спасаться от хищников и охотиться на них, а также создавать большие и сплоченные группы до 150 чел. Возможность передавать большие объемы информации о несуществующих вещах, таких как духи племени, и возможность сотрудничества большого числа людей, незнакомых друг другу, создали эффект быстрой адаптация поведения [22, с. 102].
Начало развития мысли и слова, по теории Л. С. Выготского, связано с доисторическим периодом в существовании мышления, однако не обнаружило «никаких определенных отношений и зависимостей между генетическими корнями мысли и слова» [7, с. 275]. Поэтому внутренние отношения между словом и мыслью служат внутренними отношениями как предпосылка, основной и исходный пункт развития человеческого сознания. В целом когнитивная революция выражает момент, когда история расходится с биологией, при этом в познании развития человечества на смену биологическим теориям приходят теории исторического содержания и культуры, которые связаны с появлением и передачей знаний в различных областях [33, с. 74]. Источник внутренней энергии этого процесса, по мысли философов, базируется на идее спонтанности. И. Кант характеризовал спонтанность как «восприимчивость нашей души, т. е. способность ее получать представления, поскольку она каким-то образом подвергается воздействию, мы будем называть чувственностью; рассудок же есть способность самостоятельно производить представления, т. е. спонтанность познания» [18, с. 129]. Человек – существо разумное. Разум, по мысли М. Хайдеггера, «развертывается в мышлении» [37, с. 134].
Спонтанность в определении современных авторов предстает в качестве «сверхфундаментального концепта» как конструктивное идейное комбинирование, питаемое синергийными процессами когнитальных самостимулирующих морфизмов. Инкорпорация этой идеи объясняется как момент «добавления мыслительного к созерцательному» (происходящий на базе конструирования новых сущностей, связанных с видоизменением смыслозначимостей). Это, по мысли В. В. Ильина, продуктивный синтез трансцендентализма [15, с. 46–79]. Описание явлений в их спонтанном выражении есть признание свободы и проявление воли. Однако при этом существует размытость описания, которая выражает характер вероятностного языка [28, с. 16].
В целом спонтанность предстает в качестве действующего условия познания всех процессов мира в их «самодвижении», в их спонтанейном развитии, в их живой жизни, в единстве противоположностей. Современные философы рассматривают спонтанность в процессе «воспроизводства и самозарождения мысли», как рефлексию по поводу смысловых глубин (социаль- ных, духовных), связанных с открытием и становлением смысла [28, с. 47]. Смысл в философии в самой общей форме трактуется как мысль, выраженная в словах или знаках, в той или иной форме. Смысл о многомерности семантического пространства обнаруживает связь с определенной вероятностной мерой. Многомерность личности предстает в форме реализации полноты ее проявлений [30, c. 659].
А. А. Зиновьев создает логическую социологию (ЛС) как науку о языке и методах исследования социальных объектов. Он считает, эта наука должна быть не описательной, а изобретательной. Поэтому основные методы (ЛС), используемые для определения понятий, это метод мысленного эксперимента и метод комбинаторики.
Смысл связан с постижением разумом внутреннего содержания (значения чего-либо), пониманием целей, разумных оснований, здравомыслия, добронравия и других форм. В аспекте содержания социального смысла А. А. Зиновьев выделяет две группы отношений: а) когда знание смысла присутствует как выражаемое в высказывании и является «элементарным высказыванием»; б) они входят хотя бы однажды в эти высказывания, – что является одинаково значимым [13, с. 25]. Философ использует моделирование как метод и активно применяет его в ЛС. Для этого он создает модель «человейника». У А. А. Зиновьева человейник – это мир людей как особая форма их объединения, в которой члены сообщества живут «совместной исторической жизнью». В таком сообществе, объединении, семье формируется определенная ментальная сфера. Смысловое содержание характеризует предполагающий акт, в котором человек связывает данную вещь со своим микрокосмом, придающим ей определенную ценность, обусловливающую отношения и действия.
В число функций этого сообщества (че-ловейника) автор включает:
– разработку, хранение и навязывание людям определенного мировоззрения и определенной системы ценностей (оценок);
– вовлечение людей в определенные действия, касающиеся их познания, принуждения к этим действиям;
– контроль за мыслями и чувствами людей и их организацию на такой контроль в отношении друг друга [13, c. 56].
Современный мир динамичен и изменчив – это «жизненный мир». У Э. Гуссерля он предстает наполненным «смыслами». В них воспринимаются объекты бытия в потоке сознания, в котором человек конструирует мир в аспектах объективации времени и вещественности в рамках двух параллельных проблем: в конструировании «одного всеобщего пространства (Аll-Raum), которое воспринимается вместе и в каждом отдельном восприятии в той мере, в какой воспринимаемая вещь является в своей телесности (seinem Korper nach) как заключенная в нем, и конструирование одного времени, в котором заключается тем-поральность вещи, в которое встраивается ее длительность всех принадлежащих к окружению вещей и вещественных процессов» [12, с. 38]. В этом многообразии особо важна такая смысловая доминанта формы мышления, как здравомыслие, жизненное значение которой характеризуется онтологическим, гносеологическим и аксиологическим измерениями [25, с. 402]. Здравомыслие в культуре, идеологии, политике, науке связано со здравым смыслом и спонтанностью как свойствами рассудка и рассудочной деятельностью. Одновременно история и культура имеет богатый опыт производства, воспроизводства и становления негативного синтеза идей в виде зла (в том числе сатанизма, бесовщины, нацизма, гитлеризма, фашизма и многих сущностей иного рода), форм и практик злонамерения и ремиссии злонамеренных действий.
Социальный контроль и культура. Современные авторы подчеркивают важную особенность родового строя, в котором иерархический принцип организации сообщества действовал, но при этом претерпевал существенные изменения. Место индивида, определяемое в иерархии реальным противоборством сил, стало все более определяться оценкой общественного мнения. Российский философ А. П. Скрипник указывает на «загадочную природу стыда» как механизм, формируемый культурой. Если в философской традиции считалось, что человек стыдится своей материальной природы, естественных влечений и функций своего организма (И. Кант, Г. В. Ф. Гегель, В. С. Соловьев), то «на самом деле человек стыдится не своей телесности, а утраты контроля над нею», – обоснованно утверждает этот автор [35, c. 57].
Современный мир динамичен и изменчив. Он состоит не из «завершенных предметов и понятий», а представляет собой совокупность процессов, в которых предметы и понятия находятся в беспрерывном изменении. В этом мире люди, благодаря языку и воображению, изобретают все более сложные игры, и каждое поколение дополняет их». Й. Хейзинга рассматривает игру в качестве культурного феномена, которому свойственны три отличительных признака. Во-первых, игра свободна, она есть свобода. Во-вторых, игра не есть обыденная жизнь, она предстает как выход из «обыденной» жизни в пространственном и временном плане. В-третьих, игру характеризуют замкнутость и ограниченность в пределах границ места и времени [41, с. 18]. Течение и смысл игры «заключены в ней самой». Важными функциями игры служат состязание как борьба или демонстрация, показ. Свойствами игры являются повторяемость, порядок и контроль.
Познавательная деятельность является важнейшим условием создания теории как формы когнитивной практики [27, с. 14]. Именно она обеспечивает «практичность теории для человеческой жизни в качестве инструмента для удовлетворения потребностей человеческого существования». Она служит целям «овладения природой, как источником средств жизни человека и созданию социальной организации человеческой деятельности, направленной на решение этих задач» [6, c. 117]. Эта деятельность многообразна, она представлена множеством форм: культурой, идеологией, политикой, наукой, технологией.
Когнитивная революция сформировала мозг Homo Sapiens – наших предков, сделала его пластичным и создала возможность африканским приматам стать властителями мира. Их обострившийся разум проник в интерсубъективное пространство, позволил создать богов, построить города, империи, изобрести деньги, расщепить атом, выйти в космос. Все это результат революции, позволившей благодаря «незначительным изменениям в ДНК сапиенсов и легкой перестройке их мозга» покорить планету. Одним из важнейших открытий начала III тысячелетия для человечества стало обуздание голода, мора и войны. Характеризуя это достижение, Ю. Н. Харари пишет: «Сейчас, когда голод, мор или война выходят из-под контроля, мы знаем, что где-то кто-то прокололся, мы создаем комиссии по расследованию происшествий и обещаем себе быть начеку. И это работает… так как бедствия из-за роковой троицы случаются все реже и реже» [40, с. 117]. Иными словами, контроль с помощью массовых коммуникаций устанавливают определенные силы. Увы, это президент США и «золотой миллиард» (Евросоюз, НАТО и приспешники), это творцы и клиенты офшорных зон, структур на «островах сокровищ» с низкими налогами в налоговых убежищах и других труднодоступных пространствах, устанавливаемых «тайной властью» современной эпохи [36, c. 286].
По лекалам шаблонной практики такого рода данная «игра» получила опасные формы. Канадский социолог М. Маклюэн видит в этой игре особую технологию, применяемую для внешнего расширения границ человека в параметрах как «социального», так и «политического тела». Эта игра позволяет воспроизводить «вымышленные конструируемые ситуации для расширения группового сознания, дающие передышку от обычных паттернов. Это своего рода «разговор», представляемый в СМК от имени всего общества, с самим собой». Такие игры служат машиной или механизмом, они суть средства коммуникации. «Здесь мы смотрим на их роль как на средства коммуникации в обществе в целом» [24, с. 8] и одновременно видим действие спекулятивных подделок реальных фактов и массированного обмана мировой общественности. Массовые коммуникации предстают фактором, позволяющим лучше понимать динамику депрессий социума, а точнее, пытаться удерживать ее под контролем определенных заинтересованных сил.
На планете установилась и уверенно удерживается ситуация, в которой побеждает постмодернизм. Это посткультура, где мир – текст, а жизнь – дискурс и «риторика», утверждает В. А. Кутырев. Культура в таком варианте – тормоз действующего прогресса. Борьба с культурой осуществляется теоретическим постмодернизмом, а фактически ведется теми, кто им руководствуется, выполняя главную задачу современных реформ. Посткультура, по мысли автора, – «игра творцов смерти культуры». Они – имитаторы бытия, создатели симулякров [20, c. 179]. Они создают мир, в котором происходит ускоренная эволюция, связанная со сменой субстрата общественной жизни.
Социальный контроль и идеология. Идеология – это разновидность специфического сознания как особый род воспроизводства смыслозначимости. Это механизм и технология внедрения определенных идей, коммуникативных установок и подтасовки различных версий как векторов, предъявляемых в форме правды по характеру субъективных оснований и формированию убежденности в обоснованности ее справедливости, путем широкого применения ряда признаков тенденциозного, нарочитого, умышленного характера. Идеология эго – это главный механизм социального контроля.
Национально-государственная идеология представлена «рядом репрезентативных комплексов», выражающих в прагматическом плане отношение «социума», народа и государства в занимаемом им «подлунном месте» в социальном мире. Социально-философская мысль всегда напрягала и напрягает интеллектуальные усилия в этом направлении. Философия либерализма последовательно обосновывает космополитический индивидуализм, который представлен в версиях либерального национализма, выражающего «дух народа», и либерализма консервативного, апеллирующего к «почвенническому» мессианизму как ответственной миссии служения, спасения, освобождения [8, с. 127].
В современном мире доминирует постмодернизм. В нем стихия смысла жизни предстает в качестве информации. Именно информация становится главным двигателем массового поведения. Именно «идея, овладевающая массами» становится мощной реальной силой (созидательной или разрушительной). Постмодернистская идеология нацелена на культурную революцию как радикальное изменение сознания. Эта идеология базируется на вариантах подмены одних принципов и идей другими. В этом плане опора на идею спонтанности связана с ухищрением в применении манипулятивных действий и приемов, направленных на производство «фальсификатов» и подмену ценностей в истории и культуре, науке и технике.
Информационные войны стали реальностью современного информационного общества. Они связаны с ведением когнитивных войн и применением когнитивного оружия. Когнитивное оружие предполагает не прямое физическое уничтожение противника, а «внедрение в интеллектуальную среду, как отдельной страны, так и мирового сообщества, ложных научных теорий, парадигм, концепций стратегий, влияющих посредством новых – сфальсифицированных смыслов и ценностей на политическое развитие» [10, с. 141]. Идеологии национал-социализма, расизма, шовинизма, нор-дизма, фашизма культивируют идеи агрессивного покорения народов, закабаления, дискриминации одних и признания других в качестве высшей цивилизационной группы (голубая кровь, белая кость), а также другие формы утверждения концепций бытия, притязаний в мире, поддержания престижа, развитие панидей богоизбранности, обоснование идей политической целесообразности.
В арсенале идеологии постмодернизма спонтанность предлагается и используется как фактор, снимающий эффект усилий мысли. Вместо принципа ответственности она предлагает произвол, вместо регулятивных норм – консенсус, вместо ценностей – договоренности, не имеющие обязательного характера и не предполагающие доверие, вместо реальности – симулякры, вместо интенциональности – коммуникативность, вместо истины – убеждение [29, с. 9]. Эта идеология опирается на подмену спонтанности набором предлагаемых спекулятивным рынком информационных услуг, фальсификаты которых ведут общество к деградации и создают эффект, по- ражающий интеллект личности и социума. Спонтанность мысли технологично подправляется особым изощренным механизмом ее высвобождения от напряжения и усилий.
Для нашей современности особо актуальна проблема «истончения источников смысла». Это обстоятельство связано с торговлей жизненными смыслами. Этот вид практики стал самым конкурентоспособным (по З. Бауману). В этом секторе духовного производства задействованы «поголовно все, как всеобщие актуальнопотенциальные производители-потребители конечной символической продукции» [17, с. 140]. Богатство истолкований связано с множеством «референтных ценностей». В их числе вера, интеллект, мир, общество, народ, цивилизация, популяция, природа, европеизм и др.
Социальный контроль и наука. Колоссальное количество происходящих изменений бросает вызов современной науке. Социальные изменения обусловливают необходимость воспроизводства и совершенства социального контроля, связанного с современным этапом становления и модернизацией науки, культуры и техники. Современные философы обращаются к критике индустриального разума. Развитие «органона» критики философы связывают с изменением характера и смысловых форм языка, характером аргументации, направленности на идеологические и другие социальные институты [19, с. 112].
В этом плане исключительно важная роль принадлежит философии поступка М. М. Бахтина. В его концепции мысль «вплетена в ткань… моего (участного) живого действительного-эмоционально волевого сознания… Действительно поступающее мышление есть эмоционально-волевое мышление, и эта интонация существенно проникает во все содержательные моменты мысли. Эмоционально-волевой тон об- текает все смысловое содержание мысли в поступке и относит его к единственному бытию-событию [2, с. 107]. Человек, открытый миру, предстает в нем в качестве «своеобразной фабрики по переработке смысловых оценок». Жить в этом мире означает «расширение себя до большого мира так, как если бы он был моим миром и чтобы он стал моим миром, это значит “абсолютное себя исключение” [11, с. 16].
Наука является инструментом современных технологий, которые становятся не только инструментом, но и сутью человеческой органопроекции, нацеленной на усиление антропных возможностей, ориентированных на стратегию объединения материального морфогенеза в динамическом квинтете NВICS (Nano, Bio, Info, Cоgno, Socio) [4, с. 24]. Современная трансформация науки и философии связана с креатологией и апологией технонаучного инструментального разума [16, с. 23–27]. Наука содержит естественно-научный, гуманитарный, социальный, гуманитарный и технологический сегменты.
Современная креатология как наука о продуктивных процессах мыследеятель-ности изучает разумные потенции души. Важное место в современной креатологии занимает представление о толерантности, возникновение которой четко обозначилось в идеях о веротерпимости в XVIII в. Фиксацией толерантности как принципа стала максима, сформулированная Вольтером: «Мне ненавистны ваши убеждения, но я готов отдавать жизнь за ваше право высказывать их». Эта идея легла в качестве базовой в «теории мышления» в основе нравственной коммуникации, позволяющей «угадывать и предвидеть ход мыслей другого человека» [34, с. 551].
В современной науке понятие толерантности выстроено на когнитивном базисе естественно-научного знания, представленного в экологии, например закона толе- рантности (В. Э. Шелфорд). А также оно служит лимитирующим фактором контроля – процветания организма и вида в природной среде, является фактором фиксации максимума экологического воздействия, с учетом точек допустимых пределов, точек кипения, в экологических, экономических и социальных системах. Подчеркивая это, российский эколог Н. Ф. Реймерс отмечал, что «экологическое и медицинское значение термина толерантность – противоположны» [33, с. 519]. Так, иммунологическая толерантность характеризуется как «строго специфический феномен по отношению к конкретному антигену – «иммунитет наоборот». Феномен был обнаружен Р. Оуэном в 1945 г., а термин «иммунологическая толерантность» принадлежит П. Медовару. Это направление служит развитию «гибридных технологий» современной медицины в направлениях и версиях восприимчивости: как толерантности – к своему, а также и толерантности к чужеродному телу.
В социальных и гуманитарных отраслях теория толерантности заняла важное место в современной идеологии и коммуникационных технологиях. Когнитивные вирусы – это «кванты смысла». Они, как элементарные единицы информации, встраиваются в определенные «кирпичики сознания», обеспечивающие необходимость социального согласия (А. Бергсон) и терпимости: расовой, гендерной, национальной, политической, религиозной, межклассовой, сексуальной и др.
Положительное значение толерантности связано с ее свойствами побуждать и активизировать гуманность. Она задает векторы для понимания других людей и помогает преодолеть страх и предубеждения к людям иной культуры, способствует построению эффективной коммуникации во взаимоотношениях и взаимодействии людей с различными взглядами и позициями в аспектах как личного, так и общественного бытия и развития.
По критико-иронической мысли российского философа Ф. Гиренка, «Хайдеггер был огорчен тем, что бытие перестало быть событием. Чтобы защитить бытие, Хайдеггер построил онтологические бастионы, но эти бастионы никто не собирался штурмовать. Их просто не заметили. От бытия, увы, осталось лишь слово «есть» (имеется в наличии), которое теперь воспринимается вместо бытия, а точнее является одним из фальсификатов бытия фактического, реального. Для современного постмодернизма бытие теперь не факт, его не дают или не содержат так называемые лишь «достоверные» обещания, а за слово, как за факт, надо держаться, за него надо платить, за него надо отвечать, оно должно быть истинным. Но – увы, содержание сообщений перестало соответствовать фактам бытия, следовательно, оно… не достоверное, а лишь словесное, а, часто и голословное» [10, с. 144]. Это суждение объясняет механику широкого масштаба фальсификационных технологий в современных массовых коммуникациях.
Негативное значение толерантности выражают те ее недостатки, которые служат нездоровым и извращенным целям и ценностям. Они содержат признаки и проявления подмены истинных ценностей ложными – фальсификатами и извращениями. Так, терпение как важная церковная добродетель подменяется терпимостью к греху, а истина и правда подменяются ложью. Настоящее, «квалификаты», подменяются «фальсификатами», а фальшивые заявления и предложения «благих намерений» становятся практикой манипуляции сознанием людей, венчаемых «оранжевыми революциями». В этом состоят основы управления хаосом (по С. Манну, одному из главных авторов этой геополитической доктрины в рамках национальных интересов США), реализуемых в современных информационных технологиях и технологиях управления.
«Средства хаоса» направлены на содействие либеральной демократии. В основу управляемого хаоса положена идея перестройки массового сознания и мировоззрения как программа мировой информационно-психологической войны. Технологии управления хаосом, по оценке современных специалистов, – это новый вид оружия массового поражения для установления мирового порядка. Цели этой войны: сокращение численности населения и разрушения национальных государств; поддержка рыночных реформ; повышение жизненных стандартов у населения, прежде всего к элите; вытеснение ценностей и идеологии [23, с. 68–69].
В итоге воссоздается новый образ человека. Какой именно? Вот в чем вопрос. Контролирующая инстанция социума – это здравый смысл, он определяет меру разумного и бессмысленного, рационального и иррационального в суждении, за пределами которого начинаются процесс разрушения и деградация, и происходит «распад человечества» вследствие превращения вида Homo sapiens в состояние (и даже вид) Homo debilicus. Модель дебильного мышления характеризуется разрушением целостности и реальности, распадом универсальности, отказом от истины, ее заменой на конвенции и когеренции. Примеры дебильного мышления характерны для различных аудиторий, подверженных наслаждению продукцией СМК. Комплекс системной редукции культур, цивилизаций осуществляется в насильственной рыночно-демократической деятельности западного человека (в механике универсализации культур и цивилизаций: поляризации, ассимиляции, изоляции, гибридизации глобализации и локализации, фрагмеграции и глокализации) [9, с. 363–376].
Кризисность на рубеже XIX–XX и XXI вв. философия рассматривает в аспекте разрушительных тенденций безоглядной рационализации. Крушения возникают не на пустом месте, а там, где рациональная идея уходит из-под «демократического контроля» [36, с. 261]. Современная наука изучает природу кризисных явлений. Ученые констатируют антагонистические разрушительные явления в качестве следствия безоглядной рационализации. Разгул терроризма, насилия, вандализма, бедности, цифрового принуждения усиливаются буйством вируса и новыми видами социальной агрессии, свертыванием демократии и введением тоталитарного контроля и иными моментами. «Глобализация практико-пре-образующей деятельности, превращение человека в creator mundi заставляют пересмотреть реперы рациональности. Рациональность человека в некоем вселенском масштабе должна конституироваться отнесением не к целям, но к ценностям» [16, с. 127].
Литературная фиксация опыта исторической самореализации гласит: «На каждого мудреца довольно простоты». Здравый смысл – это неформальное признание рациональности всякого познания, оценки, действия. Здравый смысл – это способ защиты и предостережение от очевидной и опасной несуразности, от глупости, нездорового, «непутевого дела» (В. И. Даль). По определению В. С. Барулина, мир здравого смысла – это важный момент духовности повседневности, практически бытовое сознание, руководствующееся определенными практическими интересами, практически ориентированными ценностями [1, с. 315]. По мысли В. А. Кутырева, здравый смысл служит «для защиты гуманизма как от технической, так и от “ангелической” агрессии. Он позволяет культивировать и активизировать сильный дух, который возможен при благополучии его почвы – человеческой телесности, биологической и географической среды обитания. Экология духа и экология природы неразрывно свя- заны. Идеалом может быть не человек “разумный” и даже не “человек духовный”, а “человек целостный”» [20, с. 175].
Небезопасными формами для науки служат мифы, порождающие антинауки, лженауки, псевдонауки и другие формы мифотворчества и антиидеи. Поэтому здравомыслие в науке связано с преодолением мифологии, мистики. Истоки мифотворчества связаны со становлением социального на основе биологического, в том числе формированием научного мировоззрения. В этом плане актуальны идеи о том, что миф важен, ибо дает человеку ощущение психологической защищенности и смысла бытия. Миф, по оценке А. Ф. Лосева, есть необходимая категория мысли и жизни, для мистически ориентированного человека – это подлинная и максимально конкретная реальность. Для сохранения духовного здоровья нации необходимо устранить причину, как болезнь, а не ее симптомы.
Здравомыслие представлено во всех видах духовной деятельности: в философии, науке, культуре и искусстве. Оно представлено в духовном основании и критике тех достижений цивилизации, в рамках которых происходит помрачение культурного разума. В этом контексте авторы рассматривают здравый смысл в качестве формы – «жизненно ориентированной фильтрующей инстанции, которая контролируется и санкционируется жизнью» [16, c. 123]. В этом контексте здравый смысл – важнейший компонент социального контроля. Эту роль здравого смысла в науке философы науки связывают с формой «предпосылочного знания» как исходного начала, характерного для образа классической науки.
Данный образ Л. А. Микешина базирует «на предпосылках созерцательного материализма и эмпиризма». Она акцентирует это основание на необходимости «снять» эффекты «присутствия и активной деятель- ности субъекта, считая их препятствием на пути к объективно истинному познанию» [26, с. 7]. Иная позиция у С. А. Лебедева, который усматривает здравый смысл в качестве инструмента в арсенале исходного начала научного познания, в качестве характерного лишь на этапе периода становления постнеклассической науки. Для этапа науки классического периода, по его оценке, исходным началом служил чувственный опыт ученого, а для неклассики становится очевидным и приоритетным характер мышления ученого. Как известно, М. Хайдеггер писал о человеке как существе разумном. «Но разум, ratio, по мысли Хайдеггера, развертывается в мышлении» [21, с. 134]. Человек может мыслить, но лишь то, к чему мы склонны, и расположены к тому, что нам желанно. Классическая наука признавала научные знания ценностно-нейтральными. Неклассическая наука считала научные знания частично ценностно обусловленными [31, с. 14]. Постнеклассическая наука рассматривает научное познание в качестве особого лингвистического способа когнитивного творчества ученых, гетерогенность научных текстов, а также в аспекте иронии и самоиронии в отношении претензии на абсолютную объективную истину [21, с. 274–275].
Особое место в истории науки и техники принадлежит их ценностной «экипировке». В этом плане широко известен пассаж Архимеда о рычаге: «Дайте точку опоры, и я переверну Землю». Ф. Жолио-Кюри в докладе «Об открытии ядерной энергии» (1934) страстно говорил о профессиональном долге ученого, вплоть до его готовности «взорвать мир – ради открытия, успеха науки». Если в природе действует механизм естественного отбора, то в современном обществе принятие решений осуществляется на базе механизма прагматики и с учетом экстраполяции полезных результатов. Методологическая и социальная проблема в этом плане связаны с трактовкой законности и допустимости принимаемых решений на будущее [32, с. 14]. В этом плане последствия развертывания технологий сложно предсказуемы. Социальный контроль широко внедряемых технологий на предварительном этапе затруднителен. Сдерживание инициативы возлагается только на превентивную аналитику и прогнозирование результатов, с возможностью блокировки выявляемых неопределенностей в технологическом обновлении.
Проблемы здравомыслия в современной политике прямо связаны с историей «похождений здравого смысла» в этой сфере. Особо актуальны трансформации инструментально- и гуманитарно-адаптированного разума. В этом процессе характерным является «процедурный формализм, который усиливает своей бессодержательной техничностью, одиозность властно-поли-титического функционализма» [33, с. 49]. Метафизические модели политических проектов зависят от политической текстуры (лат. «ткань, строение, материал»). В сце-нограммах геостратегической режиссуры общеизвестны геополитические дихотомии (теллурократия – талассократия; хартленд – римленд). В. В. Ильин дополняет этот ряд дихотомией бедленд (badland) – гудленд (goodland), которая передает отношения двух множеств (бедленд – гудленд), выражающих богатую историко-географическую палитру неоднородной социальной реальности. Она фиксирует в первой части цивилизационную разноупорядоченность (аномию, образовательную, технологическую отсталость, ценностную замкнутость), а во второй части – ее противоположность (про-двинутость, технологичность, ценностную открытость, толерантность).
В политике характерны тенденции разнонаправленных процессов: восстание масс укрощается восстанием элит – массовое общество все более поставлено под элитарный контроль [35, с. 144]. Социальная активность масс становится не институциональной, актуализируется влияние «кухонной» сетевой политики, «обретают полномочия простые заявления», и ничтожные «источники мягкой силы» становятся «мощными индукторами корпоративных политических полей». Консолидирующие последствия выбора частных лиц обретают реальную значимость «в обход государственной машины».
Схема рассуждений автора базируется на анализе топологического многообразия замкнутых множеств, флуктуаций переходных состояний, квантования, дискретизации пространственного единства. Бедленд описывает негативный цивилизационизм, не одаренный «божественными» добродетелями в условиях дикого развития. Он проявляется в формах бегства от культурной истории, требующей «не поступка, но бунта с печатью отверженности». Это, по В. В. Ильину, реванш колоний над метрополиями (накат аллохтонной волны, просачивание и укоренение этнических нелегалов, мигрантов, гастарбайтеров Юга в мегаполисы Севера и др.). Интенция бедленд, считает автор, состоит в том, чтобы разрушить, проглотить, перераспределить созданные гудленд богатства посредством изощренного арсенала средств: цивилизационной ренты, криминального захвата, террористических актов, анархистских движений, детрадиционализации конфессий (Аум Синрикё1), вооруженных атак (ИГИЛ2, Хезболла и т. д.). В арсенале бедленд множество технологий социальной дисгармони- зации, разбалансировки слаженного ритма «вершения» истории. На арену выходит вирулентная, контрпродуктивная, контркультурная неигровая стихия, влекомая жизненно опасными фикциями.
Концепция «плавильного котла» в условиях современной ситуации не действенна. В наше интригующее время происходит причудливое переплетение здравого смысла и идеологии, рациональности и мифа. Пытливая ищущая мысль черпает вдохновение в собственной самостоятельности – способности выполнять возможные сценарии перспективного развития в условиях основополагающих структурообразующих тенденций. По точкам давления на контур гудленд просматриваются типологические репрезентативные осложнения. Это «посев из зева бедленд», захребетники, авантюристы, анархисты и другие носители достоинств стрикулистов «на их бесшабашном пути», такой контрфорс встречает гудленд. Аллохтоны (пришельцы), этнические нелегалы, маргиналы – грозная отчаянная, неуступчивая сила, которая, как считает автор, требует немедленной купирующей реакции.
Здравомыслие в социологии. Важнейший вклад в постижение идей понимающей социологии привнесен М. Вебером. Он отмечает, что у истоков понимания сущности «здравого смысла» в социологии лежат идеи «наиболее понятного» типа смысловой структуры действий, которые представляют собой действия, субъективно, строго, рационально ориентированных на средства, которые субъективно рассматриваются в качестве однозначно адекватных для достижения субъективно, однозначно и ясно постигнутых целей. Здесь, вообще, не идет речь о каком-либо объективно «правильном» или метафизически постигнутом «истинном» смысле. Этим эмпирические науки о действии – социология и история – отличаются от всех догматических наук – юриспруденции, логики, этики, – которые стремятся обнаружить в своих объектах «правильный», «значимый» смысл. Для социологии же, как мы ее видим, а также для истории объектом постижения является именно смысловая связь действия [5, с. 75].
П. Бурдье характеризует всякую социальную практику в отношении с другими практиками и рассматривает ее как процесс «исторического становления». Историзм в изучении становления социума, его структур – один из основных принципов его методологии. Временная структура практики действует, по мнению П. Бурдье, как экран, препятствующий тотализации. Например, интервал между даром и ответным даром в любом обществе служит орудием психоаналитического отрицания, обеспечивает сосуществование в индивидуальном опыте и в общественном суждении совершенно противоположных друг другу – субъективного и объективного содержания. В качестве механизма, порождающего практики, П. Бурдье использует понятие габитуса, в котором существует обнаруживаемый разрыв между «внешней» практикой и «внутренним» сознанием. Он, по мнению ученого, и есть конститутивный элемент совокупности социальных практик, фиксируемых социологией [3, с. 41]. Любое социологическое исследование, согласно П. Бурдье, должно придерживаться нескольких основополагающих принципов, среди которых, во-первых, историзм и изучение становления объекта исследования; во-вторых, объективация исследовательской позиции и инструментария; в-третьих, радикальное сомнение и разрыв со здравым смыслом; в-четвертых, борьба за сохранение или изменение существующего порядка вещей. В силу выдвинутых критериев и приемов теоретизирования П. Бурдье не только уходит от статусной позиции «здравого смысла» в социологии, но и подменяет его новыми для социологического исследования инструментами, каким прежде всего выступает «габитус», а также «символический капитал», «социальное пространство», «поля», «практики». Таким образом, место «здравого смысла» у П. Бурдье замещается понятием «практический смысл».
В. В. Ильин видит обновленную культурой массовой коммуникации дихотомию современного общества. Это распад, который фиксирует в первой дихотомической части цивилизационную разупорядоченность (аномию, образовательную, технологическую отсталость, ценностную замкнутость), а во второй части – ее противоположности (про-двинутость, технологичность, ценностную открытость, толерантность). Этот распад человечности осуществляется в «ранге тривиальной аномии (тунеядство, распутность, преступность, безразличие, эскапизм и т. д.). К ним, отмечает В. В. Ильин, современность добавляет негативную статистику (рост немотивированной бытовой агрессии, неврозов и более тяжких психических расстройств). Таким образом, реализуется «худшая из войн, в которой мы сами сражаемся с собою».
В целом здравый смысл – это прежде всего здравомыслие. Его нормальная суть характеризуется как форма мудрости. «Апофеоз здравого смысла, как опытно кристаллизующаяся мудрость – житейски глубокое толкование явлений, сущность которых не совпадает с поверхностью» [16, с. 123]. Формула мудрости также включает базовые компоненты – это константы (компетенции, коммуникации, конвенции). Здравомыслие базируется на константах – качествах истины, правды, самоактуализации, развития, различении истины и лжи, общего и частного, интереса, добра и зла, не молчания о зле (не утаивания его проявлений), а идентификации на этой основе целей общего блага, циклов совершенствования человека, коллективно-личностных действий [14, с. 66–67].
Компетенции – это универсальные постоянности (качества) компетенции социальности в виде законов эффективной коллективности, производительности, эк-зистенциальности как особых констант [38, с. 104]. Проблемы компетентности занимают важное место в научной литературе. Они измеряются в версиях оценок социального контроля, всегда связанных с идеей порядка, представленного в идеологии, политике, социологии и культуре. Эти компетенции определяются в аспекте возрастания информатизации общества. Владение соответствующими технологиями связано с пониманием их применения, способами, доступными к критическому суждению в отношении информации, ее распространением массмедийными средствами и в рекламных практиках [3, c. 17]. Конвенции – это условия диалога, прямое взаимодействие «Я» с «Другим», а также договора, регулирующего отношения в соглашении для взаимного понимания и совместной деятельности. Коммуникации – это процесс общения, направленный на диалог и взаимодействие людей, процесс передачи информации, обмен ею.
На современном этапе достижений цивилизации в области обуздания пространства скоростью, мобильностью, предприимчивостью, инициативой даже в условиях «блокировок карантинной консервации» пандемии, когда коронавирусная коррозия цивилизационных приобретений влечет утраты «вследствие разложения коммуникативно-богатого Milliumwelt, знаменующего антропное возвышение над предметной хроногеометрией» [34, с. 148]. Тем не менее мобилизационный ресурс креативного творчества, интеллектуального напряжения дает надежды на успех в преодолении новых сложных проблем.
Заключение
Здравомыслие – это форма и качество мышления. В этом плане идеалы и нор- мы здравомыслия не абсолютны, но они контролируются и санкционируются состоянием укорененности в повседневной жизни. Разумность людей обусловлена практической целесообразностью и жизненно оправданным поведением. Как коллективная контролирующая инстанция здравый смысл определяет меру разумного и бессмысленного, рационального и иррационального в суждении, за пределами которого начинаются процесс разрушения и деградация, превращение вида Homo sapiens в состояние (и даже вид) Homo debilicus.
Здравомыслие исключительно значимо в роли коллективной, контролирующей физиолого-психической и рациональной инстанции в системе теоретического, эмпирического, практического, повседневно-обыденного, эволюционного и этнического разума в системе космо-психо-логосов этносов. Это определение фиксирует меру смысла и бессмысленного значения в человеческом действии. В этом качестве оно является базой социального контроля как механизма действия и социальной регуляции пространственных диспозиций власти и социума. Здравомыслие исключительно актуально в качестве особой формы защиты социума с позиции социальной состоятельности и создания определенных структур разных уровней. Здравомыслие предполагает сосредоточение на целях осмысления перестройки философских подходов и поиске выбора волн актуального сущего, в котором не только науко-техника, но и культура является важнейшим институтом социального контроля, выполнения функций – регулировать и контролировать.
Исключительно актуальна значимость обновленной культуры массовой коммуникации, фиксирующей дихотомию современного общества в варианте бедленд (badland) – гудленд (goodland). Она демонстрирует в первой части цивилизационную разупорядоченность (аномию, образовательную, технологическую отсталость, ценностную замкнутость), а во второй части – ее противоположность (продвинутость, технологичность, ценностную открытость, толерантность). Эта лексическая пара передает отношения двух множеств (бедленд – гудленд) в соответствии с проецированием контрастных видеоопределений, в оттенках богатой палитры неоднородности социальной реальности. В целом здравомыслие предполагает антропоинвестиции в сущее, которые включают влияние ценностного мира на культивацию рукотворных созиданий. Здравомыслие в социальной философии базируется на единстве и единении базисных констант в картине мира: когнитивной, жизненной, духовной, технологической, экономической, социологической, коммуникационной.
В ряду компетенций духа наиболее «престижное» место занимает конструктивная креативность как производство и сотворение «неестественного». Компетенция духа в онтологическом плане предстает как проекция архитектуры миростроения по законам красоты, пропорциональности, симметрии. В праксеологическом плане она ориентирует архитектуру мироустроения по законам гуманизма, свободы и равноправия. В антропологическом аспекте она ориентирует архитектонику самоустроения на внутренние инициации самоотдачи, доверия и солидарности.
Список литературы Здравомыслие и социальный контроль в системе социально-философского знания
- Барулин В. С. Основы социально-философской антропологии. М.: Академкнига, 2002.456 с.
- Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник. 1984-1985. М., 1986. С. 82-160.
- Бурдье п. Практический смысл. СПб.: Алетейя, 2001. 562 с.
- Вартофский М. Модели и научное понимание. М.: Прогресс, 1988. 507 с.
- Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии: в 4 т. М.: Изд. дом ВШЭ, 2016. Т. 1. 440 с.
- Воронова О. Е., Трушин А. С. Глобальная информационная война против России: моногр. М.: Яуза-каталог, 2019.320 с.
- Выготский Л. С. Мышление и речь. М.: Лабиринт, 1999. 352 с.
- Гагаев А. А., Гагаев П. А. Социализация и социальный контроль в Евразии. Наука и искусство. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2007. 340 с.
- Гагаев А. А., Гагаев П. А. Философия здравого смысла. Критика оснований разума: в 4 кн. Кн. 3. Антропология, культурология, психология, критика реальности с позиции здравого смысла. М.: ЛЕНАНД, 2015. 448 с.
- Гиренок Ф. И. Метафизика пата (косноязычие усталого человека). М.: Академ. Проект, 2014. 236 с.
- Гусейнов А. А. М. М. Бахтин: нравственная философия поступка // М. М. Бахтин в современном мире: материалы VI Междунар. Саранских Бахтинских чтений, посвящ. 120-летию со дня рождения ученого, Саранск, 25-26 нояб. 2015 г Саранск, 2016. С. 3-16.
- Гуссерль Э. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 1. Феноменология внутреннего сознания времени. М.: Гнозис, 1994. 162 с.
- Зиновьев А. А. Логическая социология. 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во Моск. гуманитар. ун-та, 2003. 399 с.
- Ильин В. В., Кевбрин Б. Ф., Писачкин В. А. Макросоциология: учеб. Саранск: Тип «Крас. Окт.», 2004. 304 с.
- Ильин В. В. Теория познания. Эвристика. Креатология: моногр. М.: Проспект, 2018. 176 с.
- Ильин В. В. Теория познания. Критика инструментального разума. Speciosa Ып"аси1а: тотальный муравейник: моногр. М.: Проспект, 2020. 158 с.
- Ильин В. В. Философия кризиса: новый векначало непонятной жизни // Российский гуманитарный журнал. 2021, Т. 10, № 3. С. 135-154.
- Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения: в 6 т. М., 1964, Т. 3. С. 69-799.
- Коваль Т. В., Дюкова С. В. Глобальные компетенцииновый компонент функциональной грамотности // Отечественная и зарубежная педагогика. 2019, Т. 1, № 4. С. 112-123.
- Кутырев В. А. Разум против человека (Философия выживания в эпоху постмодернизма). М.: ЧеРо, 1999. 230 с.
- Лебедев С. А. Философия науки: учеб. пособие для магистров. М.: Юрайт, 2012. 288 с.
- Лепский В. Е. Эволюция представлений в управлении (методологический и философский анализ). М.: Когнито-Центр, 2015. 107 с.
- Макаревич Э. Ф., Карпухин О. И., Луков В. А. Социальный контроль масс. М.: Дрофа, 2007. 429 с.
- Маклюэн М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. М.: Гиперборея; Кучково поле, 2007. 464 с.
- Мальченков С. А. Концептуальные основы цивилизационных трансформаций в современной социальной философии // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2021, Т. 21, № 4. С. 402-413.
- Микешина Л. А. Эпистемология ценностей. М.: РОССПЭН, 2007. 439 с.
- Налимов В. В. Спонтанность сознания. Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника личности. М.: Изд-во «Прометей» МГПИ им. В. И. Ленина, 1989. 221 с.
- Налимов В. В., Дрогалина Ж. А. Реальность нереального. Вероятностная модель бессознательного. М.: Мир идей, 1995. 432 с.
- Огурцов А. П. Постмодернистский образ человека и педагогика // Человек. 2001. № 3. С. 3-10.
- Писачкин В. А. Пространство смысла в социальной топологии региона // Регионология. 2017, Т. 25, № 4. С. 656-669.
- Писачкин В. А. Репрезентации в социальном пространстве региона // Siberian Socium. 2018. Т. 2, № 4. С. 8-19.
- Поверинов И. Е., Писачкин Д. В. Социальный контроль: философские, социологические и правовые аспекты: моногр. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2011. 88 с.
- Реймерс Н. Ф. Природопользование: словарь-справ. М.: Мысль, 1990. 637 с.
- Скрипник А. П. Повесть о мудрых: Язык. Диалог Мораль. М.: Прогресс-Традиция, 2020. 616 с.
- Скрипник А. П. Моральное зло в истории культуры и этики. М.: Политиздат, 1992. 351 с.
- Урри Дж. Офшоры. М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2017. 288 с.
- Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге: сб. М.: Высш. шк., 1991. 192 с.
- Ханзина Е. Г. Проблема общественного порядка в воззрениях европейских философов Античности, Средневековья, Нового времени // Alma mater (Вестник высшей школы). 2018. № 10. С. 104-106.
- Харари Ю. Н. Sapiens. Краткая история человечества. М.: Синдбад, 2018. 512 с.
- Харари Ю. Н. Homo Deus. Краткая история будущего. М.: Синдбад, 2018. 496 с.
- Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М.: Прогресс; Прогресс-Академия, 1992. 464 с.