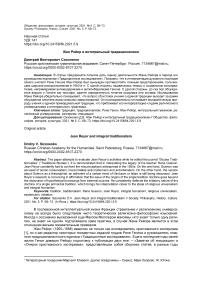Жан Рейор и интегральный традиционализм
Автор: Сизоненко Д.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 5, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка дать оценку деятельности Жана Рейора в период его руководства журналом «Традиционные исследования». Показано, что в интерпретации духовного наследия своего учителя Рене Генона Жан Рейор был вынужден противостоять ложным представлениям, получившим широкое распространение в 1950-е гг. С одной стороны, выдвигались тезисы о социальном консерватизме, непримиримом антимодернизме и антилиберализме Генона. С другой стороны, до сих пор обсуждается версия о Геноне как теософе, адепте определенного течения индуизма или ислама. Исследования Жана Рейора убедительно показывают, что вопрос об истоках учения о единой традиции выходит за рамки обсуждения гипотетических внешних заимствований. Он последовательно отстаивает инициатическую природу учения о единой примордиальной традиции, что приближает его интерпретацию к идеям религиозного универсализма и интегрального гуманизма.
Традиция, традиционализм, рене генон, жан рейор, интегральный гуманизм, религиозный универсализм, эзотеризм, инициация
Короткий адрес: https://sciup.org/149134963
IDR: 149134963 | УДК: 141 | DOI: 10.24158/fik.2021.5.9
Текст научной статьи Жан Рейор и интегральный традиционализм
Русская христианская гуманитарная академия, Санкт-Петербург, Россия, ,
Russian Christian Academy for the Humanities, Saint Petersburg, Russia, ,
В послевоенной интеллектуальной жизни Франции стремление к религиозному универсализму не всегда было следствием чисто теоретических религиозно-философских изысканий. Иногда к осознанию высказанной еще Максом Мюллером максимы «кто знает только одну религию, не знает ни одной» подталкивала сама практика, и случай Жана Рейора является в этом отношении весьма показательным примером.
Жан Рейор ∗ (1905–1988) известен не только как исследователь христианского эзотеризма [1], но и как редактор некоторых посмертных изданий трудов Рене Генона и руководитель главного традиционалистского журнала «Традиционные исследования». Еще в последние годы своей жизни Генон доверил Рейору подготовку к публикации двух книг – «Заметки об инициации» и «Очерки христианского эзотеризма», представлявших собой сборники статей, в разные годы
∗ Литературный псевдоним Марселя Клавеля, другие псевдонимы – Сириус, Марк Лепрево, Ж. Югоне.
опубликованных Геноном в различных журналах. После смерти Генона в 1951 г. Рейор унаследовал и руководство журналом «Традиционные исследования». Вероятно, у других учеников и последователей Генона, особенно тех, кто, следуя примеру учителя, принял ислам, такое привилегированное положение католика Рейора вызывало определенное недовольство, выражавшееся, помимо прочего, в обвинениях в нарушении паритета между религиозными традициями. И хотя достаточно было бегло просмотреть оглавления выпусков «Традиционных исследований» за 1950-е гг., чтобы убедиться, что такие обвинения были необоснованными, тем не менее в начале 1960-х гг. Рейор уступил руководство журналом мусульманину Мишелю Вальсану. Но с обвинениями такого рода Рейор был вынужден считаться с самых первых выпусков, вышедших под его руководством, и поэтому «Традиционные исследования» 1950-х гг. представляют собой наглядный пример поиска интеллектуального компромисса и межрелигиозного диалога. Важно, что такого рода диалог в данном случае строился на фундаменте учения о единой примордиальной традиции и различные религиозные формы рассматривались как в равной степени правомерные ее ответвления.
Исходным пунктом организации межрелигиозного диалога в рамках традиционализма являлась интерпретация наследия Генона. И здесь важнейшей задачей Рейора становится избавление от двух ложных представлений, распространившихся в послевоенное время. Одно из них, основанное на явно поверхностном прочтении работ Генона, выражалось в мнении о нем как о человеке и авторе правых убеждений, который принадлежал к антимодернистскому и антилибе-ральному движению и сочетал в себе непримиримый к любому инакомыслию католицизм и идеологию «Аксьон франсез». Трудно сказать, насколько образ Генона как тайного симпатизанта католической ортодоксии мог импонировать католику Рейору, но для последнего Генон всегда служил олицетворением универсального традиционного духа. И тем более, как писал Жан Рейор, Генон «ни в коей мере не связан с социальным консерватизмом, скорее буржуазным, чем аристократическим, “реакционных” кругов XIX – начала XX века, и является, во многих отношениях, таким же антитрадиционным, как и демократия; то же самое относится и к “тоталитарным” идеологиям, которые родились или дали о себе знать между двумя последними войнами» [2, с. 188]. Вопрос о возможных политических аппликациях учения о единой традиции заслуживает отдельного рассмотрения, но и без этого ясно, что для построения межрелигиозного диалога любые политические идеологии, как левые, так и правые, являются серьезным препятствием.
Второй ложной идеей была интерпретация, согласно которой источником учения Рене Ге-нона о единой традиции была оккультистская среда. Генон действительно в первые десятилетия XX в. был связан с различными парижскими кружками оккультистов и даже входил в некоторые тайные организации, например в «гностическую церковь» и «орден новых тамплиеров». Эти факты из его биографии неоднократно давали повод для объяснения очевидного универсализма работ Генона в духе поверхностного религиозного синкретизма. Но более внимательное знакомство с его наследием вынуждает отвергнуть не только мнимую приверженность оккультизму (ради такого тезиса следовало бы полностью игнорировать такие книги Генона, как «Теософизм. История одной псевдорелигии» и «Заблуждения спиритов», являющиеся во многих отношениях непревзойденными образцами самой глубокой и всесторонней критики оккультизма), но и представление об эволюции автора от юношеских увлечений оккультными идеями и практиками к интегральному традиционализму. Статьи Генона, опубликованные во времена его контактов с кружками оккультистов в журнале «Гнозис» под псевдонимом Палингениус, свидетельствуют о совершенно иной точке зрения. Даже самая первая статья Генона «Демиург», опубликованная в ноябре 1909 г., говорит о совершенно нехарактерном для оккультистов знании Веданты, «там также обнаруживаются настолько ясно сформулированные, насколько это можно сделать на нескольких страницах, важнейшие понятия более поздних работ Генона» [3, с. 182].
Другая версия, отвергающая религиозный универсализм Генона, – это интерпретация, согласно которой он всю свою жизнь оставался адептом Адвайта-Веданты. Характерный, но далеко не единственный пример такой интерпретации – книга Р. Фаббри «Рене Генон и индуистская традиция» [4]. Однако именно та глава, где речь идет об индуистских учителях Генона, полностью дискредитирует замысел Фаббри. По словам последнего, Генон сам утверждает, что «прошел инициацию у индуистских учителей», и у нас отсутствуют основания «сомневаться в его честности» [5]. Нельзя исключать, утверждает автор этой книги, что в Париже Генон мог встречаться с приверженцами учения, восходящего к Шанкарачарье. Однако, по мнению Фаббри, поскольку об индуистских учителях Генона ничего не известно, то закономерно встает вопрос, не является ли рассказ о такой гипотетической встрече прямым следствием оккультистских выдумок? Таким образом, версия об индуизме Генона соединяется с версией об оккультизме, и самое важное в учении о единой традиции выносится за скобки. В то же самое время, в 1955 г., Ж. Рейор опубликовал статью «По поводу “Учителей” Рене Генона» [6], в которой убедительно обосновал, что учение о единой традиции было воспринято Геноном из источников гораздо более достоверных и «примордиальных», нежели беседы и прямые контакты с самыми разными людьми, в том числе представителями индуизма. Иными словами, вопрос об истоках учения о единой традиции, по мнению Рейора, является более сложным, чем вопрос о каких-либо гипотетических внешних заимствованиях. И неслучайно этот вопрос – о гипотетических учителях Генона и истоках учения о единой традиции – продолжает живо обсуждаться среди традиционалистов и в настоящее время [7].
Парадоксальным образом именно в рамках этого вопроса, где факты, казалось бы, свидетельствуют в пользу противников религиозного универсализма, наиболее наглядно раскрывается инициатическое происхождение учения о единой традиции. И вопрос о происхождении учения о единой традиции совпадает для исследователя с вопросом о духовном рождении Генона, с вопросом о параметрах и масштабах его инициатической реализации. Знание модальностей такой реализации позволяет не только объяснить особенности ранних работ Генона и факты его биографии, но и предложить иное, гораздо более глубокое понимание его творчества и его подлинного статуса. Именно такая установка обнаруживается в упомянутой выше статье Ж. Рейора.
Понимание этих модальностей стало возможным благодаря самому Генону и его указаниям, прямым или косвенным, разбросанным по его работам и его переписке. До известной степени обращение к источникам личного характера противоречит неоднократно встречающимся в его работах утверждениям, что человеческая индивидуальность не имеет значения при рассмотрении идей. Однако именно в этих источниках чаще всего можно найти ответы на вопросы, которые природа и формы учения Генона о единой традиции неизбежно вызывают. В то же время нельзя не заметить, что сам Генон весьма неохотно давал открыто и публично какие-либо разъяснения, касающиеся инициатической природы этого учения. Пожалуй, единственное исключение – статья «Атлантида и Гиперборея», в которой встречается такое утверждение: «Действительно, мы иногда говорим о “чистой интеллектуальности”, но это выражение имеет для нас совершенно иной смысл, нежели для господина Ле Кура, который, видимо, путает “интеллект” и “рассудок” и который, со своей стороны, любит рассуждать о “эстетической интуиции”, тогда как на самом деле не существует никакой подлинной интуиции, кроме “интеллектуальной интуиции” сверх-рассудочного (супра-рационального) уровня. Кроме того, существует такая серьезнейшая и значительнейшая вещь, как “метафизическая реализация”, о которой люди, подобные господину Ле Куру, не имеют, естественно, ни малейшего представления, полагая, что мы представляем собой лишь одну из разновидностей чистых теоретиков» [8, с. 501]. В переписке с теми корреспондентами, которые намеревались встать на исключительно теоретическую точку зрения и которые не принимали во внимание, если можно так выразиться, «практическую» сторону дела, он неоднократно высказывал протест против представления, что он всего лишь «кабинетный или библиотечный теоретик». Тем не менее более внимательным читателям своих работ Генон счел возможным предоставить объяснения, касающиеся его духовного дела. Наличие таких объяснений позволяет не только расположить определенные биографические сведения в совершенно новом и непривычном контексте, но и понять инициатическую природу учения о единой традиции.
Хотя случай метафизической реализации Генона может рассматриваться как исключительный, он все же не является уникальным и единственным в своем роде. Если возможна типология инициаций, то случай Генона подпадает под категорию того, что иногда называют «спонтанными» инициациями. Это парадоксальное обозначение охватывает собой непосредственную реализацию, являющуюся, какой бы ни была ее степень, результатом инициации, которая, в свою очередь, может быть квалифицирована как прямая, т. к. она не происходит от путей передачи инициатических влияний, установленных исторически. Хотя упомянутая выше статья Рейора является небольшой по объему и в ней не могла быть изложена такая типология, тем не менее автор последовательно, шаг за шагом отвергает возможность любой передачи инициатических влияний извне. Рейор прекрасно осведомлен, что сам Генон, хотя и фрагментарно, но неоднократно упоминал о возможности «спонтанной» инициации в своих работах и переписке.
В различных религиозных традициях такая возможность получает свое обоснование. Согласно индуистской доктрине, актуальная тенденция «становления» существ определяется пропорцией трех gunas, которой они подчинены. Поскольку известно, что Prakriti нельзя разделить на части, то ни одна из трех gunas не отсутствует у существ полностью. Особое внимание уделяется тем существам, которые рождаются с «саттвическим» преобладанием: «Хотя цветок обычно появляется перед плодом, тем не менее среди растений есть исключения, когда плод появляется раньше цветка. Точно так же большинство людей приходят к отождествлению с Богом лишь после того, как пройдут sadhanas, но иногда встречаются души, которые достигают отождествления с Богом вначале, а исполнения sadhanas лишь впоследствии» [9, с. 91]. Sadhanas – это непрерывное исполнение метода духовной реализации. Подобное различие было хорошо известно в исламском эзотеризме. Газали различает тех, кто проходит все особые ступени духовного восхождения, и тех, чей путь был коротким и сразу же привел к познанию святости и трансценденции. «Они с самого начала были наполнены тем, что к другим пришло лишь в конце, и сразу же оказались в плену у божественного проявления» [10, с. 18].
Эти крайне редкие случаи связаны с такой прямой инициацией и объясняются, главным образом, лишь той особенной квалификацией, которую Генон специально рассматривает в своей статье «Мудрость врожденная и мудрость приобретенная» [11, с. 173–179]. Такая способность, утверждает он, является последним остатком примордиального состояния в нашу эпоху. Известно, что трем gunas соответствуют символические цвета и что sattwa изображается белым цветом. Если некоторые имена еще выражают иногда глубинную природу существ, то тогда можно напомнить, что имя, которым он подписывал свои книги, происходит от кельтского gwen , что означает «белый» или «светлый». Кельтское слово gwenan с тем же корнем означает пчелу. Согласно Плинию, пчелы сели на уста Платона, чтобы наделить его мудростью. Это символ божественного вдохновения. В западных легендах рассказывается, что пчела досталась человеку из утраченного Рая: это единственное живое существо, которое люди получили оттуда. Следовательно, можно сказать, что благодаря естественному родству инициация, которую получают от таких существ, ведет свое происхождение непосредственно из «саттвического» местоположения, т. е. из Высшего духовного центра, источника всех инициаций и всех традиционных форм, из центра, которому Генон даст в другом месте определение, уточнив, что этот центр сохраняет неизменным сокровище примордиальной традиции. В своих письмах Генон сопоставляет эту инициатическую модальность с отшельниками, категорией посвященных, которые напрямую зависят от Высшего центра. В одном из своих писем он уточняет, что путь отшельников является чем-то совершенно исключительным и никто не может избрать его сам; речь идет об инициации, полученной за пределами обычных средств и принадлежащей на самом деле другой цепи (нежели «цепь» исторической передачи). Действительно, «в периоды циклического помрачения связь с Центром еще иногда возможна, но совершенно исключительным образом, посредством отдельных и временных манифестаций некоторых представителей этого Центра или через коммуникации, полученные индивидуально, при помощи более или менее необычных средств, ненормальных, как и сама ситуация, вынуждающая к ним обращаться» [12, с. 409].
Инициатические доктрины учат, что такая прямая эффективная инициация приводит к открытию одной сверхиндивидуальной способности, которую Генон обозначает как «интеллектуальную интуицию». Открытие этой сверхиндивидуальной способности соответствует в одном из ее аспектов тому, что техническая лексика суфизма называет fath , обобщенному термину, который, в частности, переводится как «открытие благодати», «духовная победа», «просветление» или «откровение». В качестве примеров спонтанных реализаций, связанных с сакральными функциями, можно привести такие знаменитые как на Востоке, так и на Западе фигуры, как Шри Шанкарачарья, Шри Рамана Махарши и Шри Анандамай Ма из числа индусов или Шейх альАкбар Мухьи-д-Дин «Ибн Араби» и Эмир Абд аль-Кадыр Алжирец со стороны ислама. Что касается нечеловеческого гуру, то на Западе таков случай Бернара Клервосского, который не имел иных наставников, кроме дуба и бука. Следует заметить, что в большинстве германских языков слово, используемое для обозначения бука, имеет тесное сходство с тем словом, которое обозначает книгу (нем. Buch , книга, и Buche , бук); в староанглийском boc обозначало и «бук», и «книгу». Связь символизма «Древа Жизни» с символизмом «Книги Жизни» объясняет глубокий смысл этого двойственного значения. Кроме того, с этим же символизмом связано упоминание бука у Вергилия в первом стихе «Буколик» и в последнем стихе «Георгик». На Западе есть известный пример, приводимый Геноном, Якоба Беме, контакт которого с Центром мира был установлен при встрече с неким таинственным персонажем, который впоследствии никогда не появлялся [13]. Разумеется, не является непредвиденным стечением обстоятельств, что между упомянутыми случаями и историей Рене Генона можно обнаружить множественные связи различной степени и различных видов. Его собственный случай, следовательно, «сопоставим с тем, каким мог бы быть, на теоретическом уровне, случай того, кто уже внутренне обладает знанием определенных доктринальных истин, но не может выразить их, потому что он не имеет в своем распоряжении подходящих терминов, и кто, как только он собирается их выразить, сразу же их различает и полностью проникает в их смысл, не выполняя никакой работы для того, чтобы их усвоить. Может также случиться, что когда он находится лицом к лицу с ритуалами и инициатическими символами, то ему кажется, что он их знал всегда, своего рода «вневременным» способом, потому что он и на самом деле имеет в себе все то, что за пределами частных форм и независимо от них, образует саму их сущность; и фактически такое знание действительно не имеет никакого начала во времени, поскольку оно является результатом приобретения, осуществленного вне течения человеческого существования, которое одно только и обусловлено временем». Понятно, что говорил он здесь в первую очередь о себе [14].
Такой случай характерен для тех ситуаций, когда формирование совершается вне какой-либо традиционной среды или в неполноценной традиционной среде. В регулярной традиционной ситуации обычно существует согласованность, если не взаимодополнительность, между «приобретенным знанием» и тем, что можно назвать «врожденным знанием». Эта согласованность символически соответствует, согласно одному из своих многочисленных значений, «слиянию двух морей» ( majma’ al-bahrain ), упоминаемому в 60-м стихе XVIII суры Корана, т. е. духовной стоянке отшельников. Это «слияние» является местом, где пребывает носитель, вечно живой, врожденного знания. Что касается Генона, то следует провести аналогию между этим периодом приобретения и периодом, охватывающим все его сочинения, включая те, которые не были опубликованы, сочинения, написанные не позже 1917 г., т. е. во время периода, конец которого отмечен его пребыванием в Алжире. Все опубликованные тогда тексты не были подписаны «Рене Генон», и следует, разумеется, рассматривать эту особенность как характерный признак этого периода формирования. Именно в тот период, когда руководителем журнала «Традиционные исследования» был Рейор, проблема различных сигнатур в статьях Генона начинает активно обсуждаться.
Сам Генон обращает внимание на этот вопрос в статье, озаглавленной «Имена “светские” и имена инициатические» [15], в которой речь идет об именах, обозначающих «сущности», действительно различные в одном и том же существе. Кроме того, отвечая одному из своих корреспондентов по поводу частого использования им местоимения «мы», он говорит, что, помимо привычки и удобства, множественное число оказывается подходящим для одного любопытного инициатического значения. В другом письме он говорит, что всякий раз, когда он использовал другие подписи, на это были особые причины и эти подписи не были простыми псевдонимами на литературный «манер», но представляли собой действительно различные «сущности». Его ини-циатические имена представляли собой, следовательно, различные модальности его существа и соответствовали последовательным ступеням эффективной инициации, подразумевающим «смерть» и «возрождение» и относящимся ко многим аспектам одной и той же общей функции.
Более чем вероятно, что именно в этот период формирования Генон вступил в контакт в Париже с представителями индуистской традиции, принадлежавшими к касте брахманов, которые передали ему регулярное посвящение инициатической линии, восходящей к Шанкарачарье, вместе с устным учением индуистских доктрин. Рейор считает, что Генон со времен ранней юности был в контакте с одним или с несколькими квалифицированными представителями индуистской традиции, в частности школы Адвайта-Веданты. Он добавляет, что «период формирования, предшествующий созданию Гнозиса , когда уже в зародыше обнаруживается все доктринальное творчество последующих двадцати лет, возможно, начался в 1904–1905 гг., когда он прибыл в Париж» [16, с. 7]. Генон получил от одного из своих индуистских учителей золотой перстень, на котором был выгравирован священный слог Ом и который он носил до самой смерти. В одном из писем он говорил, что Шанкарачарья выходит за любые рамки, в которые его желают заключить. Можно увидеть, что это замечание перекликается с его заявлением по поводу его самого, согласно которому ни один западный ярлык не может ему подойти. Это соответствует замечанию, что Шанкара не был исключительно шиваитом, вишнуитом или шактистом, но лучшим из них, и для них он установил наиболее подходящие методы.
Чтобы понять, как Рене Генон, хотя и родившийся вне индуизма, смог получить эту регулярную связь и это учение от брахманов, необходимо напомнить, что «слова, которые служат в Индии для обозначения каст, не подразумевают ничего иного, кроме “индивидуальной природы”; под этим следует понимать совокупность черт, добавляемых к общей человеческой природе для того, чтобы можно было различать отдельных людей между собой. И следует сразу же добавить, что наследственность лишь частично определяет эти черты, иначе все члены одной семьи были бы неразличимы между собой, так что кастовая принадлежность в принципе не является строго наследственной, хотя чаще всего она становилась таковой на практике» [17, с. 17]. Принцип кастового разделения основан на различии индивидуальной природы и представляет собой лишь частное применение доктрины gunas к уровню социальной организации. Следовательно, все существа этого мира , согласно их собственной природе, всегда попадают в рамки четырех varnas , которые сами и образуют фундаментальную иерархию. Традиционные науки – в частности sâmudrika (физиогномика) и jyotish (астрология) – позволяют для каждого человеческого существа, каким бы оно ни было, определить varnas , к которой он на самом деле принадлежит. И хотя речь идет об исключительных случаях, у самого Генона никогда не было препятствий, чтобы получить посвящение со стороны брахманов, т. е. связь и учение ведической формы. Этому не только не было принципиальных препятствий, но «саттвическая» доминанта его состояния давала для этого естественный повод.
Таким образом, усилия Рейора, выраженные как в его статьях, так и в редакторской политике «Традиционных исследований», были направлены прежде всего на построение аутентичной интерпретации наследия Генона. На этом пути ему приходилось раскрывать несостоятельность многих расхожих представлений, включая и версию о том, что Генон был типичным западноевропейским мыслителем правых консервативных убеждений (наряду, например, с О. Шпенглером или Ш. Моррасом), и версию о Геноне как оккультисте (наряду, например, с Е. Блаватской). Ошибочными, с точки зрения Рейора, были и представления о Геноне как приверженце определенной религиозной формы (индуизма или ислама). Раскрывая инициатическую природу учения Генона о единой примордиальной традиции, Рейор приближался к концепции религиозного универсализма и интегрального гуманизма.
Список литературы Жан Рейор и интегральный традиционализм
- Рейор Ж. Орден Храма и христианский эзотеризм // Волшебная гора: Философия. Эзотеризм. Культурология. Т. XII. М., 2006. С. 294-306.
- Reyor J. Pour un aboutissement de l'œuvre de René Guénon. T. 1: Les "Aperçus sur l'initiation". Milano, 1988. 307 p.
- Reyor J . Les "Aperçus sur l'initiation" (1) // Études Traditionnelles. 1946. № 250. P. 180-186.
- Fabbri R. René Guénon et la tradition hindoue. Les limites d'un regard. Lausanne, 2018. 136 p.
- Ibid. P. 87.
- Reyor J. À propos des "Maîtres" de René Guénon // Études Traditionnelles. 1955. № 321. P. 5-10.
- Breck P. À propos des Maîtres hindous de René Guénon // Cahiers de l'Unité. 2018. № 12. P. 7-25.
- Генон Р. Атлантида и Гиперборея // Атлантида и Гиперборея: мифы и факты. М., 2003. С. 496-503.
- Провозвестие Рамакришны. СПб., 1914. 284 с.
- Ghazâlî. Le tabernacle des Lumières (Michkât al-Anwâr). Paris, 1981. 118 p.
- Guénon R. Initiation et realisation spirituelle. Paris, 1967. 275 p.
- Генон Р. Заметки об инициации // Генон Р. Символика креста. М., 2004. С. 355-691.
- Там же. С. 629.
- Guénon R. Initiation et realisation spirituelle ...
- Генон Р. Заметки об инициации ... С. 513-517.
- Reyor J. En marge de "La vie simple de Rene Guenon" // Études Traditionnelles. 1958. № 345. P. 5-15.
- Генон Р. Духовное владычество и мирская власть. М., 2015. 208 с.