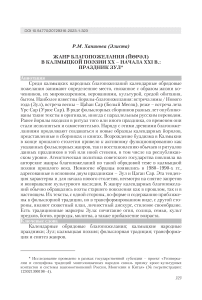Жанр благопожелания (й0рэл) в калмыцкой поэзии XX - начала XXI в.: праздник зул
Автор: Ханинова Римма Михайловна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 1 (64), 2023 года.
Бесплатный доступ
Среди калмыцких народных благопожеланий календарные обрядовые пожелания занимают определенное место, связанное с образом жизни кочевников, их мировоззрением, верованиями, культурой, средой обитания, бытом. Наиболее известны йорялы-благопожелания: встреча зимы / Нового года (Зул), встреча весны - Цаhан Сар (Белый Месяц), реже - встреча лета Үрс Сар (Урюс Сар). В ряде фольклорных сборников разных лет опубликованы такие тексты в оригинале, иногда с параллельным русским переводом. Ранее йорялы входили в ритуал того или иного праздника, со временем они стали исполняться и самостоятельно. Наряду с этими древними благопожеланиями продолжают создаваться и новые образцы календарных йорялов, представленные в сборниках и книгах. Возрождение буддизма в Калмыкии в конце прошлого столетия привело к активному функционированию как указанных фольклорных жанров, так и восстановлению обычаев и ритуалов данных праздников в той или иной степени, в том числе на республиканском уровне. Атеистическая политика советского государства повлияла на авторские жанры благопожеланий по такой обрядовой теме в калмыцкой поэзии прошлого века. Немногие образцы появились в 1980-1990-х гг., адресованные в основном двум праздникам - Зул и Цаган Сар. Эта тенденция характерна и для начала нового столетия, несмотря на снятие запретов и возвращение культурного наследия. К жанру календарных благопожеланий обычно обращались поэты старшего поколения как в прошлом, так и в настоящем. Их тексты, с одной стороны, по форме и содержанию приближены к фольклорной традиции, но в трансформированном виде, с другой стороны, являют сюжетный план, личностный дискурс, стилевое своеобразие. Есть традиционные маркеры Зула: почитание огня, солнца, семьи, культ предков, богов, природы, молитва, а также прибавление возраста.
Календарные обрядовые благопожелания, калмыцкие народные праздники, зул, калмыцкая поэзия, фольклорная традиция, трансформация и синтез жанров
Короткий адрес: https://sciup.org/149142776
IDR: 149142776 | DOI: 10.54770/20729316-2023-1-323
Текст научной статьи Жанр благопожелания (й0рэл) в калмыцкой поэзии XX - начала XXI в.: праздник зул
Среди многочисленных благопожеланий (калм. йѳрәл ), характерных для обрядовой магической поэзии калмыцкого устного народного творчества, фольклористы выделяют так называемые « хуучн йѳрәлмүд » («старые благопожелания»), имеющие древнее происхождение. Они сопровождали жизнь человека во всех ее проявлениях и событиях – от рождения до смерти. В советский период йорялчи (сочинители благопожеланий) и джангар-чи (исполнители эпоса «Джангар») создали еще « шин йѳрәлмүд » («новые благопожелания»), отразившие современность, исторические, общественные и государственные события, деятельность героев и тружеников.
Для монгольского и бурятского малого фольклора также характерны краткие и пространные благопожелания ( ерѳѳл ), связанные с традиционными обрядами (календарными, хозяйственными, свадебными и пр.) [Хорлоо 1969; Бардаханова 1982, 2012; Сампилдэндэв 1985 и др.].
В этом ряду определенное место занимают древние и современные йо-рялы, адресованные календарным калмыцким праздникам в связи со сменой времен года: осенне-зимний, зимне-весенний, летний [Овалов 1985; Борджанова 1999; Борджанова 2007; Басангова 2015 и др.]. Это встречи зимы – Зул, весны – Цаhан Сар (Цаган Сар), лета – Үрс Сар (Урюс Сар). Зул по-калмыцки в первом религиозном значении – лампада, жировая лампа, во втором значении – Новый год по лунному календарю. Цаhан Сар означает Белый Месяц, Үрс Сар – Месяц травы железняк (урс).
Первым двум сезонам посвящено большинство благопожеланий, меньше – третьему сезону. Так, четыре благопожелания в русском переводе включены в сборник «Родники народной мудрости»: два посвящены Зулу, два – Цаhан Сару [Родники народной мудрости 1984, 96–97]. По одному йорялу о каждом из трех праздников записано от сказительницы Ц.К. Джаргаевой [Әмд булг 1993, 33–35, 39]. В Приложении фольклорных текстов, оригинальных и переводных, вошедших в монографию Т.Г. Борджановой, два йоряла адресованы Зулу, один – Үрс Сару , несколько – Цаhан Сару [Борджанова 1999, 161–171]. В сборнике «Калмыцкие народные благопожелания» также опубликованы йорялы праздникам Зулу и Цаhан Сар , записанные сотрудником КИГИ РАН М. Эрдни-Горя-евым в конце 1990-х гг. в районах Калмыкии от двадцати двух пожилых информантов, лишь от двух информантов – йорялы празднику Үрс Сар [Хальмг улсин йѳрәлмүд 2010]. При этом нами учитываются те йорялы, в названии которых есть ключевые слова – название календарного праздника с указанием жанра. Например, наиболее частотны названия « Зулын йѳрәл » («Благопожелание Зулу») и « Цаhан Сарин йѳрәл » («Благопожела-ние Цаган Сару») [Хальмг улсин йѳрәлмүд 2010], реже « Цаhана йѳрәл » («Благопожелание Цагану»), « Цаhанла тәвдг йѳрәл » («Благопожелание, произнесенное на Цаган»), « Цаhанла келдг йѳрәл » («Благопожелание, сказанное на Цаган»), « Цаhан Сарин ѳдрт тәвдг йѳрәл » («Благопожелание, произнесенное в день Цаган Сара») [Борджанова 1999, 165–170], «Йорял праздничному чаю на праздник Зула» [Родники народной мудрости 1984,
96–97], « Зулын цәәhин йѳрәл » («Благопожелание чаю на Зул») [Тиигтхә! Да будет так! 1993, 7, 51], « Зул кеhәд, нас авхла, тәвдг йѳрәл » («Благопо-желание добавленному году на празднике Зул») [Зулын йѳрәлмүд 1993, 15]. Немного опубликованных фольклорных записей в честь праздника Үрс Са р, названных так: « Үр сарин үрс ѳдрин йѳрәлмүд » («Благопожела-ния в дни Урс Сара») [Әмд булг 1993, 39–40], « Үрс Сарин нәәрт нерәдсн йѳрәл » («Благопожелание, посвященное празднику Урс Сар») [Хальмг улсин йѳрәлмүд 2010, 113–114]. Ни одного календарного благопожелания нет в сборнике « Йѳрәлмүд боле магталмуд » («Благопожелания и магта-лы») [Бьерке 2008]. В «Антологии калмыцкой поэзии» (1962) представлен лишь один « Хаврин йѳрәл » («Благопожелание весне») [Антология калмыцкой поэзии 1962, 75].
У ойратов Синьцзяна (СУАР КНР) есть « Зул шатах йѳрәл » («Бла-гопожелание зажженным лампадам на Зул»), « Цаhана йѳрәл » («Благо-пожелание Цагану») [Цацлын дееҗ 1997, 58; 48]. У хошутов Синьцзяна в ряде сборников «Благопожелания и восхваления» (1980, 1983), в журнале «Хан Тенгри» приводятся разные благопожелания. Одно из них на праздник Цаган Сар ( Caγāni yörȫl ) цитируется по статье Бу. Мёнки в работе Б.Х. Борлыковой, Б.В. Меняева, Менгкай Бу, Т.В. Басановой [Борлыкова и др. 2020, 214].
Легенды о возникновении праздников Зул и Цаган Сар у калмыков и ойратов Синьцзяна хорошо известны [Хальмг туульс 1972; Семь звезд 2004; Осорин 2015; Мифы, легенды 2017]. Описание календарных калмыцких обрядов подробно дано и в современных работах [Бакаева 1987; 1993; 1994; 2022; Борджанова 1999; Басангова 2007].
«В первый месяц зимы, называемый калмыками месяцем быка ( үкр сар ), 25 числа отмечается праздник Зул. Этот праздник был установлен традицией тибетской школы Гелугпа, потому отмечается и тибетцами, и монголами, и бурятами, и тувинцами, и калмыками. В Тибете он именуется Праздником огней, или Праздником пяти жертвоприношений Галдану (“Галдан игачход”). Это торжество отмечает дату ухода в нирвану Цзон-хавы [1357–1419 гг. – Р.Х.] – основателя Гелугпа, давшего начало и монастырю Галдан (Галтан также – обитель радости, место пребывания Будды грядущего Майтреи). Во всех монастырях в этот день зажигались тысячи светильников, лампад» [Бакаева 1987, 13]. Как подчеркивает этнограф, «с этим праздником у калмыков связаны две мотивации: буддийская и бытовая. Дело в том, что Зул, в отличие от бурят, монголов, тувинцев, калмыками отмечается как Новый год. <…> Новый год же – праздник более древний, и функции его были восприняты Зулом у калмыков от другого архаического торжества. <…> Со временем Зул все более поглощал старый праздник Джилин эзен, следующий вслед за праздником огней (обычно считается, что он наступает примерно через неделю). Этот традиционный Новый год (Джилин эзен, или Джилин нойн) наступал в день зимнего солнцестояния <…> В день Джилин эзен прибавляют себе год возраста мужчины, тогда как женщины проделывают то же самое раньше, во время Зула» [Бакаева 1987, 13].
День зимнего солнцестояния, как известно, наступает 22 декабря. Җи-лин эзн – по-калмыцки значит Хозяин года, Җилин нойн – владыка года, другое имя – Цаhан ѳвгн или Цаhан Авhа , т.е. Белый Старец. Это Хозяин мира, Вселенной, божество семейного благополучия, счастья, богатства. Сохранились йорялы, адресованные Хозяину года, например, « Җилин Нойонд нерәдсн йѳрәл » [Хальмг улсин йѳрәлмүд 2010, 37]. См. начальное обращение: « А, хәәрхн, олн Деедс, деедин олн бурхд, / Делкән эзн Цаhан ѳвгн » («А, милостивый, все всевышние, все божества, хозяин Вселенной Белый Старец»). «В тюрко-монгольской мифологии при проведении обрядовых действ (почитание небожителей, духов предков, духов гор и огня) наиболее употребительным обращением к божеству является слово хайрхан / кайракан. <…> Установлено, что хайрхан / кайракан является одним из древнейших символов божества в тюрко-монгольской традиции. Если рассматривать теоним, не выходя за пределы устойчивого культурного контекста, то в тюрко-монгольской мифологии он используется в своем основном денотативном значении как дающий милость» [Дампилова 2020, 118]. Междометие (а) в обращении к божеству выполняет функцию эмоционального обращения, мольбы [Дампилова 2020, 120]. « Хәәр » по-калмыцки в первом значении – сожаление, жалость, во втором устном значении – милость, благоволение [Калмыцко-русский словарь 1977, 587]. Такое обращение « хәәрхн » часто встречается в различных тематических благопожеланиях как народных, так и авторских в калмыцкой поэзии.
Если обрядам и обычаям, их основным тематическим группам калмыцких благопожеланий, прежде всего свадебным, фольклористы уделили особое внимание [Хабунова 1998 и др.], то благопожелания календарных праздников пока остаются на периферии исследовательского интереса. В недавней статье Т.Г. Басанговой «Вербальный компонент праздника Цаган Сар (“Белый Месяц”) у калмыков» рассмотрен ритуальный комплекс народного праздника как «семейное, внутриродовое и общественное торжество» [Басангова 2015, 51] с анализом текстов репрезентативных йорялов.
Благопожелания празднику Зул в калмыцкой поэзии ХХ в.
Калмыцкие писатели прошлого столетия наряду с учеными также принимали участие в записях текстов устного народного творчества, вводили их образцы в свои произведения, в том числе в поэзии. Уделяя внимание первой группе (« хуучн йѳрәлмүд »), в основном поэты обращались ко второй группе (« шин йѳрәлмүд ») [Лиджиев 2004; Очирова 2011; Ханинова, Очирова 2011a; Ханинова, Очирова 2011b; Лиджиев и др. 2019; Ханинова 2022а; Ханинова 2022b].
У калмыцких поэтов ХХ в. опубликовано немного стихотворений о календарных народных праздниках, в новом веке таких текстов еще меньше. В прошлом столетии, как известно, это было обусловлено атеистической политикой советского государства, репрессиями священнослужителей, закрытием и разрушением буддийских монастырей-хурулов, уничтожением религиозных книг и рукописей, цензурой. Появление стихотворений о праздниках Зул и Цаган Сар, в основе которых синкретические религиозные воззрения предков, неслучайно приходится на конец ХХ в., когда в Калмыкии возникли предпосылки для возрождения буддизма, возвращения указанных праздников на республиканском уровне [Бакаева 1987; Бакаева 2022].
Объектом и предметом исследования такие авторские йорялы калмыцких поэтов еще не стали.
В данной статье рассмотрим благопожелания калмыцких поэтов ХХ – начала XXI в., адресованные Зулу, в контексте фольклорной традиции. Это опубликованные в прошлом веке стихотворения Михаила Хо-нинова (1919–1981) «Ээҗин ɵргсн зул герлтǝ…» («Лампадка, зажженная матушкой, светла…», 1981) [Хоньна 1983, 59], Алексея Балакаева (1928– 1998) «Зул» (1995) [Балакан 1995, 4], Тимофея Бембеева (1930–2003) «Зул» [Бембин 1997, 8], Риммы Ханиновой «Зул» (1992) на русском языке [Ханинова 1997, 87], в калмыцком переводе В. Шуграевой [Ханина 2012, 113] и английском переводе К. Коупланда [Khaninova 2012, 7].
Калмыцкие благопожелания подразделяются на краткие « ахр йѳрәл » (несколько строк) и пространные « йѳрәл » (десятки строк). К краткому благопожеланию относится первое стихотворение, к пространному – остальные стихи. Четверостишие М. Хонинова не имеет заглавия, но в первой же строке есть ключевое слово «зул» («лампадка»). «Ээҗин ɵрг-сн зул герлтǝ, / Эврǝннь герлǝс ɵгсн бǝǝдлтǝ. / Уята бǝǝх улан туhлшң / Уутьрад, усхад, үргǝд бǝǝнǝ» («Лампадка, зажженная матушкой, светла, как будто [лампадке] матушка собственный свет отдает. Словно пугающийся на привязи красный теленок, [огонь лампадки] колеблется» (Здесь и далее наш смысловой перевод – Р.Х.). Калмыцкая пословица гласит: «Зул унтрхиннь ѳмн падрдг», т.е. «Прежде чем погаснуть, лампада вспыхивает» [Калмыцко-русский словарь 1977, 255].
Воспоминание поэта о детстве, когда в семье отмечали Зул, сопоставление священного света с материнским светом, синтактический параллелизм в сравнении огня в лампадке с красным теленком на привязи (калм. зел) у кибитки – все это воссоздает атмосферу национального календарного праздника в тексте. Ср. «а хр йѳрәл » ойратов Синьцзяна « Зул шатах йѳрәл » («Благопожелание при зажигании лампады»): « Зун җилин / Зул шатаҗ, / Зун нǝǝм наслҗ, / Амулң эдлтн! » [Цацлын дееҗ 1997, 58] («Зажигая лампаду сотни лет, достигнув ста лет, живите в счастье!»).
«Зул» (1995) Алексея Балакаева вошел в цикл стихотворений для детей, изданный позднее отдельной книжкой «Чинсана хәәрцгәс» («Из шкатулки Чинсана», 2008). Чинсан – внук поэта. «Yкр сарин чилгч / Хǝǝртǝ манд ɵдр, / Yчүкн цагин иргч – / Хальмг Зул эндр. // Ээҗ зул тавлв, / Эргмд герлтǝ болв, / Насн деерǝн нас / Немҗ би авув. / Экм цǝ чанв, / Эцкм дееҗ ɵргв, / Ээҗ бурхнд мɵргв, / Эднд зүркм ханв» [Балакан 1995, 4]. («В конце месяца коровы священный для нас день. Осталось мало времени для приближения будущего – сегодня калмыцкий Зул (Новый год). Бабушка зажгла лампаду, вокруг стало светло. Я прибавил к своему возрасту один год. Мама сварила чай, папа выставил подношение-еду (небожителям), бабушка молится богам, я исполнен благодарности им). Yкр сар (месяц коровы) – ноябрь. Стихотворение знакомит детей с календарным калмыцким праздником, с верованиями предков, с обычаем «нас авх» («добавить возраст»), с поклонением богам (бурханам), с традицией зажигать огонь в лампадке. Текст имеет сюжет: праздник в кругу семьи с перечислением действий родни.
Упоминание чая отсылает к легенде о Зуле, когда Цзонхава (калм. Зуңква) тяжко заболел, по совету лекаря он стал пить калмыцкий чай, который помог ему выздороветь 25-го числа первого зимнего месяца по лунному календарю. С тех пор, по велению Зункавы, в честь бурханов в этот день возжигают лампадки (зул) и совершают чайный ритуал подношения, божественный чай с тех пор стал считаться первым угощением [Семь дней 2004, 75].
В день Зула у калмыков также существовал обычай разжигать костер, связанный с магией возвращения солнцу утраченной силы. «В целом для Зула характерны следующие черты: 1) магия возвращения солнцу утраченной силы, утверждения сильного начала в природе; 2) новогодние поздравления и обновление природы и человека; 3) сплочение семейного круга, почитание предков и единение их живых потомков; 4) магия огня как вечности жизни; 5) возрастные обряды – прибавление возраста» [Бакаева 1987, 13].
Стихотворение Тимофея Бембеева «Зул» (1997), обращенное к взрослой аудитории, написано в форме песни (на что указывают глагольные окончания рифмы). « Зунын ормд намр ирнǝ, / Зурган йиртмҗ адhҗ сольна. / Халун ǝрлҗ, будн нигтрнǝ. / Хамг делгү оңдарад одна. // Зулан тосйа, Зулан угтйа, / Зулан ɵргйǝ, зулдан мɵргйǝ. / Зу наслх цуhар болйа, / Зуурм хɵвǝс холхн йовйа! // Зурhан зү тɵвкнүн бǝǝрлҗ, / Зула тиньгр суу-хан эрйǝ. / Насан авч, насан хǝǝрлҗ, / Намхн тавар бǝǝхǝр дɵрийǝ » [Бем-бин 1997, 8] («На смену лету приходит осень. Вселенная торопится сменить свой вид. Жара ушла, туман сгущается. Весь мир меняется. Встретим Зул, встретим Зул, разожжем лампадки, помолимся. Пусть все достигнут ста лет, избегут незадачливой участи! Будем жить в спокойствии, Новый год пусть будет мирным. Прибавив себе возраст, благословив его, будем стараться жить свободно по своему желанию»). Здесь, как у А. Балакаева, три строфы-четверостишия. Первая строфа сразу являет пейзажную зарисовку – смену времен года. Во второй строфе – главное событие: встреча Нового года с пожеланиями соблюдать ритуал праздника. В третьей строфе выражена вера в исполнение новогодних желаний. Для благопожела-ния характерны повторы, что мы наблюдаем и в стихотворении, формулы пожеланий (благополучия, мира, продления жизни), обращения, восклицания. Традиция национального стихосложения в текстах этих поэтов соблюдена: аллитерация, анафора разных видов (парная, сплошная), по четыре слова в строке у М. Хонинова и Т. Бембеева, по три слова в строке у А. Балакаева, внутренняя рифма, разные виды рифмовки (парные, перекрестные, сплошные).
Стихотворение Риммы Ханиновой «Зул» (26 декабря 1992 г.) не имеет деления на строфы, состоит из 20 строк. Стихотворение о буддийском празднике лампад и приходе зимы, по словам М.П. Петровой, написано в форме йоряла-благопожелания с постоянным рефреном «да будет», что характерно для этой формы, также пришедшей из фольклора [Петрова 2002, 111]. С позиции нового поколения в первой [Ханинова 1994, 87] и во второй редакциях стихотворения автор рассматривает сакральный праздник предков как тайну, в которую необходимо проникнуть современнику, не знающему своей конфессии, постигнуть священный смысл Зула. «О тайна предков, праздник Зул, / огонь священный вновь раздул. / Молитва сердца и ума: / зима калмыцкая пришла!» [Ханинова 2008]. Ключевые слова (Зул, зима калмыцкая, огонь священный, свет, добро, человек разумный и др.) передают возрождение национальных обычаев и праздников с пожеланиями здравия, благополучия, мира как в оригинале, так в калмыцком [Ханина 2012, 113] и английском [Khaninova 2012, 7] переводах В. Шуграевой и К. Коупланда [Петрова 2002, Сарангаева 2022]. В контексте произведения подразумеваются лампады-зул, домашний алтарь, буддийский хурул-храм, буддийские мантры-молитвы. Прием повтора в конце стихотворения, с одной стороны, отвечает фольклорной традиции, с другой – в трансформированном виде передает эстафету поколений: «О тайна предков, праздник Зул, / ты никого не обманул: / горит огонь твой сквозь века. / вновь очищая и маня!» [Ханинова 2008].
Стихотворение Р. Ханиновой входит в цикл «Калмыцкий праздник», в котором есть стихи, посвященные праздникам Цаган Сар и Урюс Сар.
Следовательно, из трех стихотворений на калмыцком языке первое представляет « ахр йѳрәл » (четверостишие), второе адресовано детям, третье – в синтезе благопожелания и песни предназначено для взрослой аудитории. Последние, названные однозначно «Зул», до сих пор не переведенные на русский язык, включают по три строфы-четверостишия. Везде традиционные маркеры Зула: почитание огня, солнца, семьи, культ предков, богов, природы, молитва, а также прибавление возраста.
Благопожелания празднику Зул в калмыцкой поэзии начала ХХI в.
Несмотря на то, что в новом столетии нет уже прежних запретов на указанные темы, современные поэты реже обращаются к художественному осмыслению фольклорной традиции. Характерно, что эти авторы – люди пожилого возраста, в той или иной степени знакомые с обычаями предков, в том числе на семейном уровне.
Это стихи Эрнеста Тепкенкиева (1931–2017), Владимира Нурова (г.р. 1938), Николая Хатуева (г.р. 1953). «Зул» Э. Тепкенкиева опубликован в его книге «Цаган Сар» (2007), состоит из девяти четверостиший (36 строк). « Зул ѳдр » («День Зула») В. Нурова включен в книгу поэта для детей «Алтн авдр» («Золотой сундучок», 2008), структурирован шестью четверостишиями (24 строки). Неопубликованное еще стихотворение Н. Хатуева своим названием тоже отсылает к фольклорному аналогу – « Зулын йѳрәл » («Благопожелание Зулу», 2020): три четверостишия (12 строк). Все эти произведения не имеют русского перевода.
Э. Тепкенкиев подробно описывает праздник Зул как встречу калмыцкого Нового года. «Хальмгин шин җил / Хǝǝртǝнь ǝмтнд ил. / Зул сǝǝхн нернь / Зүүднд орх – учрнь» [Тɵвкнкин 2007, 184] («Калмыцкий новый год очевиден людям своей сакральной сутью. Зул – его прекрасное имя, приснится во сне по этой причине»). Этот важный день воодушевляет каждого, дети поют и танцуют, радуясь. Автор так же, как и другие поэты, подчеркивает, что, встречая Зул, люди пьют чай, молятся всевышним, делая подношение пищей, беседуют: «Зулан ǝмтс бǝрǝд, / Зулын цǝ ууц-хана. / Деедкст улс мɵргǝд, / Дееҗ ɵргǝд күндлнǝ» [Тɵвкнкин 2007, 184]. В отличие от народного благопожелания, в котором славится калмыцкий чай, Э. Тепкенкиев не использует народную поговорку. Ср. начало «Зулын йѳрәл»: «Цә шиңгн болв чигн, / Хотын дееҗ болдг, / Цаасн нимгн болв чигн, / Номин кѳлгн болдг» [Хальмг улсин йѳрәлмүд 2010, 51] («Чай, хоть и жидкий, становится подношением пищи (предкам, богам – Р.Х.), бумага, хоть и тонкая, в знании – опора»). Ср. в «Зулын цәәд тәвдг йѳрәл»: «Цә шиңгн болв чигн идәнә дееҗ, / Цаасн нимгн болв чигн, / Номин кѳлгн болҗ, / Уусн цәәhәсн, / Хар әркәсн амсхгов. <…>» [Зулын йѳрәлмүд 1987, 15] («Чай, хоть и жидкий, является подношением пищи, бумага, хоть и тонкая, в знании становится опорой, выпьем чай, пригубим водки»).
Поэт включает в текст упоминание обычая прибавлять возраст в связи с Зулом, благословлять еще один год жизни, крепить семью, верить в новое будущее: «Нег насн немǝд, / Негдлт бүлд батрна. / Шин насан йɵрǝhǝд, / Шинрлт ирхинь ицнǝ» [Тɵвкнкин 2007, 184]. Ср. соответствующие строки в фольклорном аналоге «Зул кеhәд, нас авхла, тәвдг йѳрәл» («Благопоже-лание на Зул при прибавлении возраста»): «Хуучн насн бат болҗ, / Шин насн ѳлзәтә болҗ, / Жил болhн насан авч, / Эсрндән үүнәс байртаhар зулан кеҗ, / Амулң эдлҗәхиг олн деедс-бурхд / Ѳршәх болтха!» [Зулын йѳрәл-мүд 1987, 15] («Пусть старый возраст крепнет, а новый год жизни станет счастливым, каждый год пусть прибавляет возраст, еще радостнее отметим Зул, пусть будут милостивы все боги, дарующие счастье!»). Одним из пожеланий становится хорошая учеба, важная в системе ценностей калмыков, и связанная с ней белая дорога, в которой определение белого цвета у монголоязычных народов означает пожелание счастливого пути и возвращения: «Эрдм-сурhульн гүүдтхǝ, / Эркǝн уга туслтха, / Цагнь ǝрүнǝр давтха, / Цаhан хаалhнь кɵтлтхǝ!» [Тɵвкнкин 2007, 185] («Пусть учеба спорится, пусть время проходит с пользой, пусть ведет белая дорога!»). Ср. в фольклорном примере «Зулын йѳрәл»: «Ирсн мана зулмдн / Ѳлзәтә, цаhан хаалhта болтха <…>» («Пусть пришедшему празднику Зул / Будет благословенная, белая дорога <…>» [Борджанова 1999, 161, 162]. В то же время, как известно, широко распространено такое благопожелание белой дороги в разных тематических йорялах, в том числе в отдельном народном благопожелании «Хаалhин йѳрәл» («Благопожелание на дорогу»). Обязательным компонентом в авторском благопожелании становится обращение к божествам, к Будде: «Буддан гегǝн мандлҗ, / Бүүрим – алтн теегим, / Олн деедкс ɵршǝҗ, / Олз-ору немǝтхǝ!» [Тɵвкнкин 2007, 185] («Пусть сияние Будды распространяется, мое кочевье – моя золотая степь, пусть будут милостивы всевышние, пусть прибавится изобилие!»). Для йоряла характерно использование парных словосочетаний, эта фор- мула соблюдается и поэтами. У Э. Тепкенкиева в данном благопожелании, например: эрүл-менд (здоровье), эрдм-сурhуль (знание-учеба), олз-ору (прибыль, достаток), зүркн-седкл (сердце-душа). Содержание йоряла не ограничивается узким кругом, благопожелание адресуется родному краю, окружающему миру, вселенной. Поэт также патриотически восклицает: «Җил ɵнр болтха, / Җирhл улмар ясртха, / Тɵрскнǝмм нернь падртха, / Тɵр-кергнь күцтхǝ!» [Тɵвкнкин 2007, 185] («Пусть год будет изобильным, пусть жизнь улучшается, пусть славится имя моей родины, пусть исполнится все задуманное!»). В заключительной строфе автор переходит от общего к частному, личному: «Зүркн-седклǝн ɵгǝд, / Зулд би мɵргнǝв. / Авсн насндан байрлад, / Әрүн сана зүүнǝв» [Тɵвкнкин 2007, 185] («Все сердцем, всей душой молюсь Зулу, радуясь прибавленному возрасту, преисполнен светлых мыслей»). Такое авторское включение в парадигму общих благо-пожеланий актуализируют персональный аспект, личностное соучастие в праздновании, собственную веру в благотворный посыл слова, как встарь.
В отличие от стихотворения «Зул» Э. Тепкенкиева стихотворение В. Нурова «Зул ɵдр» («День Зула») являет семейный сюжет. Это произведение, как у А. Балакаева, адресовано прежде всего детям. В сюжете действуют главные персонажи: бабушка (ээҗ), внуки по материнской (зеенр) и отцовской линии (ачнр). Слово «ээҗ» имеет два значения: 1) мать, мама, 2) бабушка [Калмыцко-русский словарь 1977, 706]. В зависимости от контекста (если нет определяемого слова) используется то или иное значение. В данном примере речь идет о бабушке и внуках. Стихотворение начинается с описания моления старой женщины в храме. «Мɵңгн сүм дотр / Мɵргүл ээҗ кенǝ. / Санср тал күргм, / Санан-седкл тɵрнǝ» [Нуура 2008, 94] («В серебряном храме молится бабушка. Рождаются светлые мысли-чувства, возносясь в Космос»). «Сүм» в первом религиозном значении – храм [Калмыцко-русский словарь 1977, 465]. В стихотворении упоминается Цзонхава-Зункава в связи с праздником: «Зунын зɵмлh хǝрүлх / Зуңквин ǝдс ɵгсн / Ээҗин ɵɵр зеенр / Ээвр болҗ наадна» [Нуура 2008, 94] («Получив благословение Зункавы, словно утолив жажду в зной, возле бабушки играют любящие внуки»). Здесь также речь идет о подношении-дееджи (первинок пищи) Зункаве: «Зулын хотын дееҗинь / Зуңкв гегǝнд нерǝдҗ» [Нуура 2008, 95]. Другая особенность (прибавление возраста) передана с помощью метафоры: «Нас утдулх ирл / Нанд деедс ɵгсинь / Эндл уга медҗ, / Эрднь-билгǝн харна» [Нуура 2008, 95] («Получив от небожителей пилюлю, продлевающую возраст, оберегаем это сокровище, как дар свыше»). Ирл – фольк. пилюля [Калмыцко-русский словарь 1977, 272]. Сезонное обозначение поэт вводит образом хозяина зимы – Yвл-нойн (Владыка зимы): «Yвл-нойн йосан, / Yүлǝн hартан авна. / Булhн, арат девлǝн / Бумбин үрнд ɵмскнǝ» [Нуура 2008, 95] (Хозяин зимы берет владения в свои руки. Детям страны Бумбы надевает шубы из соболя и лисы»). Здесь отсылка к стране Бумбе из героического калмыцкого эпоса «Джангар» являет поэтическую традицию сравнения современности с фольклорным идеалом счастливой страны предков, собольи и лисьи шубы демонстрируют изобилие и благополучие ее жителей. Завершая стихотворение, автор сравнил детей-внуков с ангелами, звонкие голоса которых звенят во всей Вселенной, возвращая глухим слух, посвящая им свои годы: «Хоңhр болсн ачнр / Хоңхар делкǝ догдлулна. / Дүлǝд чик орулҗ, / Дүүвр насан нерǝднǝ» [Нуура 2008, 95]. При публикации в книге дана сноска: «Хоңhр – ангел» [Нуура 2008, 95], т.е. предпринята авторская попытка ввести в сюжет понятие «ангел» в отношении детей. Калмыцкого же эквивалента слова «ангел», по всей видимости, нет, в словаре ойратов Синьцзяна указано: «ангел – теңгрин элч, сәкүсн» [Жижян 1995, 26].
« Зулын йөрәл » Н. Хатуева датирован автором 3 декабря 2020 г. В первую строфу поэт вводит начальную фольклорную формулу, связанную с уходящим годом и наступающим годом. « Буур җил һарч, / Өмнән мууһнь автха. / Ботхн җил орҗ, / Өлзәтә җирһл делгртхә » [Хатуhа 2020] («Год верблюда, уходя, пусть заберет с собой все плохое. Год верблюжонка, придя, пусть приумножит счастливую жизнь»).
Ср. «Йорял праздничному чаю на празднике Зула»: «<…> Пусть год верблюжонка настает, / Сменяя год верблюда. / Счастье, радость он несет / В дом простого люда» [Родники народной мудрости 1984, 96]. Или начало « Зулын йѳрәл »: « Hә, буур җил hарч, / Ботхн җил орҗ… » («Ну, год верблюда ушел, год верблюжонка наступил…»), или такое же начало в « Шин җилин йѳрәл » («Бла-гопожелание новому году»): « Буур җил hарч, / Ботхн җил орҗ… » [Хальмг ул-син йѳрәлмүд 2010, 24, 26]. Несмотря на то, что в двенадцатигодовом животном цикле календаря монголоязычных народов и в названиях месяцев нет верблюда / верблюжонка, тем не менее такие обозначения смены старого и нового года присутствуют в устном народном творчестве. По мнению фольклориста Н.Ц. Биткеева, «верблюд имеет все основные приметы животных, которые включены в калмыцкий календарь. Поэтому, очевидно, хотя нет ни одного месяца, который был бы назван месяцем верблюда, здесь сказано о годе наступающем как о годе верблюда, то есть шутливо» [Тиигтхә! Да будет так! 1993, 7]. Действительно, как утверждают ученые, верблюд, не вошедший в животный календарь из-за хитрости другого претендента, опередившего его, вобрал в себя все приметы других календарных животных [Борджанова 2007; Бурыкин 2020]. В ряде калмыцких благопожеланиях, адресованных Зулу и / или Новому году, есть указания на смену определенного года другим определенным годом. Например, в таком примере « Зулын йѳрәл »: « Эндр бидн цугтан / Зулан – шин орҗах / Хальмгин шин җилән тосч, / Хуучрҗах хѳн җилән haphҗ, / Йорта мѳчн җилән зѳвтәвидн » [Хальмг улсин йѳрәлмүд 2010, 95] («Сегодня мы в Зул все встречаем калмыцкий новый год, старый год овцы проводим, справим год обезьяны»). Поэтому, на наш взгляд, год верблюда как старый год и новый год как год верблюжонка, таким образом, становится универсальной формулой, обозначающей вообще смену одного года другим.
Во второй строфе стихотворения Н. Хатуев также упоминает обязательный ритуал зажжения лампад, моление Цзонхаве, прибавление возраста: «Зулдан герл асаҗ, / Зунква гегәнд шүтҗ, / Ачнр-зеенр насан авт-ха, / Әмәрн бат чиирг болтха» [Хатуhа 2020] («Зажжем лампады, / Помолимся Зункаве, / Пусть внукам прибавится год, / Пусть они будут здоровыми и крепкими»). В заключительной строфе по традиции поэт желает мира и изобилия людям: «Түңшх өвчн гем уга, / Түрх аюл зовлң уга, / Орсн җил орута болтха, / Олн әмтн хөвән эдлтхә» [Хатуhа 2020] («Пусть не беспокоят болезни, пусть не будет бедности и страданий, наступивший год пусть будет изобильным, / пусть все люди будут счастливы»).
Итак, из трех стихотворений современных калмыцких поэтов « Зул ѳдр » В. Нурова имеет семейный сюжет, автор так же, как и Э. Тепкенкиев и Н. Хатуев, в основном следует фольклорной традиции в описании ритуального праздника и формульных пожеланий. В стихотворении В. Нурова упоминается буддийский храм (сүм), в стихотворении Э. Тепкенкиева есть обращение к Будде, в стихотворении Н. Хатуева использована фольклорная метафора смены времен (верблюд и верблюжонок).
Заключение
Среди калмыцких народных благопожеланий календарные обрядовые пожелания занимают определенное место, связанное с образом жизни кочевников, их мировоззрением, верованиями, культурой, средой обитания, бытом. Наиболее известны йорялы-благопожелания: встреча зимы / Нового года (Зул), встреча весны – Цаhан Сар (Белый Месяц), реже – встреча лета Үрс Сар (Урюс Сар). В ряде фольклорных сборников разных лет опубликованы такие тексты в оригинале, иногда с параллельным русским переводом. Структура благопожеланий состоит из трех частей: обращение к адресату (причина), собственно пожелания, испрашивание милости у божеств. Ранее йорялы, исполняемые особенным речитативом, входили в ритуал того или иного праздника, со временем они стали исполняться и самостоятельно. Наряду с этими древними благопожеланиями продолжают создаваться и новые образцы календарных йорялов, представленные в сборниках и книгах. Возрождение буддизма в Калмыкии в конце прошлого столетия привело к функционированию как указанных фольклорных жанров, так и восстановлению обычаев и ритуалов данных праздников в той или иной степени, в том числе на республиканском уровне.
Атеистическая политика советского государства повлияла на авторские жанры благопожеланий по такой обрядовой теме в калмыцкой поэзии прошлого века. Немногие образцы появились в 1980–1990-х гг., адресованные в основном двум праздникам – Зул и Цаган Сар. Эта тенденция характерна и для начала нового столетия, несмотря на снятие запретов и возвращение культурного наследия. К жанру календарных благопожела-ний обычно обращались поэты старшего поколения как в прошлом, так и в настоящем. Их тексты, с одной стороны, по форме и содержанию приближены к фольклорной традиции, но в трансформированном виде, с другой стороны, являют сюжетный план, личностный дискурс, стилевое своеобразие. Есть традиционные маркеры Зула: почитание огня, солнца, семьи, культ предков, божеств, природы, молитва, а также прибавление возраста.
В данной статье рассмотрены авторские благопожелания калмыцких поэтов на праздник Зул (Новый год). В следующей статье объектом и предметом исследования станут йорялы-благопожелания в калмыцкой поэзии ХХ–начала XXI в., адресованные празднику Цаган Сар.
Список литературы Жанр благопожелания (й0рэл) в калмыцкой поэзии XX - начала XXI в.: праздник зул
- Бакаева Э. Зул или Новый год у калмыков // Мандала. 1993. № 2. С. 13-14.
- Бакаева Э.П. Буддизм в Калмыкии. Историко-этнографические очерки. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1994. 128 с.
- Бакаева Э.П. Буддизм в Калмыкии (первая половина XX - начало XXI в.). Историко-этнографическое исследование. Элиста: КалмНЦ РАН, 2022. 384 с.
- Бакаева Э.П. Календарные праздники калмыков: проблемы соотношения древних верований и ламаизма (XIX - начало XX вв.) // Вопросы истории ламаизма в Калмыкии: сб. статей / отв. ред. Н.Л. Жуковская. Элиста: КНИИИФЭ, 1987. С. 71-87.
- Басангова Т.Г. Вербальный компонент праздника Цаган Сар («Белый Месяц») у калмыков // Новые исследования Тувы. 2015. № 1. С. 50-59.
- Бардаханова С.С. Благопожелания в фольклоре монголоязычных народов // Мир Центральной Азии-3: сб. науч. ст. / науч. ред. Б.В. Базаров, отв. ред. Е.В. Сундуева. Улан-Удэ; Иркутск: Оттиск, 2012. С. 634-636.
- Бардаханова С.С. Малые жанры бурятского фольклора. Пословицы, загадки, благопожелания. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1982. 208 с.
- Болдырева И.М., Горяева Б.Б. Благопожелания-йорелы в устной традиции калмыков 1960-1970-х гг. // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 3 (69). Ч. 2. С. 14-17.
- Борджанова Т.Г. Магическая поэзия калмыков: исследование и материалы. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1999. 182 с.
- Борджанова Т.Г. Обрядовая поэзия калмыков (система жанров, поэтика). Элиста: Калм. кн. изд-во, 2007. 592 с.
- Борлыкова Б.Х., Меняев Б.В., Менгкай Б., Басанова Т.В. Фольклор хошутов Калмыкии и Синьцзяна: публикации и исследования // IV Международный научный форум «Сетевое востоковедение: культурные ценности Востока в орбите современных научных исследований», 17-18 декабря 2020 г.: материалы. Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2020. С. 213-215.
- Бурыкин А.А. Календарный 12-летний животный цикл в фольклоре калмыков и других народов Азии // Монголоведение. 2020. № 4. Т. 12. С. 679-691.
- ДампиловаЛ.С. Теоним Хайрхан в тюрко-монгольской мифологии // Томский журнал ЛИНГ и АНТР. 2020. № 2 (28). С. 118-126.
- Жижян Э. Краткий русско-калмыцкий словарь «Угин эрк». Элиста: Джан-гар, 1995. 190 с.
- Лиджиев М.А. Традиционный жанр йорял и его трансформация в калмыцкой поэзии // Молодежь в науке: сборник научных трудов молодых ученых. КИГИ РАН. Вып. I. Элиста: Джангар, 2004. С. 52-57.
- Лиджиев М.А., Очирова Н.Ч., Дякиева Б.Б., Шарапова Н.Н., Болдырева В.В. Репрезентация фольклорных традиций в современной калмыцкой литературе: на материале благопожеланий // Сборник научных трудов II Международной научной конференции «Социальные и культурные трансформации в контексте современного глобализма», посвященной 85-летию профессора Х.И. Ибрагимова (г. Грозный, 14-15 июня 2019 г.). Томск: СибИздатСервис, 2019. С. 635-640.
- Овалов Э.Б. Благопожелания (йорелы) - жанр калмыцкого фольклора: вопросы систематизации и публикации // Калмыцкий фольклор: проблемы издания. Элиста: Респуб. типогр. Комитета по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Совета Министров Калмыцкой АССР, 1985. С. 109-125.
- Осорин У. Мифы, легенды и предания синьцзянских ойратов и калмыков: сравнительно-сопоставительный анализ. Элиста: КИГИ РАН, 2015. 188 с.
- Очирова Э.Б. Йорял в сборнике М. Хонинова «Байрин дуд» // Вестник КИГИ РАН. 2011. № 2. С. 142-145.
- Петрова М.П. Мир поэзии Риммы Ханиновой // Теегин герл. 2002. № 6. С. 108-120.
- Сампилдэндэв Х. Жанр благопожеланий в монгольском фольклоре // Специфика жанров в литературах Центральной и Восточной Азии. Современность и классическое наследие. М.: Наука, 1985. С. 54-67.
- Сарангаева Ж.Н. Лингвокультурологический и лингвопереводческий аспекты английского перевода (на материале стихотворения Риммы Ханиновой «Зул») // Вестник Калмыцкого университета. 2022. № 4 (56). С. 124-130.
- Хабунова Е.Э. Калмыцкая свадебная обрядовая поэзия. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1998. 224 с.
- (а) Ханинова Р.М. Жанр йорял в калмыцкой поэзии ХХ века (по материалам газетной периодики 1930-х-1940-х гг.) // Oriental Studies. 2022. № 2. Т. 15. С. 397-413.
- (b) Ханинова Р.М. Жанр йорял в лирике Санджи Каляева // Актуальные проблемы диалектологии языков народов России. Сборник материалов XIX Международной научной конференции (г. Уфа, 2-3 июня 2022 г.). Уфа: Институт истории, языка и литературы УФИЦ РАН, 2022. С. 340-342.
- (а) Ханинова Р.М., Очирова Э.Б. Йорял в стихотворении М. Хонинова «Три ответа» // Сборник научных трудов молодых ученых, аспирантов и студентов Калмыцкого государственного университета. Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2011. С. 84-86.
- (b) Ханинова Р.М., Очирова Э.Б. Йорял новорожденному в поэме Михаила Хонинова «Сказание о калмычке» // Современная филология: теория и практика: материалы VI международной научно-практической конференции, г. Москва, 30-31 декабря 2011 г. М.: Изд-во «Спецкнига», 2011. С. 368-372.
- Хорлоо П. Монгол ардын ероал. Улаанбаатар: Шинжлэх Ухааны Акаде-мийн хэвлэл, 1969. 150 с.