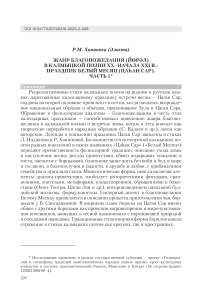Жанр благопожелания (Йѳрәл) в калмыцкой поэзии XX-начала XXI в.: праздник белый месяц (Цаһан Сар). Часть 1
Автор: Ханинова Р.М.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 2 (65), 2023 года.
Бесплатный доступ
Репрезентативные стихи калмыцких поэтов на родном и русском языках, адресованные календарному празднику встречи весны - Цаган Сар, созданы во второй половине прошлого столетия, когда началось возрождение национальных обрядов и обычаев, празднование Зула и Цаган Сара. Обращение к фольклорным аналогам - благопожеланиям в честь этих календарных праздников - способствовало появлению жанра благопожелания в калмыцкой поэзии о встречах зимы, весны и лета вначале как творческие переработки народных образцов (С. Каляев и др.), затем как авторские. Легенды о появлении праздника Цаган Сар заявлены в стихах Л. Инджиева и Р. Ханиновой. Большинство стихотворений калмыцких поэтов разных поколений в самих названиях «Цайан Сар» («Белый Месяц») передают преемственность фольклорной традиции: описание ухода зимы и наступление весны, ритуал приветствия, обмен подарками, хождение в гости, чаепитие с борцыками, благопожелание жить без войн и бед, в мире и согласии, в благополучии и радости, в дружбе и любви, с прибавлением семейства и приплода скота. Монологическая форма, иногда включая элементы диалога-приветствия, изобилует риторическими фигурами, сравнениями, эпитетами, метафорами, олицетворением, обращениями к божествам (Окон-Тенгри, Цаган Эзн и др.), воспроизведением начальной буддийской молитвы, формульностью. Гендерный аспект в благопожелании Белому Месяцу проявляется в описании процесса приготовления чая, борцыков у Б. Сангаджиевой. В широком плане йорялы на Цаган Сар имеют общее с другими йорялами как проекция мировоззрения и мирочувствования кочевников, живущих в тесной взаимосвязи с окружающей природой и соседними народами. Традиционная стихотворная форма йорялов нашла отражение в стихах калмыцких поэтов как кратких, так и пространных.
Календарные обрядовые благопожелания, калмыцкие народные праздники, белый месяц, калмыцкая поэзия, фольклорная традиция, трансформация и синтез жанров
Короткий адрес: https://sciup.org/149143522
IDR: 149143522 | DOI: 10.54770/20729316-2023-2-228
Текст научной статьи Жанр благопожелания (Йѳрәл) в калмыцкой поэзии XX-начала XXI в.: праздник белый месяц (Цаһан Сар). Часть 1
Калмыцкий календарный праздник Белый Месяц (калм. Цаhан Сар) отмечают по лунному календарю в первый весенний месяц, когда закончится зима, в конце февраля. (У других монголоязычных народов Цаган – это встреча Нового года). Название праздника связывают с белым цветом молочной пищи (молока, сливок, масла, сметаны, творога), вдоволь появляющейся в этот период после зимовки. Белый цвет в символике монголоязычных народов является сакральным, определяя и подношение молочной пищей (калм. цаhан идән) духам предков и божествам. Сам праздник длится целый месяц, но главные торжества приходятся на первую неделю, определяя молебны, основные обряды подношения, жертвоприношения пищей, кропление водкой, чаем, кумысом, хождение в гости, обмен подарками.
О происхождении праздника есть различные версии. Одна из них обусловлена победой Будды на пятнадцатый день в диспуте с шестью неверными учителями [Семь звезд 2004, 76]. С женскими божествами – Зеленая Тара (калм. Ноhан Дәрк Гегән), Окон Тенгри (калм. Окн-Теңгр) – существует несколько легенд, объясняющих появление праздника как освобождение людей от мангасов, мифических чудовищ [Хальмг туульс 1972; Семь звезд 2004; Осорин 2015; Мифы, легенды 2017]. Имена богинь фигурируют в благопожеланиях Цаган Сару.
Одну версию из «“желтой истории” (“Шара туужн”) Дайни-Кюрюла, написанной анонимным автором почти восемьсот лет назад», приводит народный писатель Калмыкии Алексей Бадмаев в статье «Возвращение Окон-Тенгри и наступление Цаган Сара»: батыру Дайни-Кюрюлу удалось спасти свое племя от гибели после стихийных бедствий [Бадмаев 1996, 3]. Это было в добуддийский период, добавляет писатель. Вторая известная версия об Окон-Тенгри, которую он привел в статье, относится уже к буддийскому периоду. Окон-Тенгри пожертвовала младенцем, которого родила от хана мангасов: по предсказанию богов, этот младенец мог погубить человечество.
В разных вариантах мать убивает ребенка: а) в поединке с ним, б) разрывает и съедает его. В последнем случае, возвращаясь домой: «Зууран мѳрн деер цаhан тѳр бәрнә. Тер шулмас үүдсн нилхән hазр деер хайҗ бол-шгон учрар эврән бийнь амарн таслад идчксмн гиҗ келдг билә. Бурхна зургт Окн Теңгрин амнднь тер нилхнь йовна. Тиигҗ хорта шулмиг дар-лhнд бурхна ном чинрән хальдасмн» [Овшин 1996, 4] («По пути на лошади совершила [она] доброе дело. Поскольку нельзя было оставить на земле рожденного от шулмуса младенца, она сама съела его, так говорили. На буддийской танке во рту у Окон-Тенгри находится младенец. Так буддийское учение оказало влияние на уничтожение злобного шулмуса». Здесь и далее смысловой перевод автора статьи).
Ср. Ц. Менке-Буйни в легенде о празднике Цаган Сар у ойратов Синьцзяна объясняет, почему люди приветствовали друг друга, не пожимая ладони, как обычно, а двумя руками пожимали руку другому в середине предплечья: после убийства мангаса Окон-Тенгри не вымыла руки, поэто- му она прячет кисти своих рук в рукавах [Менке-Буйни 1996, 2]. Мангас (калм. маңhс) – сказочное чудовище, шулмус (калм. шулм) – черт, бес, дьявол, злой дух [Калмыцко-русский словарь 1977, 342; 683].
У народного поэта Калмыкии Лиджи Инджиева стихотворение на тему легенды о Цаган Сар являет еще одну версию, вероятно, авторскую. Героиню по имени Цаган, одну из ойратских богинь, враги, захватив в плен, заточили в высокой башне. Она же волшебством открыла железную темницу, обернувшись птицей, и улетела, вернулась на родную землю. После этого стало светить солнце, быстро растаяли снега, потекла вода, тысячи разных птиц запели, народ возблагодарил Цаган, а та благословила людей. Боги-учителя в честь этой богини назвали праздник Цаган Сар, т.е. Белый Месяц. «Хаврин бурхн гиҗ, / Хальмг улс Цаhаг оошацхана, / Тегәд җил болhн / Терүг халун байслhар тосцхана» [Инҗин 1993, 3] («Назвав богиней весны, калмыки внимают Цаган, каждый год с радостью горячо встречают ее»).
Благопожелания-йорялы, посвященные этому празднику, записанные и опубликованные писателями и учеными в разное время, передают в краткой или пространной форме отношение людей к Окон-Тенгри, к смене времен года, пробуждению природы, к благополучному выходу из долгой зимовки с сохранением поголовья скота, без болезней и бескормицы, в целости и сохранности, с пожеланиями мира, благоденствия, добра [Родники народной мудрости 1984], [Әмд булг 1993], [Обрядовый фольклор калмыков 1993], [Цацлын дееҗ 1997], [Хальмг улсин йѳрәлмүд 2010; и др.].
О праздновании Цаган Сара упоминается в эпосе «Джангар», легендах.
Ритуал Цаган Сар показан в ряде работ современных исследователей [Бакаева 1994; Омакаева 1998; Борджанова 1999; и др.], а интересующий нас вербальный компонент праздника подробно рассмотрен в статье Т.Г. Басанговой [Басангова 2015].
Благопожелание этому празднику в калмыцкой поэзии не было объектом и предметом исследования, поэтому изучение фольклорной традиции этого жанра в лирике калмыцких поэтов важно в аспекте связи устного народного творчества и литературы, возрождения обрядов и обычаев, верований в новых условиях, выражения мировоззрения и мирочувствова-ния номадов.
Благопожелания празднику Цаhан Сар в калмыцкой поэзии ХХ в.
Обращение калмыцких поэтов к фольклорной традиции йоряла на празднование Цаган Сара, как и к йорялу на праздновании Зула, относится ко второй половине прошлого столетия. Первые образцы появились в начале 1960-х гг., после возвращения народа из ссылки (1943–1957 гг.), на волне возрождения после сталинских репрессий. Поначалу они представляли собой творчески переработанные поэтами народные благопо-желания, о чем сообщалось, например, в публикации Санджи Каляевым трех калмыцких йорялов («Каляев Санҗин цуглулҗ авад, ясҗ hарhҗ бәәх йѳрәлмүдәс барлгдҗ бәәнә»): «Шин хувц ѳмссн кү йѳрәлhн» («Благопо-желание человеку в новой одежде»), «Баhчудин нәр йѳрәлhн» («Благопо-желание молодежной вечеринке»), «Хол hазрт йовҗасн улс йѳрәдг йѳрәл» («Благопожелание отправляющимся в долгий путь») [Калян 1962, 59].
Первый йорял имеет отношение и к ритуалу календарного обряда встречи весны, поскольку полагалось дарить друг другу праздничные подарки («цаhана белг»), в том числе новой одеждой. «Үмсгсн хувцнтн / Ѳлзәтә, цаhан хаалhта болҗ, / Эднь – элҗ, / Эзнь мѳңкрҗ, / Үүнәс үлү сән-сәәхн / Олн зах-хувц / Үмсҗ-эләҗ йовх болтха!» [Калян 1962, 59] («Пусть вам в надетой одежде предстоит счастливый, белый путь, пусть ткань износится, а владелец будет вечным, пусть у него будет еще лучше одежда, пусть, надевая-изнашивая ее, идет по жизни!»).
Ср. народный «Шин хувцна йѳрәл» («Благопожелание новой одежде»): «Ѳмссн хувцнчн / Чамд ѳлзәтә цаhан хаалhта болҗ, / Эднь күүрг болҗ, / Шулун элҗ, / Эзнәннь наснь ут болҗ, / Олыг эләҗ, / Сәәнәс сән хувц ѳмсч, / Сәәхн менд йовҗ <…> Сән-сәәхн йовх бол! / Йѳрәл бүттхә!» [Хальмг улсин йѳрәлмүд 2010, 14]. Здесь те же пожелания хозяину долголетия в его счастливом белом пути, а его одежде быстрее изнашиваться, чтобы ее всегда было больше и лучше, а владельцу прибавлялось здоровья и благополучия. Завершается текст фольклорной формулой: «Йѳрәл бүт-тхә!» («Да исполнится благопожелание!»). См. также «Ѳмскүлин йѳрәл» («Благопожелание подаренной одежде») [Хальмг улсин йѳрәлмүд 2010, 78] с теми же формулами.
Среди других каляевских благопожеланий есть «Цаhанла тәвдг йѳрәл» («Благопожелание на праздник Цаган», 1980), имеющий непосредственное отношение к этому празднику. Текст структурирован шестью четверостишиями, два последних отделены от предыдущих строф. Основной текст соответствует традиционному йорялу с пожеланием встретить праздник после благополучного выхода из зимы живыми-здоровыми, с сохраненным поголовьем скота, без бескормицы и страданий, чтобы жизнь стала еще лучше, изобильнее, радостнее. «Цѳѳкн мал бүрн-бүтн, / Цѳвдл әмәрн, эрүл-менд, / Зуд-турхн yгahap, / Зовлң-зѳвүр yгahap / Эн үвләс менд hа-рад, / Эндр Цаhаhан кеҗәх, / Эркн байрта бәәх... / Эңкр нутгини хормад» [Калян 1980, 312].
Ср. с калмыцкой пословицей: «Зудас малан харс, зовлңгас бийән зәәлүл. Защищай скот от бескормицы, сам избегай страданий» [Калмыцко-русский словарь 1977, 255]. У ойратов Синьцзяна в «Цаhана йѳрәл» также вначале звучат пожелания людям сто лет отмечать Цаган, сто лет кормиться скоту осенней травой, избежав зуда – бескормицы, людям почитать старших, растить детей, жить всем в мире и согласии, с каждым годом еще лучше: «Зун җилин цаhа кеҗ, / Зун намрин тәрә идҗ, / Зуурд уга амулң эдлҗ…» [Цацлын дееҗ 1997, 48].
Формула «Эн үвләс менд hарад» («Благополучно выйдя из этой зимы») является начальной в обмене приветствиями при встрече: «Эн үвләс менд hарвта?» («Благополучно ли перезимовали?») – «Менде hарвдн!» («Благополучно перезимовали!»). Ср. фрагмент «Цаhана йѳрәл»: «Нә, ода та- нахн / Эн үвлин зудас / Зовлң, турл уга, / Му күүкдтә-шухдтаhан, / мал-та-хартаhан / Сән-сәәхн hарвта? / – Һарва, hарва!» [Хальмг улсин йѳрәл-мүд 2010, 313] («Ну, как вы из этой зимней бескормицы без страданий-потерь, с детьми, со скотом вышли благополучно? – букв. Вышли, вышли!»).
С. Каляев завершает стихотворение пожеланием быстрого таяния снегов, пополнения воды, потеплением погоды, зеленой травы, а также пожеланием, чтобы бараньи рога, ножки ягнят не ломались, чтобы овец было больше, мясо жирнее, чтобы [скот] был в полном количестве: «Хуцин ѳвр хуhрл уга, / Хурhна шиир келтрл уга, / Тонь – күцц, том тарhн, / Тогс бүрн болтха...» [Калян 1980, 313].
Ср. те же пожелания сохранности баранов и ягнят в «Цаhана йѳрәл»: «Хуцин ѳвр хуhрл уга, / Хурhна турун келтрл уга» [Хальмг улсин йѳрәл-мүд 2010, 71].
Приглашение-«цаhалх» (цагалх) у С. Каляева также формульное: «Дүү-гҗ-дүрклҗ цуhарн / Дембрлтә Цаhа кех болыя» [Калян 1980, 313] («Все вместе шумно, весело собравшись, торжественно отпразднуем Цаган»).
Стихотворение народного поэта Калмыкии Владимира Нурова «Цаhан Сар» («Белый Месяц», 1976) состоит из традиционных катренов. В семи строфах поэт описывает встречу весны, называя Цаган Сар счастливым временем, началом теплой весны: «Цаhан Сар – цагин хѳвтәнь! / Хаврин ур үңгәр эклнә» [Нуура 1976, 54]. В той же первой строфе автор указывает на ритуал почетного подношения («идәни дееҗ») калмыцким чаем, когда каждая семья приглашает в гости: «Идәни дееҗ – цәәhән чанад, / Ирхим ѳрк болhн эрнә» [Нуура 1976, 54].
Временная дистанция прошлого подтверждается в тексте ритуальным приготовлением молочной водки (калм. әрк), которую спозаранку готовит мать для бедных и богатых. У калмыков есть йорял кропления водкой («Долан цацлын йѳрәл» = «Благопожелание семи кроплениям», [Хальмг улсин йѳрәлмүд 2010, 41–42], у ойратов Синьцзяна: «Әрк цацх йѳрәл» («Благопожелание кроплению водкой») [Цацлын дееҗ 1997, 49–50].
Приготовление борцыков (калм. боорцг) накануне праздника показано у В. Нурова через описание фигурных изделий из теста, зажаренных в масле: «Хуц, темә, мѳр унулад, / Хуҗр болм йѳрәл тәвнә. / “Зе бәрсн” хѳвтә зеенр, / Зелләд деегшән hалу тәвнә» [Нуура 1976, 54] («Барану, верблюду, лошади произносится благопожелание. Счастливые внуки пускают вверх гусей»).
В русском правописании слово «боорцг» передается по-разному: бор-цык, борцок, борцуки, борцаг и др. «День непосредственно перед началом Белого месяца назывался “день, когда делают борцоки”» [Басангова 2015, 51]. Эти мучные изделия делили на три группы: «для дееджи (первая порция – бурханам), для подарков родным во время визитов и для праздничного угощения» [Басангова 2015, 52].
Борцыки различной формы, с символическим призыванием весны, связаны с кочевой и скотоводческой деятельностью калмыков, с обрядами и фольклором, о чем подробно рассказал писатель С. Каляев в беседе с лингвистом Э. Бардаевым. См. статью «Цаhана боорцг» («Борцыки на праздник Цаган») [Бардан 1996, 3].
В стихотворении В. Нурова названы, например, такие виды, как «хуцын толhа» («баранья голова»), «темән» («верблюд»), «мѳр» («мѳрн» = «лошадь», иначе «кит», скрученные жгуты, напоминающие конские кишки), символизирующие пожелание увеличения приплода, а также изобилия в еде, «hалу» («hалун»=«гусь»), символизирующий приход весны подобно мучным испеченным «жаворонкам» в русском призывании весны. По поверьям калмыков, когда кричит гусь, значит, пришла весна, что отражено в пословицах и поговорках.
«Борцок хуцын толһа (голова барана) выступал в качестве жертвоприношения в переходных обрядах, заменяя настоящую баранью голову» [Басангова 2015, 53]. Метафорическая загадка об ухе отсылает к борцы-ку: « дер деер гүрмр боорцг . На подушке скрученный борцаг ( чикн ухо)» [Калмыцко-русский словарь 1977, 109] (Здесь и далее выделения в оригинале, если не указано иное).
В ритуал праздника входит одаривание деньгами, в частности монетами. Об этом у В. Нурова: «Мѳңк җирhл үзтхә гиҗ, / Мѳңг тәвҗ ээҗнр йѳрәнә. / Цаhан мѳңгнәс дуута инәдн, / Цасн уснас hарсн болна» [Нуура 1976, 55] («Чтобы [внуки] увидели лучшую жизнь, бабушки благословляют их деньгами. Звонче белых монет смеется весенняя вода»). «Мѳң-гн» означает серебро, а также деньги; «цаhан мѳңгн» – серебряные деньги, серебро. Но в данном контексте речь идет о символическом одаривании мелкими монетами белого цвета.
Ср. «Борцоки таслмур» (букв. – рвущиеся) были похожи своей формой на медные и серебряные монеты, которые служили оберегом для путника. В его адрес произносили благопожелание: «Цаһан мөңгн әдл цевр болҗ, Улан мөнгн әдл сәәхн болҗ йов! Будь чистым, как белая монета, Будь прекрасным, как красная монета» [Басангова 2015, 53].
Упоминание в конце стихотворения В. Нурова имени «Цаhан Эзн» (букв. Белый Хозяин) вводит имя божества семейного благополучия, счастья, богатства, хозяина всей земли (другие именования «Цаhан Ѳвгн», «Цаhан Аав», «Делкән Цаhан Ѳвгн» – Белый Старец, Хозяин Вселенной Белый Старец), который рад был увидеть счастливых людей. Картина весенней степи дополнена у поэта выходом суслика из норы, а также обрядом кропления земли-воды – цацал (калм. «цацл»). Этих дополнений (Цаhан Эзн, цацл) нет в русском переводе Ю. Нейман: «Белый месяц!.. Всех добрее ты! / Ты – исток душевной чистоты!» [Нуров 1981, 61].
Ср. в народном йоряле Цаган Сару: «Цаhаhан кеhәд, / Улан цәәhәрн ур-дееҗән бәрәд, / Цаhан әркәрн цацл цацад…» [Хальмг улсин йѳрәлмүд 2010, 75] («Будем праздновать Цаган, сделав подношение красным чаем, белой водкой – кропление»). В «Хотын йѳрәл» («Благопожелание пище») перечисляются Окн-Теңгр, Делкән Цаhан Ѳвгн, все божества, которым делается подношение и кропление пищей [Хальмг улсин йѳрәлмүд 2010, 87].
Близко по содержанию нуровскому стихотворению стихотворение народного писателя Калмыкии Анджи Тачиева «Цаhан Сар» («Белый Месяц», 1980). Оно состоит из двух частей, не имеет деления на строфы, есть частичная «лесенка». В первой части дана картина весенней степи с выхо- дом сусликов из нор, прилетом птиц, таянием снегов, журчанием ручьев, теплыми днями. Прием олицетворения использован в прилете Цаган Сара в виде птицы, в оповещении сусликом, что наступил Цаган Сар.
Во второй части описано, как меняется покрывало степи, как степь наполняется голосами телят и ягнят. Как люди, избежав зуда – падежа скота из-за бескормицы во время зимнего ненастья, воспрянули под весенним теплом, как вкусили борцыков на Цаган, стали радостно и весело праздновать: «Хамг әмтн зудас гетләд, / Хаврин нарна тольд әәврлв. / Цаhанд буслhсн боорцг амсад, / Цугтан байрта-бахмжта нәәрлв» [Тачин 1980, 102]. Поэт ввел диалог приветствия: «– Менд! Мендвт! / – Менд hарвт? / – Һарв, / менд!» [Тачин 1980, 102] («Здравствуй! Здравствуйте! Благополучно вышли [из зимовки]? – Вышли, благополучно!»). После вербального приветствия следует рукопожатие без прикосновения ладонями посредством рукавов, прикосновение щеками: «Һаран ѳглдв. / Ханцан нухслад, / Халхан харhулцхав» [Тачин 1980, 102]. Затем звучит приглашение зайти в дом, отведать чай на Цаган.
Помимо обмена рукопожатиями поэт ввел еще ритуальную деталь – обмен подарками («цаhана белг»): «Цаhана белг / Цугтаднь күртнә» [Та-чин 1980, 102] («Всем достается праздничный подарок»). Ср. в «Цаhана Сарин йѳрәл»: «Белгән хоорндан дольлцҗ, / Боорцг, целвгәрн гиичлүлҗ…» [Хальмг улсин йѳрәлмүд 2010, 96] («Обменявшись подарками, одарив борцыками, круглыми лепешками целвг…»).
К этому подарку относится связка борцыков с символическим значением. Хотя в тачиевском тексте нет уточнения, имеются ввиду: «один “хав-тха” или “целвг”, один “джола”, один “мошкмр”, три “шошхр”, один “кит”, шесть “овртэ тогшн” и один “хуц”» [Бакаева 1994, 62]. Первый в форме круглой лепешки обозначал солнце, второй – в виде конских поводьев обозначал пожелание долгой жизни и призывание удачи, третий – в форме закрученной овечьей кишки символизировал пожелание жить дружной семьей, четвертый – в форме штыка означал готовность защиты от врагов, пятый – в форме части конских внутренностей символизировал пожелание изобилия в еде, шестой – в виде рогатого калача означал пожелание прироста крупного рогатого скота, седьмой – в форме бараньей головы символизировал пожелание приплода этого вида скота.
В статье Э. Бардаева указаны два типа гостинца на Цаган: по размерам большой («ик герә белг» для взрослых) и маленький («бичкн герә белг» для детей), но по количеству и форме одинаковые борцыки: «нег “хуц”, hурвн “мендин белг”, нет “кит”, зурhан “тоhш”, нег “целвг”, нег “шовун”, нег “темән”…(один “баран”, три “подарок на цаган”, один “конь”, шесть калачей (“тогш”), одна круглая лепешка “целвг”, одна “птица”, один “верблюд”). Борцык тогш (“тоhш”) в форме калача напоминал загон для скота, символизируя пожелание увеличения приплода скота. Форма круга как бы говорит о том, что жизнь нескончаема: “Җирhл чилшго юмн гиҗәх зѳвтә”» [Бардан 1996, 3]. Есть калмыцкая поговорка: «Тоhшта күүкд ѳкәр, тоста hуйр әмтәхн. Ребенок с кренделем мил, пышка с маслом сладка» [Калмыцко-русский словарь 1977, 501]. Борцык «мендин белг» (дающий- ся при приветствии на Цаган) имел вид калача с двумя кончиками-остриями, означавший по пословице: «Чи-бидн хойр толhа болв чигн әмн негн, кезәд нег-негнәсн салшго садн» [Бардан 1996, 3] («Хотя у нас два острия, но душа одна, мы родня, никогда не расстанемся»). Всего в статье названы и объяснены С. Каляевым двенадцать видов борцыков.
В стихотворении А. Тачиева также метафорически обозначается обряд жертвоприношения – цацал (кропление): «Цагин булг / Цацлд хүврнә» [Тачин 1980, 102] («Родник времени меняется при кроплении»). Современная тогда деталь привнесена упоминанием сакмана, когда во время окота овец на помощь чабанам приезжали ученики, в том числе и студенты, ныне эта молодежь не привлекается к такому труду, поскольку снизилось поголовье овец. Заключительная картина весенней степи дополняется свистом сусликов и ароматом цветущих тюльпанов.
В русском переводе Д. Долинского нет таких деталей, как рукопожатие, сакман, суслики, тюльпаны, есть собственное заключительное пожелание: «Я желаю всем юным и старым / И в степи, и повсюду в стране: / Пусть цветет ваша жизнь Цаган Саром!.. / Пожелайте того же и мне!» [Тачиев 1983, 28]. Здесь нарушение канона благопожелания, всегда обращенного к кому-то, но не к себе, т.е. переводчик по незнанию допустил неточность.
Название стихотворения Санжары Байдыева «Цаhана йѳрәлмүд» («Благопожелания на Цаган Сар», 1995) отвечают его объему – 12 катренов. Первая строка – начало буддийской мантры: «Ом, маани падмехум!» [Байдын 1995, 4]. «Ом ма ни пад ме хум (санскр.) – магич. мантра, состоящая из шести самостоятельных слогов, самая популярная во всех буддийских странах. <…> “Ом, ты сокровище на лотосе”. <…> мантра адресована не любому будд. божеству, а только бодхисаттве Авалокитешвара , персонификации сострадания ко всему живому в нравст. и филос. системе буддизма» [Буддизм 1992, 198].
Ср. в «Цаhана йѳрәл» завершающая молитвенная формула: «Ом-ма-ни-бад-ма-хум!» [Хальмг улсин йѳрәлмүд 2010, 61].
В первой же строфе С. Байдыева тема праздника открывается традиционной формулой, благополучно ли перезимовали, с упоминанием божественной милости: «Отг-нутга хальмгуд, / Сәксн бурхнтн евәҗ, / Сән үвлзҗ hарцхавт?» [Байдын 1995, 4].
Цаган Сар отмечается как всеобщий народный праздник, как семейный праздник. У С. Байдыева обращение носит всеобщий характер. Традиционный йорял имеет монологический характер с подразумеваемым диалогом. Поэт также после обращения к землякам приглашает начать праздновать, сесть дружеским кругом, петь, танцевать, радуясь. В третьей строфе он напомнил, краснокисточные калмыки, сварив калмыцкий чай, должны совершить подношение божествам-святыням: «Улан залата хальмг / Улан цәәhән буслhад, / Деер залата шүтәндән / Дееҗән ѳргҗ бәртн» [Бай-дын 1995, 4]. Использованы ключевые слова: «улан цә» («красный чай»), «дееҗ» («подношение»), «шүтән» («божества, святыни»). Введение исторического маркера («улан задата хальмг» – красная кисточка на головном уборе калмыков) связывает прошлое и настоящее в праздновании весны.
Ср. завершающее благопожелание в «Цаhан Сарин йѳрәл»: «Улан залата хальмгин нернь / Уул мет дүңгәтхә!» [Хальмг улсин йѳрәлмүд 2010, 146] («Пусть имя краснокисточных калмыков возвышается, словно горы!»).
Также поэт описал принятый этикет рукопожатия в эти дни, когда приветствуют, пожимая не ладони, а середину предплечья руки («Һаран тоха күртлән, / Һаңхҗ авлцад мендлий» [Байдын 1995, 4]. Из множества видов праздничных борцыков названы два – «хорха» (букв. «насекомые») и «хуц» («баранья голова»). «Хорха боорцг» делают в виде маленьких шариков из теста, символизирующих пожелание иметь много детей и скота. «Хорха, хуц боорцган / Хортан дүрҗ авад, / Хотнас хотнур довтлҗ, / Хоома уга җирhий» [Байдын 1995, 4] («Положив в карман борцыки, из хотона в хотон добираясь на конях, живите без лени»). Включение слова «хотон» (кочевье из нескольких кибиток), конное передвижение являют исторический экскурс: в дни праздника посещали ближних и дальних родственников с борцыками-подарками. Поэт также предлагает со светлыми помыслами совершить обряды кропления, как положено («Цаhан седкләр бәәҗ, / Цацлан ѳѳдән цаций»), не предаваться печали, жить по правде вопреки смерти. Он призывает вспомнить забытые обычаи, вернуться к ним, величая, не позорить имя калмыка, прославить потомков ойратов, жить в мире и согласии, встретить весну, сохранить семью, вырастить скот. Завершает свое обращение С. Байдыев благопожеланием: «Сансн санантн күцҗ, / Сәксн бурхн ѳршәтхә, / Җил болhн Цаhаhан / Җирhәд сәәхн кеҗәй» [Байдын 1995, 4] («Пусть исполнится все задуманное, пусть будет к вам милостив бурхан, год от года живите в благополучии, празднуя Цаган»).
У Тимофея Бембеева стихотворение «Цаhан Сар» (1996) по сравнению со стихами других поэтов, рассмотренных нами, являет общую картину наступления весны, обновления природы (степной пейзаж), укрепления физического здоровья человека. В первой строке появляется ключевое словосочетание «Цаhан cap»: весна прогнала зиму («Хавр үвлиг зулhсн»), все вокруг ожило, суслик свистом оповестил всех, что бескормица и холода закончились («Зуд, киитн чилсиг / Зурмн ишкрҗ зәңглнә»), запели, радуясь, птицы [Бембин 1996, 18].
Ср. в «Цаhана йѳрәл» указываются ключевые слова «үвл» (зима), «хавр» (весна), «зуд» (бескормица), «киитн» (холод), «зурмн» (суслик). «Эндр ѳдр / Цаhан Сарин нег шин. / Хаврин түрүн эн ѳдр / Нүкнд ичәндән кевтсн зурмн / Эндр сүүҗән сольдг, / Арвн тавнла hазаран hардг» [Хальмг улсин йѳрәлмүд 2010, 13] («Сегодня первый день Белого Месяца. Весной суслик, находившийся в зимней спячке в своей норке, вышел наружу на пятнадцатый день»). «Нә, ода танахн / Эн үвлин зудас / Зовлң, турл уга / Му күүкдтәhән-шухдтаhан, / Малта-хартаhан / Сән сәәхн hарвта?» [Халь-мг улсин йѳрәлмүд 2010, 13] («Ну, вы сумели благополучно выйти из зимней бескормицы без страданий-потерь со своими детьми, со скотом?»). Обращаясь к людям, Т. Бембеев высказал пожелание, чтобы ссоры, раздоры, трудности исчезли, чтобы смех, шутки, подтрунивание служили лю- дям, чтобы люди, не жалея себя, танцевали, пели, праздновали: «Уурлж, даңгдҗ, керлдх / Уга болҗ әрлтхә. / Инәлдх, шоглх, дѳглдх / Икд, баhд церглтхә» [Бембин 1996, 18]. Здесь нет описания самого праздничного ритуала, его атрибутов (подношение, угощение, подарки и проч.), только в конце стихотворения звучит благопожелание.
Гендерный аспектв благопожелании калмыцких поэтов празднику Цаган Сар
Размышляя о национальном календарном празднике, народный поэт Калмыкии Бося Сангаджиева задалась вопросом, что входит в понятие «Цаhан сар»: «“Цаhан сар” гихлә» («Когда скажешь “Цаган сар”…») в стихотворении «Цаhан сар» («Белый Месяц», 1986). Эта риторическая фигура стала рефреном всего неразделенного строфами текста, повторяясь четырежды. Начало стихотворения, как у А. Тачиева, воспроизводит сезонный пейзаж, когда растаяли снег и лед, а зеленая густая трава, кажется, играет с твоими ногами. Следующие строки обращены непосредственно к описанию праздника: стар и млад, нарядившись, радуясь благополучному выходу из зимы («Үвләс менд hарсндан»), поздравляют друг друга, произносят благопожелания («Эрүл-мендинь йѳрәнә»).
Указывая на ритуал приготовления к празднику борцыков, автор актуализировал их приятный аромат, упоминаемый в йорялах, выделил форму «целвг» – круглой лепешки, символизирующей солнце как источник жизни и круг как гармонию: «Боорцг, целвгин үнр / Басл сәәхн, соньн» [Саңhҗин 1986, 41].
Если у В. Нурова бабушки, благословляя, дарят внукам монеты, то у Б. Сангаджиевой вначале пригоршня мелких белых монет позвякивает в завязанном уголке носового платка: «Һap арчдг альчурин / Һалта-барта үзүрт / Үүрмг цаhан мѳңгн / Атх-атхар жиңннә» [Саңhҗин 1986, 41]. И, конечно, в гендерном плане – это старые женщины приготовили свои подарки.
Ср. в другом стихотворении Б. Сангаджиевой «Цаhан мѳңгн белг» («Подарок серебряными монетами», 1996), в котором женщина получила в подарок от подруг мелкие белые монеты в платочке в знак доброжелательного отношения. В самом тексте нет упоминания на какой праздник приходится такой символический подарок, можно предположить, что это Цаган Сар, так как стихотворение было опубликовано в газете 29 февраля, в дни этого праздника [Саңhҗин 1996, 4].
Далее в сангаджиевском стихотворении «Цаhан сар» упоминается такой подарок, как новая одежда, которая после того, как ее встряхнули, кладется на правое плечо даруемому: «Шин ѳмскүл-бүшмүд / Сәрвкәд ба-рун ээмд / Цаhан сәәхн седкләр / Дахлдҗ сулдан бууна» [Саңhҗин 1986, 41]. Это могут быть, например, рубашка, платье для мужчин или женщин, взрослых и детей.
Картина праздника дополнена участием молодежи, которая играет на домбре и скрипке, переглядывается, перешептывается, надеется обзавестись собственной семьей. Панорама праздника переносится в степь, где пасется скот четырех видов, где их привечает теплый весенний ветер. Затем возвращается праздник в дом, где посуда полнится молоком-маслом, где крепкий калмыцкий чай в каждой пиале золотится: «Үcн-тосн элвҗҗ / Эргнд савар дүүрнә, / Агта хальмг цәнь / Aah болhнд нартна» [Саңhҗин 1986, 42]. Эти строки формульные для любого благопожелания. В заключительных строках автор, возвращаясь к весеннему пейзажу, подчеркнул обновление природы: «Шинрсн тег шуугна» [Саңhҗин 1986, 42] («Шумит обновленная степь»).
Другое стихотворение Б. Сангаджиевой «Боорцг» («Борцуки», 1969) прямо не обозначает отношение к празднику Цаган Сар, но в контексте с ним связано, поскольку адресовано борцыкам, обязательному ритуальному кушанью на Цаган. Сюжет гостеприимства традиционно начинается с приготовления крепкого калмыцкого чая, потому что «хотын цуг де-еҗнь – / Хальмг цә-ээҗнь» [Саңhҗин 1969, 37] («Калмыцкий чай – мать почетного угощения / подношения»). Такое определение не раз встречается в стихах калмыцких поэтов.
Автор задается риторическим вопросом, разве могут рядом с калмыцким чаем отсутствовать борцыки: «Болв, цәәhин хаҗуд / Боорцг дутаҗ болдви?» [Саңhҗин 1969, 37]. Ср. в переводе А. Наймана эта формула и риторическая фигура опущены [Сангаджиева 1971, 5]. Процесс жарки мучных изделий в масле дает сравнение борцыков с солнцем («Боорцг биш, тоснд / Бүкл нарн деврнә» = «Не борцык, а само солнце в масле кипит»), в то же время остается неясным, что сравнивается – цвет изделия или его форма, если знать о круглых лепешках «целвг», символизирующих солнце и круг.
У переводчика фигурируют квадраты, ромбы, кружки из текста, что не соответствуют реальным формам калмыцких борцыков: «Затем дадим фантазии простор мы: / Квадраты, ромбы и кружки кроя, / У каждого чуть-чуть загнем края – / От дедов нам достались эти формы» [Сангад-жиева 1971, 5].
Эпитеты (кѳңгшүн – легкий, янзта – фигурные) характеризуют запах и формы изделия. Автор вновь задался риторическим вопросом, в какой степи придумали такую вкусную еду: «Алин теегт иим / Амтта хот учрдв?» [Саңhҗин 1969, 37]. И закончил стихотворение приглашением гостей к столу, пить калмыцкий чай, ведь такая вкусная, волшебная пища эти бор-цыки. Текст изобилует вопросительными и восклицательными знаками, передавая пиетет перед почетным угощением степняков. Несмотря на то, что в произведении не упоминается ритуал подношения борцыками, не звучат соответствующие фольклорные формулы, тем не менее в контексте это подразумевается, поскольку само стихотворение становится таким бла-гопожеланием-восхвалением борцыков (синтез жанров йоряла и магтала).
Ср. с йорялом борцыкам: «Хәәрхн, / Боорцг-тоһштн элвг-делвг болҗ, / Ут наста, бат кишгтә болҗ, / Му күүкдтәһән ханядн-тома уга бәәҗ, / Боор-цг-тоһшан элвгәр кеҗ, / Җил болһн иигҗ, / Боорцгарн дееҗән ѳргҗ / Олн кѳгшдин йѳрәл шиңгәҗ, / Байрта-бахта бәәҗ болтн!» (цит. по: [Басангова 2015, 54]). («О, милостивый, пусть будут в изобилии у вас борцыки, жи- вите долго, будьте счастливы, со своими детьми без болезней пребывайте, готовьте вдоволь борцыков, каждый год делая подношение [бурханам-божествам] борцыками, усвоив благопожелания стариков, живите в радости и удовольствии!»). Для йоряла характерны парные слова: боорцг-тоhш (борцыки-калачи), ханядн-тома (кашель-беспокойство), байрта-бахта (радость-удовольствие).
Со стихотворением «Боорцг» перекликается по содержанию другое стихотворение Б. Сангаджиевой «Цаhан идән» (букв. «Белая пища», 1982). Название его обусловлено понятием «цаhан идән» – подношение духам предков, божествам, включает молочные продукты и его производные: молоко, масло, кумыс, молочный чай, молочная водка.
См. начало «Цаhана Сарин йѳрәл»: «Нә, Цаhана Сарин нег шин / Бай-рта-бахта сән ѳдр болҗ, / Цаhан идән элвг-делвг болҗ…» [Хальмг улсин йѳрәлмүд 2010, 103] («Пусть начало Цаган Сара станет радостным, хорошим днем, пусть будет вдоволь белой пищи…»).
Автор напомнил, что у калмыков исстари было прекрасное, чистосердечное, доброжелательное правило: подобно «белой пище» светлые помыслы («цаhан седкл», букв. белые). Провожают ли охотника в дорогу, встречают ли дальних гостей, хозяин со светлыми намерениями («цаhан седкләрн») преподносит им «цаhан идән» как угощение. Навестят ли родственники, приедут ли сваты, им преподносят белую рубашку («цаhан ки-илг»), чтобы они надели. Если случится праздник, придут маленькие дети, их порадуют мелкими белыми монетами («цаhан мѳңгн») в завязанном платочке. Если собираются в дальний путь, чтобы была достигнута цель, высказывают благопожелание белой дороги («цаhан хаалh») [Саңhҗин 1982, 70]. Колористика белого цвета во всех этих случаях, как известно, связана у монголоязычных народов с семантическим пожеланием мира, добра, счастья, благополучия.
Молодое поколение калмыцких поэтов также обратилось к данной теме. Название стихотворение Айсы Бамбаевой традиционное: «Цаhан сар» (1998). В четырех строфах автор выразил свое отношение к национальным обычаям, которые активно возрождались в конце прошлого столетия. Поэтому сразу подчеркивается, что все калмыки ждут праздника Цаган Сар, приготовили чай, борцыки, мясо: «Цаhан сарин байриг / Цуг хальмгуд күләнә. / Цә, боорцг, махан – / Цугтнь эдн белднә» [Бамбан 1998, 25]. В отличие от других калмыцких поэтов А. Бамбаева упоминает помимо калмыцкого чая и борцыков мясо (калм. махн). Она также говорит о том, что все друг друга приветствовали благопожеланием («Нег-негән йѳрәhәд»), радостно пели, танцевали, играли на домбре. В конце стихотворения звучит пожелание, чтобы народные думы дошли до Окон Тенгри, защитницы и спасительницы: «Олн әмтнә санань / Окн теңгрт күртхә» [Бамбан 1998, 25]. Завершая благопожелание, автор использовал фольклорное словосочетание йорялов: «дән-даҗг» («война, военные действия»): «Дән-даҗг уга / Делкә мана бәәтхә» [Бамбан 1998, 25] («Пусть без войны наш земной мир будет всегда»). Как все человечество, по легенде, спасла Окон Тенгри, так и по-прежнему звучит благопожелание этой Небесной Деве-богине.
В русскоязычной калмыцкой поэзии празднику Цаган Сар адресованы два стихотворения Риммы Ханиновой: «Окон-Тенгри» (1994) [Хани-нова 1994a, 1] и «Цаган Сар – Белый Месяц» (1994) [Ханинова 1994b, 6]. М. Петрова правомерно сравнила формы стихотворений цикла «Калмыцкий праздник» («Зул», «Цаган Сар – Белый Месяц», «Урюс Сар») с фольклорными магталами (восхвалениями) и йорялами (благопожеланиями). О том, как Цаган Сар «отмечается в Калмыкии, каковы традиции, обычаи и ритуалы празднования пишет Римма Ханинова в стихотворении “Цаган Сар – Белый Месяц”» [Петрова 2002, 112]. Здесь используются ключевые слова: Окон-Тенгри, «деежи» (дееҗ), приветствие («Менде гарва? – Мен-де, менде»), описаны ритуал рукопожатия, «хожденье по гостям с весенним поздравленьем – / в особой очередности почет», «связка борцыков с древнейшим назначеньем», пожелание белой дороги, встречи с сусликом, огня под таганом. Завершается стихотворение благопожеланием: «Пусть будет день для вас лучистым, / пусть отвратит от вас судьбы удар! / Пусть Белый Месяц будет вечно чистым – / священной жизни праздник, предков дар!» [Ханинова 1994b, 6]. По мнению Д.Ю. Топаловой (Зумаевой), в творчестве этого поэта «синтез современной формы с традиционными национальными воплощается в жанровом своеобразии: стихи-йорялы, сти-хи-магталы, жанр миниатюры, в частности, четверостишия, притчи, прозо-поэзия и т.д.» [Топалова (Зумаева) 2014, 65]. Как известно, «Окон-Тенгри входит в число десяти гневных божеств – защитников буддизма, является повелительницей демонов, искоренительницей ядов» [Топалова 2014, 165]. Р. Ханинова «подробно описывает богиню, какой ее изображают в соответствии с буддийским каноном, при этом многие детали, упомянутые автором, верно передают гневный характер божества <…> основная идея автора заключается в том, чтобы раскрыть амбивалентность, “дилемму” характера богини Окон-Тенгри. Жестокая, карающая, “свирепая”, она же – “защита людей от врагов”, спасительница, дарующая все блага тому, кто к ней обращается» [Топалова 2014, 165, 167].
Оба стихотворения переведены на калмыцкий язык народным поэтом Калмыкии Эрдни Эльдышевым [Ханина 2012a; Ханина 2012b]. При этом в «Цаһан Сар» сохранена формульность йоряла, в том числе в заключительных строках благопожелания: «Өдр болһнтн ээлтə болтха, / Өшрлһн, зовлһн холаһар һартха! / Цаглшго зөөр, əдстə байр – / Цаһан Сар өлзə дурдтха!» [Ханина 2012b, p. 23].
Заключение
Репрезентативные стихи калмыцких поэтов на родном и русском языках, адресованные календарному празднику встречи весны – Цаган Сар, созданы во второй половине прошлого столетия, когда началось возрождение национальных обрядов и обычаев, празднование Зула и Цаган Сара [Ханинова 2023]. Обращение к фольклорным аналогам – благопоже-ланиям в честь этих календарных праздников – способствовало появлению жанра благопожелания в калмыцкой поэзии о встречах зимы, весны и лета вначале как творческие переработки народных образцов (С. Каляев и др.), затем как авторские. Легенды о появлении праздника Цаган Сар заявлены в стихах Л. Инджиева и Р. Ханиновой. Большинство стихотворений калмыцких поэтов разных поколений в самих названиях «Цаһан Сар» («Белый Месяц») передают преемственность фольклорной традиции: описание ухода зимы и наступление весны, ритуал приветствия, обмен подарками, хождение в гости, чаепитие с борцыками, благопожелание жить без войн и бед, в мире и согласии, в благополучии и радости, в дружбе и любви, с прибавлением семейства и приплода скота. Монологическая форма, иногда включая элементы диалога-приветствия, изобилует риторическими фигурами, повторами, сравнениями, эпитетами, метафорами, олицетворением, обращениями к божествам (Окон-Тенгри, Цаган Эзн и др.), воспроизведением начальной буддийской молитвы, формульно-стью. Гендерный аспект в благопожелании Белому Месяцу проявляется в описании процесса приготовления чая, борцыков у Б. Сангаджиевой. В широком плане йорялы на Цаган Сар имеют общее с другими йорялами как проекция мировоззрения и мирочувствования кочевников, живущих в тесной взаимосвязи с окружающей природой и соседними народами. Традиционная стихотворная форма йорялов нашла отражение в стихах калмыцких поэтов как кратких, так и пространных, являя синтез жанров восхваления и благопожелания.
Список литературы Жанр благопожелания (Йѳрәл) в калмыцкой поэзии XX-начала XXI в.: праздник белый месяц (Цаһан Сар). Часть 1
- Әмд булг (Ц.К. Җаргаеван фольклорн репертуар). Бүрдәhәч, орч. статья, бичәд үүдәврмүдиг барт белдснь Н.Ц. Биткеев. Элст: АПП «Джангар», 1993. 78 х.
- Байдын С. Цаhана йѳрәлмүд // Хальмг үнн. 1996. Туула сарин 29. Х. 4.
- Бембин Т. Цаhан Сар // Теегин герл. 1996. № 5. Х. 18.
- Инҗин Л. Цаhан Сарин туск домг // Хальмг үнн. 1993. Лу сарин 23–30. Х. 1.
- Калмыцко-русский словарь / под ред. Б.Д. Муниева. М.: Русский язык., 1977. 768 с.
- Калян С. Цаhанла тәвдг йѳрәл // Хальмг үнн. 1985. Январин 25. Х. 3.
- Калян С. Шин хувц ѳмссн кү йѳрәлhн // Теегин герл. 1962. № 4. Х. 59.
- Мифы, легенды и предания калмыков / подготовка текстов, пер., вступит. ст., примеч., комментарии, указатели, словарь, сверка калмыцких текстов Т.Г. Басанговой, Т.А. Михалевой; отв. ред. А.А. Бурыкин, Е.Н. Кузьмина, В.В. Куканова, Г.Ц. Пюрбеев. М.: Наука, 2017. 367 с.
- Нуура В. Булгин амтн: шүлгүд. Элст: Хальмг дегтр hарhач, 1976. 161 х.
- Нуров В.Д. Солнечный колодец: стихи. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1981. 131 с.
- Овшин Н. Окн-Теңгрин домгас // Хальмг үнн. 1996. Лу сарин 11. Х. 4.
- Родники народной мудрости / сост., вступ. ст., перевод Б.Б. Овалова. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1984. 112 с.
- Сангаджиева Б. Борцуки // Литературная Россия. 1971. 5 марта. С. 5.
- Саңhҗин Б. Мини җирhлм – мини теегм: шүлгүд. Элст: Хальмг дегтр hарhач, 1986. 95 х.
- Саңhҗин Б. Сәкүл: шүлгүд болн поэмс. Элст: Хальмг дегтр hарhач, 1969. 79 х.
- Саңhҗин Б. Цаhан идән // Теегин герл. 1982. № 3. Х. 70.
- Саңhҗин Б. Цаhан мѳңгн белг // Хальмг үнн. 1996. Моhа сарин 11. Х. 4.
- Семь звезд: калмыцкие легенды и предания / сост., пер., вступ. ст., коммент. Д.Э. Басаева. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 2004. 415 с.
- Тачиев А.Э. Звезда Эрдни: стихи и поэмы. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1983. 105 с.
- Тачин А. Цаһан Сар // Теегин герл. 1980. № 4. Х. 101–102.
- Тиигтхэ! Да будет так!: Обрядовый фольклор калмыков / сост., вступ. ст., коммент. Н.Ц. Биткеева. Элиста: Санан, 1993. 79 с.
- Хальмг улсин йѳрәлмүд (Калмыцкие народные благопожелания) / сост., вступ. ст. М.Э.-Г. Эрдни-Горяева. Подготовка текстов и приложения Э.Б. Овалова. Элиста: КИГИ РАН, 2010. 160 с.
- (а) Ханина Р. Окн-Теңгр // A Kalmyk Sampler: Mongol Poetry and Mythic Tale. Ossining, N.Y.: ӔlitaPress, 2012. P. 17.
- (b) Ханина Р. Цаһан Сар // A Kalmyk Sampler: Mongol Poetry and Mythic Tale. Ossining, N.Y.: ӔlitaPress, 2012. P. 23.
- (a) Ханинова Р. Окон-Тенгри // Известия Калмыкии. 1994. 6 марта. С. 1.
- (b) Ханинова Р. Цаган Сар – Белый Месяц // Новая неделя. 1994. 14–20 февраля. С. 6.
- Цаһан Сар // Хальмг туульс. III боть. Элст: КНИИЯЛИ, 1972. Х. 7–9.
- Цацлын дееҗ (Заздравное слово): Сборник / сост. Н. Содмон. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1997. 174 с.
- Бадмаев А. Возвращение Окон-Тенгри и наступление Цаган Сара // Известия Калмыкии. 1996. 15 февраля. С. 3.
- Бакаева Э.П. Буддизм в Калмыкии. Историко-этнографические очерки. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1994. 128 с.
- Басангова Т.Г. Вербальный компонент праздника Цаган Сар («Белый Месяц») у калмыков // Новые исследования Тувы. 2015. № 1. С. 50–59.
- Бардан Э. Цаhана боорцг // Хальмг үнн. 1996. Моhа сарин 10. Х. 3.
- Борджанова Т.Г. Магическая поэзия калмыков: исследование и материалы. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1999. 182 с.
- Борлыкова Б.Х. Из истории собирания и публикации калмыцких благопожеланий // Традиционная культура. 2020. Т. 21. № 1. С. 158–166.
- Буддизм: Словарь / под общ. ред. Н.Л. Жуковской и др. М.: Республика, 1992. 287 с.
- Менке-Буйни Ц. Цаһан Сарин нәр давулдг йосн // Хальмг үнн. 1996. Лу сарин 8. Х. 2.
- Омакаева Э.У. Магия и вербальный ритуал в народной культуре калмыков // Традиционный фольклор в полиэтнических странах. Улан-Удэ: ИПК ВСГАКИ, 1998. С. 116–120.
- Осорин У. Мифы, легенды и предания синьцзянских ойратов и калмыков: сравнительно-сопоставительный анализ. Элиста: КИГИ РАН, 2015. 188 с.
- Петрова М.П. Мир поэзии Риммы Ханиновой // Теегин герл. 2002. № 6. С. 108–120.
- Топалова (Зумаева) Д.Ю. О своеобразии современной русскоязычной поэзии Калмыкии (на примере творчества Д. Насунова и Р. Ханиновой) // Вестник КИГИ РАН. 2014. № 1. С. 59–67.
- Топалова Д.Ю. Русскоязычная поэзия Калмыкии: лирика Д. Насунова и Р. Ханиновой. Элиста: КИГИ РАН, 2014. 256 с.
- Ханинова Р.М. Жанр благопожелания (йѳрәл) в калмыцкой поэзии ХХ–начала XXI в.: праздник Зул // Новый филологический вестник. 2023. № 1(64). С. 323–340.