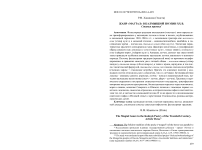Жанр «магтал» в калмыцкой поэзии ХХ в. Статья третья
Автор: Ханинова Римма Михайловна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 4 (63), 2022 года.
Бесплатный доступ
Фольклорная традиция восхваления («магтал») коня параллельно трансформировалась у калмыцких поэтов в стихах и песнях, опубликованных в калмыцкой периодике 1930-1940-х гг., с величанием трактора как железного коня («төмр күлг»), в меньшей степени - машины/автомобиля, комбайна, в послевоенное время - поезда как стального коня («болд күлг»). Эпическая характеристика крылатого коня-аранзала хана Джангара воплотилась в модификации образа самолета как летающего коня («нисдг күлг», «нисдг мөрн»), воздушного коня («айарин мөрн», («айарин күлг»). Авиация, летчик, самолет как знаки новой эпохи привлекли особенное внимание калмыцких поэтов довоенного и военного периода. Поэтому фольклорная традиция (крылатый конь) со временем модифицировалась в сравнение самолета уже с птицей: общее - железная птица («төмр шовун»), стальная птица («болд шовун»), а также с орлом, коршуном, в том числе с политической формулой сталинские соколы, но в замене соколов на ястребов (сталинск харцхс = сталинские ястребы). Причем это ключевое понятие у калмыцких поэтов относилось как к самолетам, так и к летчикам. Безэквивалентная лексика - авиация, самолет, аэроплан, летчик - вошла в национальный язык, вытесняя калмыцкие неологизмы (нисэч = летчик, аИарч = летчик). Трудовые и героические свершения в построении социалистического государства, триумфальное покорение воздушного пространства, беспосадочные перелеты через континенты, моря и океаны, освоение Северного и Южного полюсов с помощью первых советских ледоколов, самолетов отразились в патриотическом пафосе советской поэзии тех лет, в частности в калмыцкой поэзии. В то же время это и возникновение советского мифа о «Великой семье» с архетипами Сталина-отца, родины-матери, героических детей.
Калмыцкая поэзия, газетная периодика, магтал, авиационный дискурс, сталинские соколы, советская мифология, фольклорная традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/149141364
IDR: 149141364 | DOI: 10.54770/20729316-2022-4-439
Текст научной статьи Жанр «магтал» в калмыцкой поэзии ХХ в. Статья третья
Обращение калмыцких поэтов прошлого столетия к фольклорному жанру «магтал» («восхваление») выявило две тенденции. «Первая тенденция проявляется в том, что калмыцкие поэты в заглавии и/или в подзаголовке позиционируют целенаправленное обращение к заявленному жанру, создавая магталы в традиции фольклорного аналога с привнесением авторского начала. Вторая тенденция заключается в том, что отнесение репрезентативных текстов к хвалебной поэзии, конкретно к магталу, определяется формой и содержанием, тематикой, типологией героя, близостью к фольклорной традиции несмотря на то, что автор никак не маркирует свое произведение в интересующем нас аспекте» [Ханинова 2022а, 425].
Вторая тенденция в широком плане отразилась на страницах калмыцких газет 1930-1940-х гг: так, фольклорная традиция магтала - величания коня из героического эпоса «Джангар» трансформировалась у калмыцких поэтов в стихах и песнях, обращенных к образам собственно коня (аранза-ла - богатырского волшебного коня), железного коня - трактора, позднее стального коня - поезда, помощника человека в трудах и боях [Ханинова 2022b, 444-445].
Та же тенденция в газетной периодике того же периода проявилась в развитии авторского жанра «магтал» о помощнике человека, героя и труженика, в технической сфере уже на примерах стихотворений и песен о самолете - летающем коне, железной или стальной птице. Так же, как в эпической традиции величания коня и его всадника, восхваление самолета и его летчика выразилось в поэтике заглавия произведений (например, «Болд шовун» = «Стальная птица»; «Нисач» = «Летчик»; «Сталинск харцхс» = «Сталинские ястребы»; «Болд харцхсин парад» = «Парад стальных ястребов»), в их содержании, без прямого указания на жанр «магтал». Такая хвалебная поэзия калмыцких поэтов о триумфальном покорении человеком воздушного пространства, о беспосадочных перелетах через континенты, об освоении Арктики и Антарктиды с помощью первых советских ледоколов, самолетов передала патриотический пафос советской поэзии тех лет. Полярники и летчики - самые главные герои 1930-х гг, их географические открытия и авиационные рекорды сравни эпохе освоения космоса советской страной.
Несмотря на то, что в Элисте аэроклуб открылся только в 1936 г, осваивали там парашютный спорт и планеры, а профессию летчика получали за пределами республики, калмыцкие поэты быстро откликались на страницах местных газет на главные события с участием полярников и летчиков страны. О них сообщала вся советская печать в статьях, заметках, репортажах, поздравлениях, плакатах, стихах и песнях с фотографиями участников, снимками с мест событий, создавая образ страны героев и культ знаменитостей в социальной иерархии общества. «В одном измерении Сталин - великий вождь и учитель, отец народов; ниже на ступеньку вожди меньшего калибра (региональные и отраслевые), далее, большие люди, а затем маленькие люди, в позднейшей терминологии “винтики”. В середине 1930-х гг. в эту вертикаль включат “знатных людей”. В другом измерении герои также делятся по степени важности их деяний и, соответственно, по степени прославления» [Лейбович 2022, 174-175]. Государственный институт героев повлиял на отношение к подвигу: героизм из категории исключительного переходит в категорию массовости (каждый может стать героем), напоминая о горьковском фразеологизме, что в жизни всегда есть место подвигу.
Это время возникновения советского мифа о «Великой семье» [Кларк 1992] с архетипами Сталина-отца, родины-матери, героических детей, «сталинских соколов» [Гюнтер 1991; Гюнтер 2000]. Так, «имидж летчика как “сталинского сокола” удивительным образом объединил объективные черты летчика-профессионала и мифологический подтекст» [Лысакова 2013,95].
Магтал-величание самолета как крылатого коня в калмыцкой поэзии XX в.
Одним из первых к магталу о самолете обратился Эльдя Кектеев (1916-1965) в стихотворении «Эла» («Коршун», 1935). Кроме того, этот текст можно отнести и к жанру разговора - человека с птицей. Лирический субъект, завидя коршуна, парящего в жарком небе, окликает птицу, прося у нее крылья в поисках прохлады. Приемом олицетворения вводится в сюжет ответ коршуна, напоминающего человеку о том, что он - сын безграничного времени, создавший своим умным знанием воздушного коня-. «Уу цагин урн, / Ухай сурйулэр кесн / Унх акарич мертэч». (Тексты на латинице везде даны в соответствии с языковой реформой на кириллице; все стихи воспроизводятся в авторской редакции - РХ?) [Коктэн 1935, 4]). Птица говорит, что человеку в собственных силах облететь весь мир, что воздушные скакуны всюду летают, покоряя Ледовитый океан через десятки тысяч километров: «Ард, ардасн цувад, / Акарин кулгуд цервнэ, / Ар далайан йатлад, / Арвн мицйэд ниснэ» [Коктэн 1935, 4]. Человек благодарен птице, улетевшей ввысь, за напоминание, заключив, что могучий СССР освоит все достижения человечества, рабочий класс узнает о мощных наших стремлениях. В контексте стихотворения речь шла об освоении советской страной Северного морского пути, об эпопее с пароходом «Челюскин» и спасением его экипажа нашими летчиками (1933-1934 гг), награжденными за этот подвиг только что учрежденным Постановлением ЦИК от 16 апреля 1934 г. званием «Герой Советского Союза». Влияние калмыцкого эпоса здесь проявилось в сравнении самолета не с птицей, а с летающим конем, поскольку в данном случае ближе было бы орнитологическое сравнение с коршуном.
Другой пример сравнения самолета с крылатым конем есть у Гари Да-ваева (1913-1937) в «Балладе о будущем» («Хеетин баллад», 1936), опубликованной в 1937 г. Оборонная тема в балладе актуализировала роль военной авиации, военных летчиков. Несмотря на вымышленный в 1936 г. сюжет воздушного боя калмыцкой летчицы с вражескими асами (тогда СССР ни с кем не воевал, не было летчиц-калмычек), поэт славит советский самолет и героиню [Ханинова 2019]. Сравнение самолета с летающим конем дано в начале и в середине фрагмента из баллады, например: «Нимн-Эрвц куукн / Нисдг мерэн тохв» [Давай 1937, 1] («Нимн-Эрвена оседлала летающего коня». Здесь и далее наш смысловой перевод. -РХ?у Использование метафоры и глагола «тохх» («седлать») подчеркивает связь с фольклорной традицией. См. далее также «нэрхн нисдг мери» («летающий конь»). Есть в балладе и непосредственное название авиационной техники по-русски (самолет) [Калмыцко-русский словарь 1977, 479], описание советского самолета как узкой белой машины («нэрхн цайан машин»), любимой маленькой машины («эцкр бичкн машин»), с головой, как у чайки, белой, словно снег («Цах шовуна толйата, / Цасн цайан самолет»).
Ср. «нискл» («самолет») в кратком русско-калмыцком словаре [Жижян 1995, 120]. В таком написании самолет («нискл») назван в стихах М. Нар-маева «Айарин комсомол» (букв. «Воздушный комсомол», т.е. осваивающий воздушное пространство, 1938) [Нармин 1938, 3], Б. Дорджиева «Дамшлйн болн белдлйн» («Тренировка и подготовка», 1939) [Доржип 1939, 1]. В своем переводе нармаевского «Айарин комсомол» («Комсомол на крыльях», 1958) К. Шишло, опережая время, заключил: «Мы с небом затеяли спор. / Ну, космос, теперь берегись!» [Нармаев 1958, 132].
Русское слово «летчик» Г. Даваев в своей балладе дважды заменил калмыцким «нисэч» - «летчик, пилот, авиатор» [Калмыцко-русский словарь 1977, 379] (неологизм от глагола «нисх» - «лететь, летать» [Калмыцко-русский словарь 1977, 379]): «Эрвц нисэч» («Эрвена-летчица»), «Зергтэ куукн нисэч» («Храбрая девушка-летчица») [Давай 1937, 1].
В стихотворении «Айарч куукдт» («Девушкам-летчицам», 1938), прославляющем подвиг трех летчиц (В. Гризодубова, П. Осипенко, М. Раскова), Санджи Эрдюшев (1912-1943) сравнил аэроплан со скакуном («кулглгч машинь» = машина-скакун) [Эрдушэ 1938, 3].
В «Ойратском словаре поэтических выражений» слово oqtoryuyin означает «небесная лошадь». Первая часть («небо) входит в состав многих эпитетов, но в сочетании со словами в значении «передвигающийся». Вторая часть («лошадь») может быть прочитана в нескольких санскритских словах, но их первая часть означает «перья» или «крылья» [Ойратский словарь 2010, 469].
Таким образом, у калмыцких авторов в образе крылатой машины - самолета - объединяются поэтические признаки коня и птицы.
Магтал-величание самолета как железной или стальной птицы в калмыцкой поэзии XX в.
Параллельно сравнению самолета с летающим конем в лирике калмыцких поэтов появилось и сравнение самолета с птицей - с орлами («Ьэрднр») [Коктэн 1938, 2], ястребами («харцхс») [Жщдлэн 1938b, 4], коршуном («элэ болен машин») [Ипжип 1941, 4], железной («томр») или стальной («болд») птицей («шовун»), в том числе с подчеркиванием механического, искусственного, сотворенного человеком («машин» = «машина»), У Б. Дорджиева введено новое определение - «аЬарин кермн» («воздушный корабль») [Доржип 1939, 1].
Самолет как железная птица упомянут приметой времени в стихотворении Хасыра Сян-Белгина (1909-1980) «Дуул, иным» («Пой, моя подруга», 1936), посвященном делегатам первой конференции республиканского комсомола: «Keep / Кец унад / Санамр ящрлЬн урлдна. / Деер / Делж; сунад / Самолете дуулж; хурлдна. // Тецгрэр / Томр шовукар / Делгу у[у]лиг буул. / ДууЬан, / Дурта иным, / Делкэд кургэд дуул!» [Сэн-Белгин 1936, 1]. («В степи, на пригорках беспечно миражи скачут. Наверху самолеты, взлетая, с шумом обгоняют друг друга, в небе железными птицами проходят сквозь облака. Песню, моя любимая подруга, спой, поведав всему миру»), В отличие от других авторов, поэт использовал в структуре текста необычную расстановку слов во всех строках: одно слово, два слова, три слова.
Стихотворение «Нисэч» («Летчик», 1936) Морхаджи Нармаева (1915— 1993) перекликается со стихотворением Э. Кектеева «Элэ» в прославлении советской авиации, ее летчиков, о которых знает вся страна из радио и газет, эти великие советские герои летали в Арктику, преодолели Ледовитый океан, показав победу социализма: «Думбр советин героймуд / Дууллдэд аркткур нислднэ, / Мест дала Батллдад / Социализмин диилвр узулнэ» [Нармин 1936, 4]. Поэт вводит в текст безэквивалентную лексику: аэроплан, пилот, мотор, эскадрилья; сравнивает аэроплан вообще с птицей («шовуншц»); обращается к мотору (самолету) как к живому победителю, чтобы он поднял выше летчика, чтобы, кружась, облетая, снова и снова показал свою силу: «Диилич, мотор, диилич, / Деегшэн нисэч залич, / Дубрж эргэд чидлэн / Дэкн, дэкн узулич» [Нармин 1936, 4].
Стальной птицей самолет возникает в названии стихотворения-маг-тала Басанга Дорджиева (1918-1969) «Болд шовун» («Стальная птица», 1938). В самом же тексте дано сравнение с черной птицей: «Халэд-нисэд деер / Хар шовуншц эрвлзнэч» [Дорясин 1938а, 4]. («Вверху летая, подобно черной птице, мелькаешь»). Как и М. Нармаев, поэт обращается к самолету, прославляя в 4-х четверостишиях его достоинства, связанные со знаменитыми победами великой страны в строительстве социализма: сила, скорость, грузоподъемность, всенаходимость. В итоге: «Социализмин зоориг икдулгч / Сумн хурдн аИарчч» [Доржип 1938а, 4]. («Ты приумножаешь богатство социализма, быстрое, как пуля, воздушное судно»"). Здесь авторская попытка создать неологизм «айарч» в обозначении самолета от существительного «ahap» - «воздух, атмосфера» [Калмыцко-русский словарь 1977, 26], где в удвоенном «чч» первая буква является суффиксом, а вторая указывает на сокращение местоимения «чи» («ты»), обращение к самолету. Но этот неологизм не прижился в лексике калмыцкого языка, хотя его использовали и другие калмыцкие поэты, например, С. Эрдюшев («АБарч куукдт» = «Девушкам-летчицам», 1938).
Согласно ТА. Загидулиной, орнитологическая метафора в авиационном дискурсе - «сталинские соколы» - стала инструментом конструирования политического мифа: «Соколами в советском фольклоре (фейклоре) назывались Ленин и Сталин. Обозначение связи правителя с небом является еще одним инструментом легитимации власти, на этот раз через ее сакрализацию. Орнитологические метафоры применялись и для обозначения других политических деятелей, а также представителей профессиональной группы летчиков. В 1910-20-х гг, когда воздухоплавание было относительно новой сферой деятельности, основной функцией таких метафор была гносеологическая, в 1930-х гг. она стала моделирующей: в образе “сталинских соколов” сочетаются черты сакрального существа, абсолютная маскулинность, сила, отвага и героизм» [Загидулина 2016, 176]. Как известно, в русском фольклоре богатырей называли соколами, в древнерусской литературе - и князей: сила, власть и защита. В преемственности власти, метафорически представленной в стихотворении М. Исаковского «Два сокола» (1940), реализуется принцип ее тройной преемственности: от старшего сокола (Ленин) к младшему (Сталин) и позднее к юному - соколенок (соколята) [Загидулина 2016, 178]. Солярная и мифологическая символика, преломленная во фразеологизме «сталинские соколы», нашла отражение в стихах советских поэтов на эту тему [Загидулина 2019].
Как указывает И. Козлова, в 1935 г. все сравнения летчиков с сокола- ми следуют горьковской формуле «гордый сокол», а эпитет «сталинский» впервые встречается в газете «Правда» 24 июля 1936 г, после перелета Чкалова по «сталинскому маршруту», вызвав и поэтические отклики в сравнении летчиков с соколами и орлами [Козлова 2010, 5]. Эпитет «сталинский» в отношении маршрута и характеристики летчиков демонстрировал также особое внимание Сталина к развитию советской авиации, к авиационным рекордам и их героям. Это нашло отражение в ангажировании советского легитимного фольклора с пропагандистской лексикой и фразеологией в СССР 1930-х гг. (См. подробнее: [Козлова 2010, 1-10]).
Формула эпохи 1930-х гг. в отношении советских летчиков и самолетов трансформировалась в калмыцкой лирике, например, в песне «Сталинск харцхс» («Сталинские ястребы», 1938) Пюрви Джидлеева (1913-1940), у других калмыцких поэтов. Соколов вытеснили ястребы в данной орнитологической номинации хищных птиц. Слово «харцх» означает «ястреб» [Калмыцко-русский словарь 1977, 581; Манджикова 2007, 78; Пюрбеев 2022, 332]; у ойратов Синьцзяна - «харцаБаа» [Тодаева 2001, 391], по-монгольски - «харцага» [БАРМС IV, 2001, 56]. По-калмыцки сокол - это «начн» [Калмыцко-русский словарь 1977, 370; Манджикова 2007, 63], а также «шоцхр» («кречет, сокол») [Калмыцко-русский словарь 1977, 679; Манджикова 2007, 85; Пюрбеев 2022, 496], у ойратов Синьцзяна - «начин» [Тодаева 2001, 244], у монголов - «начин, начин шонхор» [БАРМС II, 2001,570].
В культе предков-тотемов, а также для оценки и характеристики богатырских качеств в эпосе «Джангар», как пишет ГЦ. Пюрбеев, широко используются образы животных, зверей и птиц, олицетворяющих храбрость, отвагу, силу, стремительность, зоркость и т.д.; в этом отношении эталоном являются из птиц - сокол (начн), беркут (бургд), коршун (элэ), орел (Бэрд) [Пюрбеев 2015, 47].
«Охота с ловчими птицами была древней забавой монголов и любимым развлечением калмыцкой знати. Для охоты на пернатую дичь монголы предпочитали использовать специально обученных соколов. Соколиная охота, считавшаяся развлечением, достойным мужчины, сохранялась у волжских калмыков вплоть до XX в.» [Селеева 2020b, 350].
Калмыцкая поговорка подчеркивает иерархию птиц: «Шовуд болвас шоцхр болдго» = «Не всякой птахе быть кречетом» [Калмыцко-русский словарь 1977, 679]. Мощь ястреба калмыцкая пословица характеризует в сравнении: «Харцх нег шуурлтэ, хан нег зэрлгтэ. У ястреба одна хватка, у хана одно повеление» [Калмыцко-русский словарь 1977, 581].
То же ястребиное обозначение есть в стихотворении «Болд харцхсин парад» («Парад стальных ястребов», 1939) Лиджи Инджиева (1913-1995), в стихотворении «Ар полюс» («Северный полюс», 1937) Аксена Сусее-ва (лит. псевдоним Дендян Айс, 1905-1995). При этом у П. Джидлеева определение «сталинск харцхс» присутствует только в заглавии текста [Жщдлэн 1938, 4], у Л. Инджиева неоднократно указывается множественное «харцхс» («ястребы»), единожды «болд харцхсм» («мои стальные ястребы»), «мана московск самолете» («наши московские самолеты»), «кудр харцхеин хээкрэнд» («в сильном ястребином крике») [Инжин 1941, 1]. А. Сусеев назвал Валерия Чкалова «сталинским ястребом»: «Чкалов -Сталина харцх», а советских летчиков - «Сталина баатр харцхе» («отважные ястребы Сталина» [Дендян 1937, 2]. В «Военном марше» («Дээч марш», 1938) Михаила Хонинова (1919-1981) самолеты также метафорически названы ястребами: «онр харцхе» («многочисленные ястребы») [Хоньна М. 1938,4]. Ср. в стихотворении Э. Кектеева «Мана цагин Бэрднр» («Орлы нашего времени», 1937) советские летчики прославляются, как орлы, в связи с покорением Северного полюса, с первым беспосадочным перелетом на самолете АНТ-25 по маршруту Москва - Северный полюс -Ванкувер 18-20 июня 1937 г. (В. Чкалов, Г. Байдуков, П. Беляков), со вторым беспосадочным перелетом СССР - США 12-14 июля того же года (М. Громов, А. Юмашев, С. Данилин). Рама этого стихотворения включает место, дату создания (Ээдрхн, 1937-гч жил = Астрахань, 1937 год) и два эпиграфа. Первый указан как старая пословица: «Кезэнэ шовун Бэрднр, / уул хэлэж; ниедг, / уул хэлэж; буудг - / Бээж» [Коктэн 1938, 2]. («С давних пор орлы, глядя на горы, взлетают, глядя на горы, опускаются»). Второй эпиграф - автоцитата: «Мана цагин Бэрднр, / Полюс хэлэж; ниедг, / ЖирИл хэлэж; буудг / боля?» [Коктэн 1938, 2]. («Орлы нашего времени, глядя на полюс, взлетают, глядя на жизнь, приземляются»). Самолеты в тексте названы орлами («Бэрднр»), а также железными птицами нашего времени («Мана цагин темр шовуд»), скорость которых сравнима с аранзалом -эпическим крылатым конем («Ардк далаг Батлад, / Арнзлин хурдар одв») [Коктэн 1938, 2]. («Предолев последний океан, направились с быстротой Аранзала»). Последнее четверостишие являет хвалу стране - мощному СССР под руководством стального Сталина - ей двадцать лет: «Болд Сталин Барден / Бат СССР - хертэ!», хвалу героям, открывшим новый путь, их имена всегда будут прославлены: «Бэрж жирЮиг илтксн / Баатрмуд туурхнь лавта!» [Коктэн 1938, 2]. То же сравнение трех героинь-летчиц с орлами (орлицами) есть в стихотворении «Онр орна зормг урдуд» («Отважные дети большой страны», 1938) Муутла Эрдниева (1914-1942).
Магтал-величание летчиков в калмыцкой поэзии XX в.
Магтал-величание летчиков условно можно разделить на несколько групп: 1) величание самолетов и, соответственно, их летчиков; 2) величание полярников и, соответственно, летчиков, спасших их с льдины, (челюскинцы, О. Шмидт, И. Папанин, В. Чкалов, С. Леваневский и др.); 3) величание летчиков, совершивших беспосадочные перелеты СССР - США (В. Чкалов, Г. Байдуков, П. Беляков; М. Громов, А. Юмашев, С. Данилин, 1936), Москва - Дальний Восток (В. Коккинаки, А. Бряндинский, 1938); 4) величание летчиц, совершивших беспосадочный перелет Москва -Дальний Восток (В. Гризодубова, П. Осипенко, М. Раскова, 1938); 5) величание погибших летчиков (В. Чкалов, А. Серов, П. Осипенко); 6) велича- ние военных калмыцких летчиков.
К первой и второй группе помимо уже указанных нами стихов и песен («Ар полюс» А. Сусеева, «Мана цагин йэрднр» Э. Кектеева), можно отнести, например, песню «Авиации дун» («Авиационная песня», 1939) Гари Шалбурова (1912-1942), опубликованную в День всесоюзной авиации 15 августа под газетной рубрикой «Всесоюзин авиации одр менд болтха!» («Да здравствует День всесоюзной авиации!») и плакатом В. Ёлкина (издательство «Искусство») «Советск диилгдшго авиации туг - ур Сталин менд болтха!» («Да здравствует товарищ Сталин - знамя непобедимой советской авиации!»). Поэт в «Авиационной песне» назвал самолет ястребом, скакуном, а в припеве - машиной, преодолевающей туман, дождь, буран ночью и днем по указанному Сталиным-отцом пути [Шалвра 1939, 1].
Авиационный парад как демонстрацию могущества социалистического государства, ее военно-воздушных сил и летчиков-героев прославил Л. Инджиев в стихотворении «Болд харцхсин парад» («Парад стальных соколов», 1939), написанном в Москве и опубликованном 23 февраля 1941 г, в День Красной Армии и Военно-морского флота. Текст дан на первой странице газеты «Улан байчуд» («Красная молодежь») под плакатом с изображением Кремля, летящих самолетов, трех военных на переднем плане, со знаменем (портрет Сталин и цифра XXIII), газетная полоса с лозунгом: «Алдр Улан Цергин ХХШ-гч оон менд болтха!» [Ипжип 1941, 1]. («Да здравствует ХХШ-я годовщина Великой Красной Армии!»).
Здесь полный набор мифопоэтического комплекса: Сталин, Москва, Красная площадь, Мавзолей, стальные самолеты-соколы, дружная семья народов страны, советские песни об авиации. Подробное описание военного парада на Красной площади в Москве, названной железным городом как непобедимой, наполнено визуальной оптикой и акустическим аспектом: многочисленные самолеты подлетают к столице, заполняя небо, сотрясая своим гулом, подобным грому, вселенную, заставляя содрогаться небо. Самолетное эхо преодолевает моря и горы, этого ястребиного крика пугаются враги. Когда самолеты-ястребы летят над Красной площадью, их с Мавзолея, приветствуя, славит Сталин, тысяча знамен развевается, словно кланяясь в его сторону: «Улан Площадь деегэр / Урлдад харцхс йарлдна, / Моцк Сталин заайад, / Мавзолей деерэс магтна, - / Тумн туг-муд делслднэ, / Тун талан геклднэ...» [Ипжип 1941, 1]. Эпитет «моцк» в характеристике Сталина означает «вечный, бессмертный», подчеркивается руководящая роль вождя-учителя («заайад» от глагола «заах» - указывать, показывать, учить, наставлять) [Калмыцко-русский словарь 1977, 358; 234], его особое отношение к летчикам («магтна» - славит, от глагола «магтх» - участвовать в восхвалении (прославлении) кого-чего л.) [Калмыцко-русский словарь 1977,338]. Родина-мать в образе ее красавицы-столицы также ликует, радуясь смелым ястребам: «Солцтрсн сээхлэ Москва / Дуувр харцхстан байсна» [Ипжип 1941, 1], все больше распевая песни в честь отважного советского народа. Заканчивает поэт хвалу риторическим восклицанием: «Эн болдм харцхсм / Эцнэд куриж; ниснэ, / Энунэнм кучнь ямриг / Ээй, кентн медиа!» [Инжин 1941, 1]. («Эти мои стальные ястребы рядами летят, такую их силу, эй, кто только не знает!»).
О растущей смене авиаторам в своей колыбельной «Элтон куукдт» («Младенцу», 1940) пишет Г. Шалбуров, вводя после пейзажа с летящим ястребом песню матери над колыбелью сына: «Эн айарт йовсн / Эвре бийинч эцк, / Орн-нутгт туурсн / Айарин иньг харцх» [Шалвра 1940, 4]. («Это в воздухе летает твой отец, прославленный на всю страну друг неба - ястреб»), В припеве звучит обращение матери к сыну, что он будет подражать отцу, станет летчиком. Она сравнивает младенца с эпическим богатырем Алым Хонгором, выражая уверенность, что сын - будущий защитник родины. В духе советской колыбельной тех лет Сталин-отец знает о всех детях, заботясь каждый день об их счастливой жизни: «Унтж; кевтх тадниг / Аав Сталин медиа. / Улм сан жирЬлитн / Одр болйн делднэ» [Шалвра 1940, 4]. Здесь авиационный дискурс построен на мифопоэтической параллели общего и частного, государственного и семейного: Сталин-отец, родина-мать, дети страны = отец, мать, сын.
К третьей группе относятся, помимо стихотворения А. Сусеева «Ар полюс», стихи Э. Кектеева «Мана цагин йэрднр» («Орлы нашего времени», 1937), П. Джидлеева «Сталинск харцхс» («Сталинские ястребы», 1938). В стихотворении «Оодэн, жицгс холд» («Выше, еще дальше», 1936) Церена Леджинова (1910-1942) и в песне Муутла Эрдниева «Комсомолд нерэдсн дун» («Песня, посвященная комсомолу», 1938), адресованной его двадцатилетию, прославляется летчик-испытатель Владимир Коккинаки (1904 1985), совершивший беспосадочные перелеты Москва - Дальний Восток (1938), за что был удостоен звания «Герой Советского Союза», затем Москва - Северная Америка (1939). У Ц. Леджинова летчики сравниваются с орлами («йэрд нисэчнр»), Автор вначале задается риторическим вопросом, чьи самолеты летят выше и дальше всех, затем воздает хвалу В. Коккинаки: «Коккинак мослсндэн ицлтэ, / Коккинак оодэн ниснэ, / Урнам йарин эрдм / Ухалсан уулД шицгэнэ» [Лежнэ 1937, 2]. («У Коккинаки решительная вера, Коккинаки летает выше, в руках знающего мастера задуманное претворяется в деяниях»). Так одерживается новая победа (букв, оседлана победа), так возникает новое предание: «Шин диилйн тохгдна, / Шин тууж; секнэ» [Лежнэ 1937, 2]. Муутл Эрдниев славит полярников (ледокол «Ермак», Папанин), летчика Владимира Коккинаки: «Айарин тецгсин азд дольган / Коккинаки ящврт эргднэ!» [Эрднин 1938а, 3]. («Буйные волны воздушного моря расступаются перед крыльями Коккинаки»), Метафора (крылья Коккинаки) относится как к самолету, так и к его летчику в мифопоэтическом дискурсе. «Древняя охотничья жизнь, охотничьи представления находят выражение в архаических сказочно-эпических мотивах превращения в фольклоре монгольских народов. Связанность с охотничьей жизнью обуславливает превращения героев в различных зверей и птиц (в оленя, в джейрана, в белку, в горностая, в ястреба, в орла и т.д.). Типическими являются фольклорные мотивы превращения героя в определенного зверя или птицу, чтобы пересечь океан, земные пространства, взобраться на горную вершину, поймать душу мангаса» [Селеева 2020а, 62]. В стихотворении «Папанинцнрт» («Папанинцам», 1938) Лиджи Хони-нова (1917-1942), подробно описав историю полярной экспедиции, назвал папанинцев героями времени, призывая воспеть их неслыханные ранее богатырские подвиги, их прославленную победу: «Алдр баартмударн ду-улцхай. / Туужд соцсгдад уга, / Туургсн ик диилврта» [Хоньна Л. 1938, 1].
В четвертую группу входят стихи, адресованные женскому экипажу В. Гризодубовой: «АЬарч куукдт» («Девушкам-летчицам», 1938) Санджи Эрдюшева [Эрдушэ 1938, 3], «Живртэ куукд» («Крылатые девушки», 1938) Гари Шалбурова [Шалвра 1938, 1], «Баатр куукд» («Девушки-героини», 1938) Пюрви Джидлеева [Жщдлэн 1938, 1], «Онр орна зормг урдуд» («Отважные дети большой страны», 1938) Муутла Эрдниева [Эрднин 1938b, 3], «Нурвн экч» («Три сестры», 1938) Эренцена Лиджиева (1910-1980) [Лижип 1938, 1]. Гендерный аспект здесь, в отличие от стихотворений, посвященных мужскому экипажу летчиков, заявлен в актуализации женского начала, в освоении ранее мужской профессии: «Девушкам-летчицам», «Крылатые девушки», «Девушки-героини», «Три сестры». С. Эрдюшев назвал летчиц любимыми детьми партии: «Партин эцкр / урдуд: / Полина, Вера, / Марина» [Эрдушэ 1938, 3], при этом перепутав имя Гризодубовой (вместо Валентина - Вера). При этом поэт подчеркнул, что, совершив беспосадочный перелет, они «Аав Сталина / даалЬвриг / Алдр зормгэр / куцэв» [Эрдушэ 1938, 3]. («Выполнили задание Сталина-отца с известной отвагой»), Несмотря на туман, ветер, долгий путь, не отступив, они приземлились в Архангельске, показав свою выучку. О сталинском задании в своей песне сказал и П. Джидлеев: «Аав Сталин даалЬвриг / Алдр диилвртэЬэр куцэцхэв» [Жидлэп 1938, 1]. («Задание Сталина-отца выполнили со знаменитой победой»), В отличие от С. Эрдюшева, П. Джидлеев назвал летчиц по фамилиям, выделив М. Раскову как храброго штурмана, актуализировал название самолета «Родина», уточнил, что начало беспосадочного перелета началось из Москвы, указал на сложные погодные условия днем и ночью. Использовав слово «самолет», поэт в одном и том же тексте «Баатр куукд» («Девушки-героини») называл летчиц героями то по-русски, то по-калмыцки («героймуд»), «Диилврин одр ирвэс / Думбр героймудм вено. / Диилврин эзн героймудм / Делкэд нерэрн туурна» [Жидлэп 1938, 1]. («С каждой победой день ото дня растут мои прославленные герои. Имена моих героев-победителей известны всему миру»). Как И. Джидлеев, Э. Лиджиев назвал всех летчиц по фамилиям, также выделив мастерство штурмана М. Расковой, но уточнив маршрут: Москва - Дальний Восток, приземление в тайге, прибытие в село Керби Хабаровского края. Самолету «Родина» поэт дал традиционный эпитет «болд» («стальной»). Так же, как С. Эрдюшев и И. Джидлеев, Э. Лиджиев подчеркнул, что летчицы выполнили задание Сталина-отца: «Эцк Сталина даалЬвр / Эдн цагтнь куцэлэ» [Лижип 1938, 1], что вся страна и Сталин-отец рады этой победе, не знающей примеров, трех сестер-героинь. Муутл Эрдниев в стихотворении «Онр орна зормг урдуд» («Отважные дети большой страны», 1938), в отличие от других поэтов, не перечислил летчиц ни по имени, ни по фамилии, назвал их отважными, храбрыми девушками-героинями, сравнив их с орлицами, уточнив время полета (26 часов). Также он актуализировал роль Сталина в успешном завершении полета: «Алдр Сталинэннь даалЬвринь / Ончта сэднэр куцэв», заключив, что вся страна «Баатр урдэн йерэв» [Эрднин 1938b, 3], т.е. высказала благопожелания (йорэл). Здесь магтал (восхваление) соединяется с йорялом (благопожеланием). Г. Шал-буров в стихотворении «Крылатые девушки», назвав трех летчиц по фамилиям, также сравнил их с ястребами, расправившими крылья над страной. Риторическими вопросами о том, когда раньше летали девушки, где таких могли отыскать в старых преданиях, он тут же заверяет, что не было таких примеров раньше, не знала их Америка, Германия, Япония. Это советские девушки - способные, храбрые, только такие пусть рождаются в нашей семье-стране. Поэт приветствует их, призывая их лететь все выше и дальше, ведь все подвластно их рукам. Кольцевой композицией автор вводит имя Сталина, великого отца, радующего победам детей, расправивших крылья в полете: «Дуувр, ДУ¥ВР ¥РДНЬ / Живрэп делж; ниснэ! / Алдр аав Сталин / Инэмсклж байсна» [Шалвра 1938, 1]. Три летчицы за этот подвиг-рекорд после полета были удостоены звания Героя Советского Союза в 1938 г.
Памяти погибших русских летчиков посвящены стихи Б. Дорджиева «Чкалов мартгдшгоч» («Чкалов не забудется», 1938) [Дорящн 1938b, 1], Л. Инджиева: «Зормг баатр» («Отважный герой», 1939) [Ипжип 1992а, 16] и «Осипенко Полинад» («Полине Осипенко», 1939) [Ипжип 1992b, 17] в связи с гибелью А. Серова и П. Осипенко во время тренировочного полета, «Шуд летчик болнав» («Стану только летчиком», 1941) [Ипжип 1941b, 4], где В. Чкалов - пример для подрастающего поколения. Вспоминая авиационные подвиги В. Чкалова в 1936-1937 гг, Б. Дорджиев печалится после трагической гибели прославленного летчика 15 декабря 1938 г. во время испытания самолета, называя его ястребом - мощной птицей, уверяя, что героя никогда не забудут, он навсегда останется примером. Его бессмертное место займут сотни последователей, пройдут неоткрытыми путями сталинского маршрута: «Сэкгдэд уга хаалЬсиг / Сталина маршру-тар илткхвдн!», наши сталинские ястребы сотнями будут летать в небе: «Мана Сталинск харцхс / МицЬэдэр аЬарт эрвлзх!» [Доржип 1938b, 1]. В тексте летчик назван Валерием, а также полностью при обращении к нему поэта - Валерий Павлович Чкалов.
Другому трагическому событию - гибели А. Серова и П. Осипенко во время совместного испытательного полета - Л. Инджиев посвятил отдельные стихи в 1939 г. Первое произведение, напечатанное в 1940 г. в журнале «Улан туг», вначале называлось «Серов Анатолийд» с посвящением «Тууг гундлта кевэр укснднь» («Анатолию Серову: его печальной гибели»), в републикации было переименовано: «Зормг баатр» с посвящением «Анатолий Серовд нерэдгдв» («Отважный герой. Посвящается Анатолию Серову»), Называя его лучшим среди комсомольцев, вышедшего из рабочей уральской молодежи в летчики, поэт обращается к Серову, сравнивая его с ястребом («Алдр харцх боллач» = «Стал знаменитым ястребом»). Автор вводит в текст похвалу подруги Серова, вспоминает его подвиги, о том, как любимые наши руководители славили летчика: «Эцкр мана Бардачнр / Магтал энунд питало» [Инжин 1992а, 16], как весь народ славил своего героического сына: «БалЬсд, селэдин олн-эмтн / Баатр ковуБан магтла» [Инящн 1992а, 17]. Как и Б. Дорджиев, Л. Инджиев подчеркивает жизнь Серова как пример: «Томр зурктэ ковудм / Торэд, осад баацхана» [Инжин 1992а, 17]. («Мои юноши, с решительными сердцами рождаясь, растут»); букв. с железными сердцами («Томр зурктэ»). Ту же уверенность, что после внезапной трагической гибели Полины, ее прекрасный пример героини повлияет на появление таких же сильных девушек, готовых подражать ей, выражает поэт в стихотворении, адресованном П. Осипенко. Авторы всех трех стихотворений подчеркивают преждевременную смерть летчиков, их молодость, гибель во время испытательных полетов, их прижизненную заслуженную славу.
Наконец, если указанная баллада Г. Даваева адресована вымышленному персонажу - калмыцкой летчице, то поэма Э. Кектеева - военному летчику-истребителю Василию Дармаеву: «Дармин ковун Нарма» («Нарма, сын Дармы», 1941) [Коктэн 1941, 4]. Старший лейтенант Василий Сангад-жиевич Дармаев (г.р. 1914) погиб во время Великой Отечественной войны 20 мая 1942 г. в воздушном бою под Батайском. См. подробнее: [Ханинова 2021].
Заключение
Подводя итоги, отметим, что в калмыцкой поэзии прошлого столетия жанр «магтал» относительно авиационного дискурса характеризуется в аспекте указанной второй тенденции. Во-первых, в исследованных репрезентативных текстах нет ни в заглавии, ни в подзаголовке обозначения «магтал» («восхваление, величание»), непосредственного следования фольклорному аналогу. Во-вторых, хвалебная лирика, представленная в основном стихами и песнями-маршами, по своей авиационной тематике, типологии героя-летчика, вождя-учителя, небесной техники, мифопоэтическим комплексом близка к фольклорной традиции. В-третьих, эпическая характеристика крылатого коня-аранзала воплотилась в модификации образа самолета как летающего коня, как птицы (орла, коршуна, ястреба), в том числе рукотворной - железной, стальной. Орнитологическая метафора в авиационном дискурсе как инструмент конструирования политического мифа способствовала созданию фразеологизма «сталинские соколы», с заменой у калмыцких поэтов соколов на ястребов («сталинск харцхс»). Восхваление конкретных авиационных рекордов, подвигов полярников и летчиков в освоении воздушного пространства и географических широт, главных героев эпохи середины 1930-х - начала 1940-х гг, прославление страны в творчестве калмыцких поэтов, с одной стороны, передавало общий патриотический пафос и трудовой энтузиазм, с другой стороны, отразило советскую мифологию о «Великой семье», архетипы Сталина-отца, Родины-матери, детей-героев. Государственный институт героев демонстрировал переход от исключительного к массовому, коллективному формированию феномена подвига на социалистическом поприще. Величание летчиков в гендерном аспекте манифестировало приобщение женщин к мужским профессиям, но в истории калмыцкой авиации не было профессиональных летчиц. Трагическая гибель нескольких русских авиаторов в лирике калмыцких поэтов явила синтез жанра магтала (величания) и йоряла (благопожелания) памяти героев. Русская безэквивалентная авиационная лексика вошла в национальный язык, вытесняя калмыцкие неологизмы (нисэч = летчик, аЬарч = летчик, нискл = самолет).
Список литературы Жанр «магтал» в калмыцкой поэзии ХХ в. Статья третья
- Даван Һ. Хѳѳтин баллад (Тасрхань) // Улан баhчуд. 1937. Январин 9. Х. 1.
- Дендән А. Ар полюс // Улан хальмг. 1937. Августин 22. Х. 2.
- Дорҗин Б. Болд шовун // Ленинǝ ачнр. 1938. Майин 20. Х. 4.
- Дорҗин Б. Дамшлһн болн белдлһн // Улан баhчуд. 1939. Августин 18. Х. 1.
- Дорҗин Б. Чкалов мартгдшгоч // Улан баһчуд. 1938. Декабрин 21. Х. 1.
- Җидлǝн П. Баатр күүкд // Улан хальмг. 1938. Октябрин 16. Х. 1.
- Җидлǝн П. Сталинск харцхс // Ленинǝ ачнр.1938. Апрелин 22. Х. 4.
- Инҗин Л. Болд харцхсин парад // Улан баhчуд. 1941. Февралин 23. Х. 1.
- Инҗин Л. Зɵрмг баатр // Инҗин Л. Хойр ботьта суңhгдсн үүдǝврмүдин хураңhу. Элст: Хальмг дегтр hарhач, 1992. 1-гч боть. Х. 16–17.
- Инҗин Л. Осипенко Полинад // Инҗин Л. Хойр ботьта суңhгдсн үүдǝврмүдин хураңhу. Элст: Хальмг дегтр hарhач, 1992. 1-гч боть. Х. 17.
- Инҗин Л. Шуд летчиком болнав // Улан баһчуд. 1941. Апрелин 24. Х. 4.
- Көктән Э. Дармин кɵвүн Нарма // Улан баhчуд. 1941. Майин 18. Х. 4; Майин 21. Х. 4.
- Көктән Э. Мана цагин hǝрднр // Улан хальмг. 1938. Августин 18. Х. 2.
- Көктән Э. Элә // Улан баhчуд. 1935. Ноябрин 7. Х. 4.
- Леҗнǝ Ц. Ɵɵдǝн, җиңгс холд // Улан хальмг. 1937. Январин 1. Х. 2.
- Лиҗин Э. Һурвн экч // Улан баhчуд. 1938. Ноябрин 29. Х. 1.
- Нармаев М. Комсомол на крыльях // Поэты Калмыкии / Сост. Л. Инджиев. М.: Сов. писатель, 1958. С. 131–132.
- Нарман М. Аhарин комсомол // Улан хальмг. 1938. Октябрин 29. Х. 3.
- Нарман М. Нисǝч // Улан хальмг. 1936. Сентябрин 25. Х. 4.
- Сǝн-Белгин Х. Дуул, иньгм // Улан баhчуд. 1936. Февралин 13. Х. 1.
- Хоньна Л. Папанинцнрт // Ленинә ачнр. 1938. Майин 23. Х. 1.
- Хоньна М. Дәәч марш // Улан баhчуд. 1938. Февралин 23. Х. 4.
- Шалвра Һ. Авиацин дун // Улан хальмг. 1939. Август сарин 15. Х. 1.
- Шалвра Һ. Җивртә күүкд // Улан баhчуд. 1938. Октябрин 16. Х. 1.
- Шалвра Һ. Өлгән күүкдт // Ленинǝ ачнр.1940. Мартын 7. Х. 4.
- Эрднин М. Комсомолд нерǝдсн дун // Улан хальмг. 1938. Октябрин 29. Х. 3.
- Эрднин М. Ɵнр орна зɵрмг үрдүд // Улан хальмг. 1938. Октябрин 22. Х. 3.
- Эрдүшә С. Аһарч күүкдт // Улан баhчуд. 1938. Июлин 12. Х. 3.
- БАМРС – Большой академический монгольско-русский словарь / отв. ред. Г.Ц. Пюрбеев. Т. II. Д–О. М.: Academia, 2001. 536 с.; Т. IV. Х–Я. М.: Academia, 2002. 532 с.
- Гюнтер Х. Архетипы советской культуры // Соцреалистический канон: сборник статей. СПб.: Академический проект, 2000. С. 743–784.
- Гюнтер Х. Сталинские соколы (Анализ мифа 30-х годов) // Вопросы литературы. 1991. № 11–12. С. 122–141.
- Жижян Б. Краткий калмыцко-русский словарь «Yгин эрке». Элиста: АПП «Джангар», 1995. 190 с.
- Загидулина Т.А. Ни ввысь, ни свыше. Авиационный дискурс в русской литературе 20-х-30-х гг. ХХ в. Красноярск: КГПУ им. В.П. Астафьева, 2019. 208 с.
- Загидулина Т. А. «Сталинские соколы» – орнитологическая метафора в авиационном дискурсе как инструмент конструирования политического мифа // Политическая лингвистика. 2016. № 4(58). С. 176–180.
- Калмыцко-русский словарь / под ред. Б.Д. Муниева. М.: Русский язык, 1977. 768 с.
- Кларк К. Сталинский миф о «Великой семье» // Вопросы литературы. 1992. № 1. С. 83–93.
- Козлова И.В. «Сталинские соколы»: тоталитарная фразеология и «советский фольклор» // Антропологический форум. 2010. № 12. С. 1–10.
- Лейбович О.Л. «Мы беззаветные герои все…»: героический дискурс и культ знаменитостей в 1930-е годы // Вестник Пермского университета. 2022. Вып. 3(58). С. 173–180.
- Лысакова Е.Н. Проблема развития имиджа авиатора: историко-психологический анализ // Инновации в образовании. 2013. № 9. С. 91–103.
- Манджикова Б.Б. Хальмг орс терминологическ толь (урhмлмудын болн мал-адусна нерǝдлhн). Калмыцко-русский терминологический словарь (флора и фауна). Элиста: КИГИ РАН, 2007. 98 с.
- Ойратский словарь поэтических выражений / факсимиле рукописи, транслитерация, введение, перевод с ойратского; словарь с комментариями, приложения Н.С. Яхонтовой. М.: Вост. лит., 2010. 615 с.
- Пюрбеев Г.Ц. Толковый словарь калмыцкого языка: на калм. и рус. яз., в 2-х т. Т. II. Элиста: АУ РК «РИА «Калмыкия», 2022. 590 с.
- Пюрбеев Г.Ц. Эпос «Джангар»: культура и язык (=Җаңhр дуулвр: сойл болн келн) / на рус. и калм. яз. 2-е изд., перераб. Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2015. 280 с.
- Селеева Ц.Б. Реликты охотничьего уклада и промысла в фольклорной традиции калмыков и народов трансграничных регионов. Статья первая // Новый филологический вестник. 2020. № 2(53). С. 58–74.
- Селеева Ц.Б. Реликты охотничьего уклада и промысла в фольклорной традиции калмыков и народов трансграничных регионов. Статья вторая // Новый филологический вестник. 2020. № 3(54). С. 348–364.
- Тодаева Б.Х. Словарь языка ойратов Синьцзяна (По версиям песен «Джангара» и полевым записям автора). Элиста: Калм. кн. изд-во, 2001. 493 с.
- Ханинова Р.М. Баллада о войне в калмыцкой поэзии ХХ в. // Новый филологический вестник. 2019. № 1(48). С. 194–206.
- (a) Ханинова Р.М. Жанр «магтал» в калмыцкой поэзии ХХ в. Статья первая // Новый филологический вестник. 2022. № 2(61). С. 413–429.
- (b) Ханинова Р.М. Жанр «магтал» в калмыцкой поэзии ХХ в. Статья вторая // Новый филологический вестник. 2022. № 3(62). С. 435–448.
- Ханинова Р.М. Калмыцкая поэзия ХХ века: поэтика лирических и лироэпических жанров малой формы. Элиста: КалмНЦ РАН, 2021. 504 с.