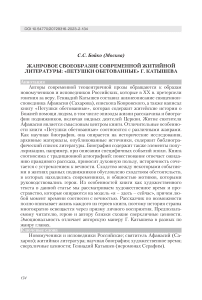Жанровое своеобразие современной житийной литературы: "Петушки обетованные" Г. Катышева
Автор: Бойко С.С.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (65), 2023 года.
Бесплатный доступ
Авторы современной теоцентричной прозы обращаются к образам новомучеников и исповедников Российских, которые в ХХ в. претерпели гонения за веру. Геннадий Катышев составил жизнеописание священноисповедника Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского, а также написал книгу «Петушки обетованные», которая содержит житейские истории о Божией помощи людям, в том числе эпизоды жизни рассказчика и биографии подвижников, включая видных деятелей Церкви. Житие святителя Афанасия является смысловым центром книги. Отличительные особенности книги «Петушки обетованные» соотносятся с различными жанрами. Как научная биография, она опирается на исторические исследования, архивные материалы, опубликованные источники, содержит библиографический список литературы. Биография содержит также элементы популяризации, например, при описании специфичных событий эпохи. Книга соотносима с традиционной агиографией: повествование отвечает ожиданию правдивого рассказа, приносит духовную пользу, историчность сочетается с устремлением к вечности. Сходство между некоторыми событиями в житиях разных подвижников обусловлено сходством обстоятельств, в которых находились современники, и общностью мотивов, которыми руководствовались герои. Из особенностей книги как художественного текста в данной статье мы рассматриваем художественное время и пространство, которые опираются на модель «я - здесь - сейчас», причем любой момент времени соотнесен с вечностью. Рассказчик по возможности полно описывает жизнь каждого из героев книги, поэтому история страны многократно освещается через призму личного восприятия. Предполагаемому читателю, герою и автору близки схожие сверхличные ценности. Эмоциональность отличает авторскую манеру Г. Катышева в разных по жанру главах.
Новомученики и исповедники российские, святитель афанасий (сахаров), житийная литература, научная биография, художественное время, сверхличные ценности, геннадий катышев (иеромонах серафим)
Короткий адрес: https://sciup.org/149143516
IDR: 149143516 | DOI: 10.54770/20729316-2023-2-134
Текст научной статьи Жанровое своеобразие современной житийной литературы: "Петушки обетованные" Г. Катышева
New Martyrs and Confessors of Russia; St. Athanasius (Sakharov); hagiog-raphic literature; scholarly biography; artistic time; supreme value; Gennady Katyshev (hieromonk Seraphim).
На протяжении ХХ в. в Советской России в условиях массового террора и гонений безвинно пострадали миллионы людей. Среди них служители и верующие Православной Церкви, которые, будучи нередко обвинены по «политическим» статьям, в действительности подвергались террору за верность религиозным убеждениям. Тот, кто сохранил верность до конца, совершил тем самым подвиг исповедничества.
В постсоветской время наука получила больше возможности исследовать жизнь старших современников, ставших жертвами террора, а Церковь – совершать канонизацию исповедников веры. Появляется и большое количество книг для чтения, посвященных жизнеописанию героев. «Причем налицо жанровое разнообразие текстов, обращенных к идее святости: от житий, тяготеющих к строго канонической форме, до повестей белле-тризованного характера и собственно художественной духовной прозы» [Дорофеева 2019, 127].
Жития святых как жанр ассоциируются у современного читателя с седой древностью, внешние приметы которой порой стилизуют писатели-знатоки, предаваясь «деконструкции времени» [Кузнецов 2018, 395].
Действительно, ныне древний жанр жития как один из самых формализованных, ориентированных на канон, встречается редко. «И, безусловно, современная агиография испытывает активное влияние сложившейся в Новое время литературной традиции, форм, уже утвердившихся в современном секулярном эстетическом сознании: индивидуализации, психологизации, стиля мемуаристики, жанра биографии» [Дорофеева 2019, 131].
Для новых текстов, которые свидетельствуют о святости подвижника и при этом обладают чертами секулярной литературы, предложен термин «агиобиография» [Дорофеева 2019, 140].
Применительно к нашему материалу удобнее употреблять гипероним, – понятие «житийная литература» [Андроник (Трубачев) 2013], поскольку, по нашим наблюдениям, книги, посвященные святым и святости ХХ в., значительно разнятся по форме и совокупность отличительных особенностей в каждом конкретном произведении иная [Бойко 2021, 185–186].
Рассмотрим особенности современной житийной литературы на примере книги Геннадия Катышева «Петушки обетованные». Ее автор, в прошлом летчик, авиаконстуктор и член сборной страны по высшему пилотажу, писал статьи и рассказы, а во второй половине 1980-х гг. опубликовал научно-популярные книги-жизнеописания, в частности об И. Сикорском, в котором писатель нашел близкого по духу человека. Игорь Сикорский не только конструировал самолеты, но и создал ряд религиозно-философских трудов, размышляя о смысле жизни земной и о «тайне перехода на высший уровень жизни» [Катышев 2000]. Таким размышлениям будет посвящено и дальнейшее творчество Г. Катышева. В 2017 г. писатель принял монашеский постриг с именем Серафим.
Первая по времени книга нового этапа – «На рассвете души» (1999). Автор обращается к сюжетам, связанным с Владимирской землей, и в частности с Петушками, где в советское время верующие смогли сохранить действующий Храм и подвизаться в молитве.
В центре следующей книги, «Петушки обетованные» (2002), – образ святителя Афанасия, епископа Ковровского, который провел в Петушках последние годы жизни.
На основании смыслового единства две книги были объединены, и новая книга «Петушки обетованные» вышла во Владимире в 2005 г., иллюстрированная фотографиями из архивов. Затем она многократно переиздавались, стереотипно и со значительными дополнениями. Мы остановимся на издании 2005 г., в котором уже в полноте проявлены признаки житийной литературы новейшего времени.
Глава «Владыка» – жизнеописание владыки Афанасия – вошла и в книгу «Славы Божией ревнитель» [Славы Божия… 2006], которая содержит также избранные труды святителя, две поздних автобиографии, справочно-библиографические материалы. Г. Катышев указан здесь как составитель. Тем самым, глава «Владыка» с незначительными изменениями включена и в книгу «Петушки обетованные», и в книгу, которая по составу и по типу авторства соответствует современным изданиям житий святых.
Главный герой «Петушков обетованных» – святитель Афанасий Сахаров (1887–1962), епископ Ковровский. Был пострижен в монашество в 1912 г., участвовал в работе исторического Поместного Собора Православной Церкви в 1917–1918 гг. С 1922 по 1951 г. с короткими перерывами находился в тюрьмах, лагерях и ссылках по обвинению, например, «в агитации и будировании масс» [цит. по: Косик 2009] против мероприятий советской власти. Только в 1955 г. друзья смогли забрать владыку из казенных учреждений и привезти в Петушки, где он получил возможность совершать богослужения и вернулся к трудам по составлению церковных служб, к деятельной переписке и благотворительности.
Глава «Владыка» – центральная по смыслу и финальная по расположению в композиции книги «Петушки обетованные». К биографии Владыки подводят описания других героев – как видных деятелей, так и подвижников веры, известных лишь в узком кругу. Автор по возможности подробно описывает события их жизни.
Как биограф, он заостряет внимание на значимости трудов Владыки и на смысле его жизненного подвига.
Г. Катышев со ссылками опирается на литературу и опубликованные к тому времени источники, в частности:
– Труды владыки Афанасия, например, «Настроение верующей души по Триоди Постной» (М., 1997);
– Собрание писем святителя (М., 2001);
– Воспоминания современников, например, Сергея Фуделя;
– Научные труды, например, Ольги Косик «Из истории Владимирской епархии (1917–1923)» (М., 2000);
– Материалы из архивов Владимирской епархии и частных лиц.
Книга снабжена списком использованной литературы и источников [Катышев 2005, 294].
Таким образом, по признаку документальности книга «Петушки обетованные» соответствует жанру научной биографии.
В то же время автор прибегает к приемам популяризации. Это необходимо, поскольку современный читатель зачастую не осведомлен о бытовых реалиях церковной жизни, которые сто лет назад были известны всем из повседневной жизни.
Например, рассказано, как Владыка Афанасий «случайно» дежурил в храме, когда в 1919 г. вынужденно выполнялось постановление Наркомата юстиции о вскрытии мощей святых. «В храме расставили длинные столы, покрытые пеленами, которыми обычно накрывались гробы усопших. На них были разложены мощи <...> Как только открылись двери, за которыми уже ждала любопытствующая толпа, иеромонах Афанасий громко возгласил: “Благословен Бог наш!” – и в ответ под сводами древнего собора вознеслось звонкое “Аминь” <...> Входящий народ стал креститься, благоговейно подходить к мощам, класть поклоны и ставить свечи – предпо- лагаемое поругание святынь обратилось в торжественное богослужение» [Катышев 2005, 209–210].
Поведение верующих и последование богослужения здесь описаны так, что их общий смысл понятен читателю, не имеющему соответствующего опыта. Называние действий ( толпа ждала, иеромонах возгласил, вознеслось “Аминь”, народ стал креститься ) преобладает над называнием процесса ( богослужение ). В то же время показано, что иеромонах и народ в 1919 г. были участниками понятного, привычного для них действа, которое противопоставлено кощунственному новшеству.
В плане адресации житийная литература, как и научно-популярная книга, обращена к читателю-другу. Эта очевидная предпосылка подчеркнута рядом приемов.
Рассказчик часто объединяет себя и читателей местоимением «мы». Например, когда он как бы приближается к пониманию смысла событий, их значения: «А мы только сейчас можем оценить насущную необходимость и тогда, и теперь обращения за помощью к русским святым – нашим естественным защитникам <...>» [Катышев 2005, 197].
В сочетании с субъектом размышлений, обозначаемым как «мы», автор задается вопросами, которые получают ответ. Так, он заостряет внимание на значимости одного из свершений Владыки – составления службы Всем святым, в земле Российской просиявшим: «Для нас сейчас проясняются удивительные вещи! Новая полная служба. Кому? Всем русским святым. Обсуждается где? В тюрьме. И состоялась впервые она там же. Значит, не существует преград и для нас молиться нашим святым в полной мере, обращаться к ним за помощью и защитой в наших “лютых обстояниях”» [Катышев 2005, 213].
Обращенный к себе и к другу – «к нам» – риторический вопрос употребляется и в ситуациях, когда ответ носит характер предположения, которое не может быть прояснено до конца. Подобная фигура выражает глубокое доверие между единомышленниками в ситуации общих сомнений и тревог: «Что же это значит для нас? А, наверное, матушка напомнила нам, как это важно – прощать друг друга» [Катышев 2005, 126].
Формы местоимения первого лица во множественном числе также широко употребляются в двух видах обращений. Во-первых, это обычные в христианской молитве формы местоимения «мы», значение которого в контексте сужается до круга лиц, причастных к событиям, либо до автора и читателей: «Дай нам, Господи, способность видеть вокруг себя спасительные примеры исполненных Святого Духа людей, таких, как светлой памяти Михаил Павлович Гришин» [Катышев 2005, 126].
Во-вторых, это как бы общее – «от нас» – молитвенное обращение к подвижникам, которые в земной жизни помогали рассказчику, друзьям, святителю Афанасию. Например, к монахине Маргарите (1898–1964), которая всю жизнь посвятила деятельной любви к Богу и к людям: «Матушка Маргарита! Помяни нас грешных во Царствии Небесном, помоги нам в скорбях и печалях, как ты это делала на земле. А мы о тебе помним и молимся» [Катышев 2005, 110].
Рассказчик нередко прямо обращается к своему читателю, например, с призывом помолиться о почивших подвижниках: «А ты, читатель, помолись о душе архимандрита Исидора, чтоб не прерывались нити нашей взаимной любви» [Катышев 2005, 160]. Такое обращение часто в православной книге, где сказанное слово мыслится как действенное.
Обращения к различным адресатам, риторические вопросы, восклицания, парцелляция и другие приемы придают повествованию повышенную эмоциональность. Это отличительная особенность писательской манеры Г. Катышева. Она проявляется не только в житийных главах «Петушков обетованных», но и в тех, которые выполнены в жанре научно-популярной биографии (например, посвященные деятельности И. Сикорского) либо в жанре очерка (воспоминания о собственных тренировочных полетах или о достижениях спортсменов-парашютистов). Нет оснований считать повышенную эмоциональность отличительной особенностью агиографических либо художественных текстов.
Сходство житийной литературы с научно-популярной книгой проявляется в особенности в том, что читателю-другу, герою и автору близки схожие сверхличные ценности, которые герой утверждал в своей деятельности. В жизнеописаниях художников или композиторов это искусство, в биографиях ученых – научное познание. В жизнеописании исповедника веры биограф говорит о ценности Православия, цитируя слова епископа Афанасия из составленной им службы: «Русь Святая, храни веру православную, в нейже тебе утверждение» [Катышев 2005, 197]. Слова эти предпосланы и всей книге в качестве эпиграфа. Заложенная в эпиграфе мысль раскрывается в содержании, подобно тому, как это бывает и в биографиях деятелей других сфер жизни.
Наряду с особенностями, общими для житийной литературы и научно-популярной биографии, отметим в «Петушках обетованных» черты, напоминающие о житиях святых как о жанре традиционном.
Современная житийная литература основана на представлениях, приемах и задачах, которые были присущи древней словесности: «<...> историчность в сочетании с устремленностью к вечности, отказ от вымысла, назидательность и поиск духовной пользы были определяющими особенностями древнерусской литературы» [Каравашкин 2011, 26].
В главе «Владыка», а также в главах, посвященных монахам, вынуждено подвизавшимся в советское время в миру («Игумен Платон», «Архимандрит Исидор», «Монахиня Маргарита», «Монахиня Варвара» и других), объектом повествования является жизненный подвиг исповедников веры; это жития-биос.
Назначение книги – принести духовную пользу, укрепить верующих в борьбе со злом, утвердить в сознании читателя сверхличные ценности, которые отстаивал герой: «Литература по определению была душеполезной» [Каравашкин 2011, 26]. Этому способствует пример старших современников, а также советы конкретного или общего характера: «Надо иногда останавливаться, оглядываться вокруг, сверять направление с компасом, который изначально дается каждому из нас, с величайшей драгоценностью – совестью» [Катышев 2005, 11].
Содержание жития касается центральных вопросов человеческой жизни. Подвижник на определенном этапе совершает осознанный выбор между добром и злом. Так случилось, например, в ноябре 1926 г. в Иваново, куда был переведен епископ Афанасий: «Власти предложили владыке уехать из епархии или прекратить управление церковными делами. Епископ отказался оставить вверенную ему паству. Он только заметил: “Если виновен, судите”» [Катышев 2005, 11]. Владыка понимал, что за его отказом от предложения властей последует очередной арест, который состоялся уже через два месяца, в январе 1927 г. Однако он руководствовался тем, что добровольно оставлять паству нельзя.
Жанру жития соответствуют и особенности книги, отмеченные выше как признаки научно-популярной биографии. Например, включение молитвы, которую автор от имени народа обращает к святым подвижникам, было известно в житиях с древних времен: «Временнáя открытость житийного рассказа имела глубокий этический смысл <...> составитель жития нередко общается со святым в молитвах, осознанно преодолевая пространство и время, обращаясь к подвижнику как к живому, как к современнику, который видит и слышит все, что происходит в настоящем» [Каравашкин 2011, 22–23].
Как видим, роль риторических фигур обращения далеко выходит за рамки приема экспрессии. Как и в древности, обращения к подвижникам относятся к картине мира, в которой Вечность мыслится как досягаемая из любой точки времени.
Духовный подвиг героя имеет непреходящий смысл: «Герой агиографии в полной мере исполнил свое предназначение, достиг “предела любомудрия”, стяжал благодатные дары <...>» [Каравашкин 2011, 118]. Светское жизнеописание часто обладает подобным же свойством, поскольку герой, как И. Сикорский или другой выдающийся в своей сфере деятель, стремится исполнить свое предназначение, утвердить сверхличные ценности, которыми дорожит он, автор и предполагаемый читатель.
Особо остановимся на некоторых подробностях, которые совпадают в биографиях многих подвижников веры.
Так, святитель Афанасий (Сергей Сахаров) с детства отличался благочестием. Его мать, «как глубоко верующая, очень хотела, чтобы в будущем он стал священнослужителем. Мальчик знал только свой дом да храм <...> В церковь Сережа ходил охотно, тянуло его туда» [Катышев 2005, 200]. Подобную же раннюю воцерковленность, связанную с благочестием родителей, находим в биографиях священномученика Философа Орнатского (1860–1918), священномученика Илариона Троицкого (1886–1929), преподобного Лаврентия Проскуры (1868–1950) и других прославленных новомучеников и исповедников, а также протоиерея Николая Гурьянова (1909–2002), архимандрита Иоанна Крестьянкина (1910–2006) и других подвижников.
Общие черты биографий этих героев связаны с особенностями повседневного уклада, когда благочестивые родители имели возможность прививать детям православную веру и церковные обычаи, а расположенный к этому ребенок мог полноценно участвовать в религиозной жизни. Свидетельства о детстве героев получены биографами из независимых один от другого источников, и черты сходства биографий не являются приемом, но обусловлены сходством обстоятельств.
Подобное же сходство разных биографий находим и на срединном этапе жизни подвижников, когда они подвергались арестам, попадали в тюрьмы и лагеря. Например, те из них, кто пережил одиночное заключение, могли воспринимать его как недолгое облегчение своей участи: «Самый строгий режим был в Лефортовской, однако одиночки для владыки были благом, ему представилась редкая возможность остаться без неприятных соседей. Можно было невозбранно молиться, уйти в себя: одиночки были своего рода затвором для монаха» [Катышев 2005, 233].
Как с иронией писал в частном письме из тюрьмы владыка Иларион Троицкий: «Имею здесь отдельную келью, с достаточным освещением, с почти достаточным отоплением – и все это бесплатно… могу без помехи отдаться своей первой и постоянной любви – науке... Что же поделаешь, если место для науки, интересной и важной для меня, только в тюрьме?..» [цит. по: Священномученик Иларион… 2010, 48]. Доступ заключенного к книгам был в советское время роскошью, но владыку Илариона пытались «всевозможными послаблениями» привлечь к пропаганде церковного раскола [Священномученик Иларион… 2010, 48].
Отношение героя к пребыванию в одиночной камере связано, с одной стороны, с обстоятельствами тюремного заключения, известными читателю по «лагерной прозе» и мемуарам. С другой стороны – с душевным устроением подвижника, для которого изоляция означает ценную возможность молиться, а в исключительном случае даже работать.
Наконец, книга «Петушки обетованные» представляет собою художественный текст. Остановимся здесь лишь на одной его отличительной особенности – на организации художественного времени.
Художественное время – «это не только и не столько календарные отсчеты, сколько соотнесенность событий» [Лихачев 1979, 213]. Еще одна особенность отмечена нами выше – это «временнáя открытость». Рассказчик «осознанно преодолевает пространство и время, обращаясь к подвижнику как к живому, как к современнику» [Каравашкин 2011, 22–23].
Точкой отсчета в художественном времени «Петушков обетованных» является характерное для современной теоцентричной книги [Бойко 2021, 20] исходное положение «я – здесь – сейчас».
Так, первая глава книги – «Рассказы старой монахини» – начинается с указания на место (храм), время (сегодня) и обозначения героев в первом лице (мы): «Сегодня Благовещение, светлый праздник души. После литургии и водосвятного молебна мы выходим из храма» [Катышев 2005, 12]. Далее, тоже в настоящем времени, описана беседа героев в избе, среди икон и фотографий подвижников ХХ в., которых монахиня знала лично.
Интерьер в первой главе указывает на перспективу развертывания «открытого» художественного времени: «на фоне точно определенной исторической эпохи» [ср.: Лихачев 1979, 214], при постоянном обращении к Вечности, и притом через призму личных взглядов.
В рассказах соседствуют разные пласты времени, поэтому события освещаются с разных точек зрения. Так, в главе «Отец Николай» описан 1995 г., когда герои «вознамерились посмотреть церкви и церквушечки в окрестной глубинке России. Они во множестве появились на владимирской земле в первой и второй четверти прошлого [девятнадцатого. – СБ] столетия в благодарность Господу за спасение земли Русской от нашествия иноземцев» [Катышев 2005, 22].
Этот и другие краеведческие экскурсы соотносят обстоятельства разных эпох. Недавнее прошлое с его разрухой и усилиями по восстановлению культуры сопоставлено с первой половиной XIX в., когда храмы сооружались, и с 1812 г., в память которого это делалось.
Указания на текущий день – «здесь – сейчас» – имеются и в описании сугубо личных событий. Например, отец Исидор после молебна узнает, что болящая страдает с детства. Тогда он «весь ушел в молитву. Потом опустил в чашу со святой водой свои четки и окропил уши Анны, просто облил их. С тех пор она про уши забыла. Не беспокоят до сих пор» [Катышев 2005, 22]. Здесь важны не только молитвенность подвижника и чудо исцеления, но и актуальное состояние: Анна здорова до сих пор.
Организация текста в первой части книги – «На рассвете души» – подчинена расширению круга лиц, которые приобщаются к пониманию Вечности, преодолев временные рамки. Герои смогли «сбросить оковы с души и обратить свой взор к Богу <...> Каждодневно ведь являются чудеса, но видит их не каждый» [Катышев 2005, 22].
Организация времени во второй части – собственно «Петушки обетованные» – также связана с приобщением героев к Вечности. Среди них видные деятели Церкви, о которых имеется больше данных, поэтому в биографиях хорошо просматривается также исторический фон.
Первая глава «Храм» задает уже известную нам соотнесенность прошлого (увлекательная история о сооружении Храма в начале ХХ в.) и настоящего времени: «Если вы едете на машине из Москвы во Владимир <...> Прямо у дороги, чуть в стороночке, слева на холме стоит с виду неприметная церковь из красного кирпича» [Катышев 2005, 87].
Следующая глава – «Люди Божии» – это жизнеописания нескольких монахинь. Время в каждой «патериковой новелле» дробится из-за разрывов информации, но воспринимается целостно благодаря соотнесению со смыслом целого – с Богом: «Человек ничего не имел, и даже родственников, а проводы ему учинились торжественные. Значит, Божий был человек» [Катышев 2005, 116].
Следующие четыре главы посвящены четырем деятелям Церкви: это игумен Платон (Климов), архимандрит Исидор (Скачков), архимандрит Иннокентий (Просвирнин) и протоиерей Иосиф (Потапов). Венчает композицию вышеописанная глава о святителе Афанасии. Здесь содержится больше сведений о подвижниках, но организация художественного времени в главах остается такой же. Герой принадлежит Вечности, рассказчик собирает «обычную информацию о нашем современнике» [Катышев 2005, 160], и эти ракурсы не противоречат один другому.
Таким образом, рассказчик проходит жизненный путь с каждым из героев книги. Всякий раз это сопряжено с обстоятельствами советской жизни в ХХ в. Тем самым, читатель многократно «проходит» историю страны. Одновременно развивается религиозная жизнь героев, которые претерпевают невзгоды, получают помощь, возрастают духом – и читатель видит, как Вечность присутствует во времени. Многократно – в крупных или «мелких» деталях, в обращениях к подвижникам – показана связь событий разного времени с моментом рассказывания.
Итак, жанровое своеобразие книги «Петушки обетованные» определяется сочетанием жанровых признаков, присущих как художественной прозе, так и научной и научно-популярной биографии, очерку, древним житиям святых.
Многие художественные приемы, как мы убедились, не противоречат соотнесению их с различными жанрами. Так, «временнáя открытость» присуща и древним житиям, и современной житийной литературе. Непреходящий смысл достижений героя отмечается и в секулярной, и в церковной биографии. Характерные для манеры Г. Катышева экспрессивность и краеведческие экскурсы возможны в каждом из рассмотренных нами жанров. Устройство художественного времени, смысловое и стилевое единство повествования и другие приемы способствуют объединению глав разного жанра в единое целое.
Список литературы Жанровое своеобразие современной житийной литературы: "Петушки обетованные" Г. Катышева
- Андроник (Трубачев), игумен. Житийная литература. XVIII – нач. XX в. // Православная энциклопедия. Т. 19. [2013]. URL: https://www.pravenc.ru/text/182317.html (дата обращения: 06.12.2022).
- Бойко С.С. Книги для бессмертных: Теоцентричная проза православных писателей XX–XXI вв. М.: РГГУ, 2021. 341 с.
- Дорофеева Л.Г. Русская словесность в контексте национальной духовной традиции. Калининград: Издательство Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, 2019. 180 с.
- Каравашкин А. Литературный обычай Древней Руси (XI–XVI вв.). М.: РОССПЭН, 2011. 544 с.
- Катышев Г.И. Религиозные построения авиаконструктора Сикорского // Российский православный информационный интернет-портал Православие.ru. 2000. URL: https://pravoslavie.ru/734.html?ysclid=lbde47at8r795296869 (дата обращения: 07.12.2022).
- Катышев Г. Петушки обетованные. Владимир: Транзит-Икс, 2005. 296 с.
- Косик О.В. Афанасий // Православная энциклопедия. Т. 3. [2009]. URL: https://www.pravenc.ru/text/76846.html?ysclid=lbdokr4t3q470598031 (дата обращения: 22.12.2022).
- Кузнецов И. О старинной картине мира и новой текстуальности // Критика и семиотика. 2018. № 2. С. 395–414.
- Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд. М.: Наука, 1979. 354 с.
- Священномученик Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский: Житие / сост., посл. Елены Птицыной. 2-е изд., испр. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2010. 64 с.
- Славы Божия ревнитель: Житие и труды исповедника епископа Афанасия (Сахарова) /авт.-сост. Г.И. Катышев. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2006. 496 с.