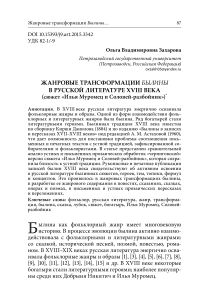Жанровые трансформации былины в русской литературе XVIII века (сюжет «Илья Муромец и Соловей-разбойник»)
Автор: Захарова Ольга Владимировна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.13, 2015 года.
Бесплатный доступ
В XVIII веке русская литература энергично осваивала фольклорные жанры и образы. Одной из форм взаимодействия фольклорных и литературных жанров была былина. Ряд богатырей стали литературными героями. Былинная традиция XVIII века известна по сборнику Кирши Данилова (1804) и по изданию «Былины в записях и пересказах XVII-XVIII веков» под редакцией А. М. Астаховой (1960), что дает возможность постановки проблемы соотношения письменных и печатных текстов с устной традицией, зафиксированной собирателями и фольклористами. В статье представлен сравнительный анализ устных и письменных прозаических обработок «черниговской» версии сюжета «Илья Муромец и Соловей-разбойник», которая сохранила близость к устной традиции. Рукописные и печатные публикации записей былин XVIII века свидетельствуют об активном освоении в русской литературе былинных сюжетов, героев, тем, топики, формул и концептов. Это проявилось в жанровых трансформациях былины, в разработке ее жанрового содержания в повестях, сказаниях, сказках, операх и поэмах, в письменных и устных прозаических пересказах и переложениях.
Фольклор, русская литература, жанр, трансформация, былина, сказка, лубок, сюжет, богатырь, илья муромец, соловей-разбойник
Короткий адрес: https://sciup.org/14748957
IDR: 14748957 | DOI: 10.15393/j9.art.2015.3342
Текст научной статьи Жанровые трансформации былины в русской литературе XVIII века (сюжет «Илья Муромец и Соловей-разбойник»)
Б ы лина как фольклорный жанр имеет многовековую историю. В процессе эволюции былина активно взаимодействовала с фольклорными и литературными жанрами: со сказкой, исторической песней, поэмой, повестью, романом. В XVIII–XIX веках русская литература энергично осваивала фольклорные жанры и образы [1], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15] и др. В XVIII веке некоторые богатыри стали литературными героями; наиболее популярны среди них Добрыня Никитич и Илья Муромец.
Былинная традиция XVIII века известна прежде всего по сборнику Кирши Данилова (1804) 1 и по изданию «Былины в записях и пересказах XVII–XVIII веков» под редакцией А. М. Астаховой 2 .
В сборнике «Былины в записях и пересказах XVII– XVIII веков» А. М. Астахова и В. В. Митрофанова обозначили проблему соотношения опубликованных рукописных текстов с устной традицией, зафиксированной собирателями и фольклористами в XVIII–XX веках. Их интересовало, «есть ли это прозаическая передача былины с точным сохранением всего хода повествования, всей композиции, образов, фразеологии былины, или это уже литературная обработка былинного сюжета, “повесть” на былинные мотивы?» [2, 26]
В рукописях XVIII века тексты с былинными сюжетами и героями называются «Повестями», «Сказаниями», «Историями» (как вариант «Гисториями»), «Сказками». В сборнике опубликованы 26 списков, которые с разной полнотой передают былинный сюжет «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Чаще всего (15 раз) в их названии встречается жанровое обозначение «История» (тексты 7–12, 15–21, 26); 6 рукописных текстов (1–4, 13–14) имеют обозначение «Повесть»; реже (по 2 раза) тексты указаны как «Сказание» (5, 6) и «Сказка» (22, 25). В примечании опубликована еще одна лубочная сказка из сборника «Повествователь русских сказок» 1787 года издания. Соглашаясь с тем, что изменение заглавия зависит «от времени бытования текста: в XVII веке — “Повести” и “Сказания”; в XVIII веке — “Истории” или “Гистории”», А. М. Астахова и В. В. Митрофанова отмечают, что «главная причина появления другого заглавия — изменение самого текста, в целях отличия которого от оригинала писец и давал новое название» [2, 41]. По содержанию все 26 текстов публикаторы разделяют на две основные группы: «се-бежскую» (тексты 1–12) и «черниговскую» (15–26). В «себеж-ской» версии отсутствуют эпизоды болезни Ильи и его встречи с разбойниками, вместо освобождения Чернигова от басурманского войска богатырь освобождает Себеж от трех заморских царевичей, эпизод поединка с Соловьем заканчивается его допросом о казне, князь Владимир именуется князем Всеславьевичем. В «черниговской» версии рукописных пересказов происходит контаминация трех сюжетов: «Илья Муромец и разбойники», «Илья Муромец и Соловей-разбойник» и «Илья Муромец и Идолище Поганое».
По наблюдению А. М. Астаховой и В. В. Митрофановой, «черниговская» версия сохранила значительную близость к устной традиции, а ее краткая редакция была специально подготовлена для лубка, в то же время некоторые из рукописных текстов были списаны с лубочных изданий [2, 55–56].
В заглавии двух текстов стоит слово «Сказка». В одном случае это оправданно. В «Скаску о Илие Муромце и Соло-вее разбоинике», по мнению А. М. Астаховой и В. В. Митрофановой, проникают интонации устной речи 3 . Соглашаясь с их выводами, обратим внимание на то, что повествование содержит трансформированную сказочную формулу «жили-были»: «Как во славном было городе Муроме, в селе Карачарове, жил в нем, был в нем кресянин Иван Тимофеевич» ( Былины , 131).
В сборнике А. М. Астаховой опубликована «История о славном и храбром богатыре Илье Муромце и о Соловье разбойнике» (текст № 20) — текст лубочной сказки из собрания А. В. Олсуфьева, который датируется первой половиной XVIII века. Текст этой лубочной «истории» дословно повторяет «Сказку о Илье Муромце и Соловье разбойнике» 4 , опубликованную Д. А. Ровинским, а также (с незначительными разночтениями) «Историю о славном и храбром богатыре Илье Муромце и о Соловье разбойнике» из сборника А. Н. Афанасьева (текст № 308 5 ), в котором отсутствует передача диалектных особенностей речи сказочника, в повествовании реализована установка на литературный язык, иначе (без деталей) рассказана смерть Соловья-разбойника.
В 1793 году в типографии Богдановича была издана «Сказка о славном и храбром богатыре Илье Муромце» 6 .
Содержание «Сказки» в основном совпадает с содержанием рукописных текстов «черниговской» версии и лубочными сказками, но имеет ряд отличительных черт, что не позволяет говорить о полной тождественности текстов.
В «Сказке о славном и храбром богатыре Илье Муромце» сохранены все эпизоды, характерные для лубочного текста: благословление Ильи Муромца родителями, его встреча с разбойниками, освобождение Чернигова, пленение Соловья-разбойника, наказание старшей дочери Соловья-разбойника, свист Соловья-разбойника в Киеве, встреча Ильи Муромца с каликой и его рассказ о приезде в Киев Идолища, победа над Идолищем при помощи шляпы.
Стиль «Сказки о славном и храбром богатыре Илье Муромце» отличается стремлением к ясности и точности языка. Вот как представлен диалог разбойников в «Сказке» и в «Истории» (разночтения выделены жирным шрифтом):
…и стали между собой говорить , какъ бы имъ того коня отнять, котораго ни въ какихъ градахъ и мѣстахъ не видывали
( Сказка, 4) .
…и стали между собои разговаривать , чтоб лошадь отнять, что «мы такои ни в каторых местах не видывали, а ныне едит на таком добром коне незнаемо какои та человек
( Былины , 121) .
В «Сказке» сохраняются постоянные народно-поэтические эпитеты: збруя ратная , копье булатное , тугой лук , калена стрела , удал добрый молодец и т. д. Однако встречаются их замены. Так, например, в «Сказке» Соловей убивает всех «крепким» или «своим» свистом, тогда как во всех рукописных текстах XVIII века свист Соловья определяется постоянным эпитетом «разбойничий». В лубке он характеризует сердца разбойников, а в «Сказке» 1793 года их сердца названы «ретивыми».
В отличие от рукописных вариантов печатный текст «Сказки» исправлен: в нем реализована установка на литературную речь.
Срав.:
Онъ же усмѣхнувшись сказалъ, не- И усмехнувсис сказал: «Некуды мне куды мнѣ этова добра дѣвать, девать, но естли хатите живы быть, но естьли хотите живы быть, то впе- то вперед не атважтис етава ду- редь не отваживайтесь на меня на- мать! » ( Былины , 121).
падать ( Сказка , 4).
Разное словесное выражение, но одинаковое смысловое значение имеет мотив подготовки Ильи Муромца к битве под Черниговом:
И той великой силы Илья Муромецъ ужаснулся, но положился на волю Божiю и вздумалъ нещадить живота за вѣру Христiанскую
( Сказка , 5) .
И тои великои силе Илья Муромец ужаснулса, однако положил на волю создателя своего, господа бога , и вздумал положить главу свою за веру христианскую
( Былины , 121).
Незначительное изменение в «Сказке» претерпел мотив чествования Ильи черниговцами:
…и благодаренiе Богу возсылаютъ , что послалъ имъ его на защиту , и не далъ всѣмъ напрасно погибнуть отъ великой силы босурманской, и ввели ево въ палаты свои и сотворили славной и богатой пиръ и отпустили его въ путь ( Сказка , 5).
…благодарение господу богу возсыла-ют, что господь прислал нечаянно граду очищение и не дал всем напрасно погибнути от такои силы босур-манския. И взяли ево в полаты своя, и сотвориша велии пир, и отъпустиша его в путь свои ( Былины , 121).
Рядом деталей различается описание Идолища:
…голова у нево въ пивной котелъ, въ плечахъ двѣ сажени, промежъ бровей пять пядей, а промежъ ушей калена стрѣла
( Сказка , 9).
…голова у нево в пивнои котел, в плечах сажень, промеж бровми пядь, промеж ушеи колена стрела
( Былины , 121).
Стилевым атрибутом «Сказки» является отсутствие прямой речи, все диалоги переданы косвенной речью, от лица повествователя:
На Черниговъ градъ, отвѣтствуетъ онъ, и подъ Черниговымъ побилъ войско бусурманское и смѣты нѣтъ, и очистилъ Черниговъ градъ, и оттуда поѣхалъ прямою дорогою и взялъ сильного Богатыря Соловья разбойника, котораго и привезъ съ собою у стрем ени булатнова
( Сказка , 8).
Я, государь, ехал из Мурома на Чернигов град, и под Черниговым побил войско босурманское и сметы нет, и очистил Чернигов град. И оттуда поехал премою дорогою, и взял силнова богатыря Соловья разбоиника, кото-рава и привел с сабои у стремени бу-латнава
( Былины , 121).
В «Сказке о славном и храбром богатыре Илье Муромце» нет диалектных особенностей речи, в ней преобладают глаголы прошедшего времени и совершенного вида.
В приложении к сборнику пересказов и записей былин опубликована «Сказка о славном и храбром богатыре Илье Муромце и Соловье-разбойнике» из сборника «Повествователь русских сказок» (1781). По мнению А. М. Астаховой и В. В. Митрофановой, «Сказка» испытала на себе влияние литературной традиции XVIII века: «Вместе с точным воспроизведением былинного сюжета в краткой редакции “черниговской” версии и заимствованием отдельных выражений наблюдается стилистическое оформление всего повествования в литературной манере “сказочных” сборников XVIII века» 7 . В тексте «употребляются сложные речевые конструкции с обилием деепричастных и причастных оборотов», «наблюдается тенденция к приподнятому, “высокому” стилю», «автор вносит описания совершенно в стиле описаний в волшебно-рыцарских повестях», «характерны также вступление и концовка повествования, тоже в стиле повестей XVIII века» 8 .
«Сказка о славном и храбром богатыре Илье Муромце» 1793 года лишена того возвышенного, высокопарного стиля, который был свойственен многим псевдонародным литературным текстам той эпохи, в том числе и «Сказке» 1781 года. В отличие от рукописных редакций былинных пересказов из сборника А. М. Астаховой в «Сказке» 1793 года реализована установка на литературную обработку былинного текста, уже адаптированного для лубочного издания.
Рукописные и печатные публикации записей былин XVIII века свидетельствуют об активном освоении и усвоении в русской литературе былинных сюжетов, героев, тем, топики, формул и концептов. Это прежде всего проявилось в жанровых трансформациях былины и разработке ее жанрового содержания в повестях, сказаниях, сказках, операх и поэмах, в письменных и устных прозаических пересказах и переложениях.
Примечания
* Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект 15-04-00366 а.
-
1 Первое издание: Древние русские стихотворения. М., 1804. 324 с.; второе: Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым и вторично изданные, с прибавлением 35 песен и сказок, доселе неизвестных, и нот для напева. М., 1818. XL, 425 c.
-
2 Былины в записях и пересказах XVII–XVIII веков / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); изд. подгот. А. М. Астахова (отв. ред.), В. В. Митрофанова, М. О. Скрипиль. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. 320 с.: ил., нот. (Памятники рус. фольклора). Далее: Былины. Ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием страницы в круглых скобках.
-
3 Комментарии // Былины в записях и пересказах XVII–XVIII веков / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); изд. подгот. А. М. Астахова (отв. ред.), В. В. Митрофанова, М. О. Скрипиль. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 278.
-
4 Русские народные картинки / собр. и изд. Д. Ровинский. СПб., 1881. Т. 1. C. 1–7.
-
5 Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: в 3 т. / подгот. Л. Г. Ба-раг, Н. В. Новиков; отв. ред. Э. В. Померанцева, К. В. Чистов. М., 1984– 1985. C. 352–355. (Первое издание: Афанасьев А. Н. Русские народные сказки. М., 1855–1863. Вып. 1–8).
-
6 Сказка о славном и храбром богатыре Илье Муромце и Соловье разбойнике, так же о богатыре Буде Жигуловиче. СПб., 1793. С. 3–10. Далее: Сказка. Ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием страницы в круглых скобках.
-
7 Комментарии. С. 303.
-
8 Там же.
TRANSFORMATIONS
OF THE GENRE OF BYLINA
IN THE RUSSIAN LITERATURE
OF THE 18TH CENTURY
Список литературы Жанровые трансформации былины в русской литературе XVIII века (сюжет «Илья Муромец и Соловей-разбойник»)
- Азадовский М. К. История русской фольклористики: в 2 т. -М.: Учпедгиз, 1958. -Т. 1. -480 с.; 1963. -Т. 2. -364 с.
- Астахова А. М., Митрофанова В. В. Былины и их пересказы в рукописях и изданиях XVII-XVIII вв.//Былины в записях и пересказах XVII-XVIII веков/АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); изд. подгот. А. М. Астахова (отв. ред.), В. В. Митрофанова, М. О. Скрипиль. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. -С. 7-75.
- Благой Д. Д. История русской литературы XVIII века. -М.: Учпедгиз, 1955. -567 с.
- Герлован О. К. О жанре и литературных источниках «Царь-девицы» Г. Р. Державина//Г. Р. Державин и русская литература. -М.: Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН, 2007. -С. 169-179.
- Гистер М. А. Образ Алеши Поповича в русской литературной сказке XVIII -начала XIX века//А. М. П.: Памяти А. М. Пескова. -М.: РГГУ, 2013. -С. 158-183.
- Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века. -М.: Аспект Пресс, 1999. -453 с.
- Елеонский С. Ф. Литература и народное творчество. -М.: Учпедгиз, 1956. -239 с.
- Иезуитова Р. В. Литература второй половины 1820-х-1830-х годов и фольклор//Русская литература и фольклор: первая половина XIX века. -Л.: Наука, 1976. -С. 136-142.
- Корепова К. Е. Русская лубочная сказка. -М.: ФОРУМ, 2012. -464 с.
- Курышева Л. А. Повести о богатырях в «Русских сказках» В. А. Левшина: сказочно-историческая модель повествования. -Новосибирск: Наука, 2009. -152 с.
- Леонова Т. Г. Русская литературная сказка XIX в. в ее отношении к народной сказке: Поэтическая система жанра в историческом развитии. -Томск: Изд-во Томского университета, 1982. -197 c.
- Лупанова И. П. Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX века. -Петрозаводск: Госиздат Карел. АССР, 1959. -503 с.
- Медриш Д. Н. Литература и фольклорная традиция: Вопросы поэтики. -Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1980. -175 с.
- Сиповский В. В. Очерки из истории русского романа: Исследование. -СПб., 1910. -Т. 1. -Вып. 2. -(XVIII в.). -951 с.
- Скрипиль М. О. Народная русская сказка в литературной обработке конца XVII -нач. XVIII в.//Труды Отдела древнерусской литературы. -Т. 8. -М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1953. -С. 308-325.