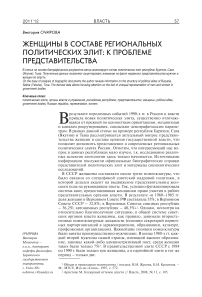Женщины в составе региональных политических элит: к проблеме представительства
Автор: Очирова Виктория Мункоевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 12, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе биографических документов автор анализирует состав политических элит республик Бурятия, Саха (Якутия), Тыва. Полученные данные позволяют акцентировать внимание на факте неравного представительства мужчин и женщин во власти.
Политическая элита, органы власти и управления, российские республики, представительство, женщины
Короткий адрес: https://sciup.org/170165691
IDR: 170165691
Текст научной статьи Женщины в составе региональных политических элит: к проблеме представительства
В результате переломных событий 1990-х гг. в России к власти пришла новая политическая элита, существенно отличаю -щаяся от прежней по ценностным ориентациям, механизмам и каналам рекрутирования, социально-демографическим параме-трам. В рамках данной статьи на примере республик Бурятия, Саха (Якутия) и Тыва рассматривается актуальный вопрос представи -тельства женщин в составе органов государственной власти, что позволит дополнить представление о современных региональных политических элитах России. Отметим, что интересующий нас во -прос в данных республиках мало изучен, т.к. исследование различ-ных аспектов элитологии здесь только начинается. Источниками информации послужили официальные биографические справки представителей политических элит и материалы социологических исследований.
ОЧИРОВА Виктория Мункоевна – к.и.н., докторант кафедры философии Буря т ск ог о государственн ого
В СССР женщины составляли около трети номенклатуры, что было связано со спецификой советской кадровой политики, в которой делался акцент на выдвижение представительниц жен ского пола на руководящие посты. Так, успешно функционировала система квот, предоставлявшая женщинам право участия в работе представительных органов власти. В результате «в 1980—1985 гг. доля женщин в Верховном Совете РФ составляла 35%; в Верховном Совете СССР — 32,8%; в Верховных Советах союзных республик — 36,2%; автономных республик — 40,3%» > . Однако, несмотря на относительно благополучную ситуацию, в общей системе совет ских органов власти женщины, как правило, занимали второсте пенные номенклатурные должности (позиции секретарей первич ных парторганизаций в здравоохранении, образовании, культуре, профсоюзных организациях). Важнейшие позиции номенклатуры были заняты преимущественно мужчинами. В конце 1980-х гг. каж-дый второй мужчина нашей страны, имеющий высшее образова ние, занимал какой либо административный пост, среди женщин таких было только 7%2. В правительственной элите СССР с 1984 по 1990 г. были только три женщины, а в партийной элите в тот же период — только две.
В 1990-х гг. подавляющее большинство политической элиты было по - прежнему представлено мужчинами. «При Ельцине из 145 членов правительства (ранг мини -стров) с июня 1991 по октябрь 1993 г. женщин не было вообще. Общее коли -чество женщин, выбранных в парламент при Ельцине, значительно сократилось. В парламентской элите их — 19 (8%)» 1 . Итоги выборов в Федеральное Собрание РФ, состоявшихся в декабре 1993 г., лишь немного улучшили картину. Низкое пред -ставительство женщин в органах власти отмечалось и на региональном уровне. В целом, на рубеже XX и XXI вв., согласно Реестру государственных должностей федеральных служащих, мужчины зани-мали 94% высших, 85% главных и 68% ведущих должностей2.
Ситуация не изменилась и в первом десятилетии XXI в. — женщин в поли -тике все так же мало. В качестве исклю чения можно назвать г. Санкт Петербург, Кемеровскую и Томскую обл., в кото -рых четверть состава политических элит состояла из представительниц жен ского пола. В рейтинге влиятельных лиц Республики Бурятия были названы всего пять женщин: К.П. Альцман — прези-дент Союза промышленников и пред принимателей РБ, генеральный дирек тор АО «Улан-Удэнская тонкосуконная мануфактура»; Т.Г. Думнова — министр экономического развития и внешних связей РБ; В.Ц. Дамбаин — председатель госкомитета РБ по торговле, материаль ным ресурсам и услугам; Э.Б. Дудина — председатель правления Национального банка РБ; Д.Ц. Ринчинова — начальник Управления федеральной почтовой связи по Республике Бурятия3.
Результаты проведенного нами в 2010 г. анализа официальных биографий пред ставителей исполнительных, законо дательных/представительных и муни -ципальных органов власти республик Бурятия, Саха (Якутия), Тыва показали, что во всех регионах мужчины составляют подавляющее большинство в изучаемой социальной группе. Доля женщин в респу бликанских политических элитах крайне мала и колеблется в пределах 25-34% от их общего состава. Менее всего женщин в составе элиты Республики Бурятия -25,5%, несколько больше в Республике Тыва — 33,7%. Если рассматривать отдель-ные виды политических элит, то лучше всего женщины представлены в муници пальной элите: 28,2% в Бурятии, 33,3% в Республике Саха (Якутия), 42,9% в Тыве. Наименьший процент женщин наблю дается в составе исполнительной элиты Тывы — 25,9%, а также законодатель -ной/представительной элиты Бурятии и Республики Саха (Якутии) — соответ ственно 19,7% и 22%.
Отметим, что для законодательных органов власти изучаемых регионов тра диционно характерно численное преиму щество лиц мужского пола, в чем можно убедиться, если проследить динамику состава республиканских парламентов. Рассмотрим сложившуюся ситуацию в Бурятии. В действующем депутатском корпусе Народного Хурала Республики Бурятия IV созыва (общее число — 66 чел.) мужчины составляют 87,9% (58 чел.), жен -щины — 12,1% (8 чел.). Заметим, что дан -ное процентное соотношение выглядит несколько лучше по сравнению с III созы вом Народного Хурала РБ (общее число — 65 чел.), где мужчин было 93,9% (61 чел.), а женщин — 6,1% (4 чел.). Незначительное число женщин наблюдается и в действую щем IV созыве Улан Удэнского городского Совета депутатов (общее число — 26 чел.) — 11,5% (3 чел.), в то время как мужчин — 84,5% (23 чел.).
В парламенте Республики Саха (Якутия) IV созыва 15,7% (11 чел.) женщин, что также сравнительно мало для корпуса, состоящего из 70 чел. Исследователи отмечают, что в 1993 г. (I созыв) по срав-нению с 1990 г. в законодательном органе власти республики наблюдалось увеличе ние представительства женщин до 6 чел.4, в то время как в высшем эшелоне испол нительной власти в это время было всего 3 женщины, 2 из них находились в составе правительства5.
В парламенте Республики Тыва также существует проблема небольшого пред -ставительства женщин. В Верховном Хурале РТ 1993—1998 гг. они составляли 14,8%; в Верховном Хурале РТ 1998— 2002 гг. — 9,3%; в Великом Хурале РТ 2002 г.: 13% — в Законодательной палате ВХ РТ, 25,9% — в Палате представителей ВХ РТ (больше 1/4 депутатских мест)1. Во II созыве Великого Хурала РТ соот-ношение женщин и мужчин следую -щее: в Законодательной палате ВХ РТ 40,6% женщин (13 чел.) и 59,4% мужчин (19 чел.), в Палате представителей ВХ РТ 30,2% женщин (32 чел.) и 69,8% мужчин (74 чел.). Тем самым наблюда-ется существенное увеличение числа женщин в составе Законодательной палаты Великого Хурала Республики Тыва: если в I созыве их было 13%, то во II созыве — уже 40,6%. Безусловно, сложившаяся ситуация в данном органе власти внушает оптимизм. Что каса -ется Палаты представителей Великого Хурала Республики Тыва, то число жен щин здесь фактически неизменно: I созыв — 25,9%, II созыв — 30,2%.
Итак, представительство женщин в органах власти республик Бурятия, Саха (Якутия), Тыва незначительно, как и в целом по России. По мнению М. Аристовой, на высшем уровне феде-ральной власти оно колеблется от 0 до 10%, на региональном уровне — от 0 до 40% (что и было подтверждено результатами нашего исследования), в органах местного самоуправления — от 0,45% до 62%. Тем самым женщины фактически исключены из состава высших органов власти.
Отметим, что подобного мнения при -держиваются многие исследователи . Например, С. Айвазова также акценти-рует внимание на четком «мужском» про -филе российской власти, которая не учи тывает интересы женщин, их социальный опыт2. Между тем, женщины обладают таким же, как и мужчины, а зачастую и лучшим образованием, уровнем профес сионализма, опытом работы. Кроме того, женщинам в большей мере присущи важ нейшие для руководителя качества: гиб -кость, способность к диалогу, вниматель ность, умение приспосабливаться, кон центрироваться на главных проблемах, способность принимать решения в слож ных ситуациях, масштабно мыслить и т.д. И хотя потенциально женщины могут внести значительный вклад в россий скую политику, однако, как и в советское время, они занимают незначительные посты. Так, исследователи отмечают, что женщины преобладают на нижних этажах власти, на должностях, не предполагаю щих принятия решений: это начальники несамостоятельных структурных подраз делений, их заместители, консультанты, советники. В своей карьере они чаще останавливаются на уровне заместителя руководителя, который, как правило, является мужчиной.
Причины незначительной роли жен щин в политике, как, впрочем, и во всем социуме, различны. М. Аристова назы вает следующие причины: исторические факторы (сначала мужская власть над женщиной наблюдалась в семье, затем в обществе и, наконец, установилась на уровне государства); рыночные реформы в России (которые привели к более высо кой оценке мужского труда и различию в уровне доходов); профессиональная сегрегация по признаку пола; эффект «стеклянного потолка» — невидимые и формально не обозначенные барьеры, которые препятствуют карьерному росту женщин, и др. Любопытная точка зрения высказывается группой авторов, согласно которой важной причиной «отторжения» женщин от верховных этажей власти является не адекватный новым полити ческим условиям стиль поведения самих женщин. Они «привыкли» к патерна-листской системе отношений с обще ством, гарантировавшей им определен ный политический статус за счет системы квот. В условиях ее отмены женщины не смогли в полной мере воспользоваться своими политическими правами, в т.ч. правом самовыражения, вести длитель ную и изнурительную борьбу, отстаивать свои интересы3. Представляется, что определенная доля истины здесь име ется.
Среди факторов, тормозящих продви жение женщин во власть, можно также назвать:
-
— отсутствие заинтересованности поли -тической элиты, основной состав которой представлен мужчинами, во вхождении женщин в органы власти и управления и, как следствие, отсутствие поддержки в продвижении по карьерной лестнице;
-
— электоральные предпочтения граждан (избиратели, в т.ч. и сами женщины, вну-тренне тяготея к сильной власти, голосуют именно за политиков мужчин, которые, по их мнению, более способны к реши -тельным и волевым действиям);
-
— специфику современной предвыбор -ной борьбы в России, которая связана с тем, что в результате несовершенства изби рательных кампаний женщинам прихо дится сталкиваться с фактами применения «черных» технологий со стороны конкурентов; следует также учитывать и разли чия в финансовых ресурсах мужчин и жен щин, которые играют значительную роль в современной предвыборной кампании;
-
— закрепившиеся традиционные пред -
- ставления о роли и месте женщины в обществе, как хранительницы семейного очага.
Вместе с тем следует отметить, что сегодня в данном вопросе наблюдается позитивная динамика. Так, на уровне главы государства акцентируется вни мание на факте неравного представи тельства мужчин и женщин во власти. Предпринимаются отдельные меры для решения данной проблемы: назначение женщин на ключевые должности в стране, формирование кадрового резерва, в кото рый активно включаются представитель ницы женского пола, и др. Возможно, сегодня постепенно происходит измене ние стереотипов внутри власти, и на смену доминирующей «мужской» культуре при -ходит культура, в которо й гендерные отличия теряют свое значение. Надеемся, что наметившиеся позитивные тенден ции получат дальнейшее развитие, и женщины профессионалы смогут занять ключевые позиции в органах государст венной власти и управления России.