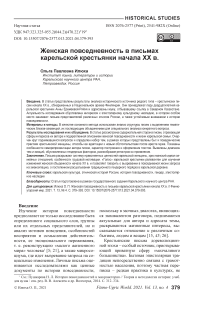Женская повседневность в письмах карельской крестьянки начала ХХ в.
Автор: Илюха О.П.
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 4 т.13, 2021 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье представлены результаты анализа исторического источника редкого типа - крестьянских писем начала ХХ в., обнаруженных в Национальном архиве Финляндии. Они принадлежат перу двадцатилетней карельской крестьянки Анны Еремеевой-Ряйхя и адресованы мужу, отбывавшему ссылку в Северном Казахстане. Актуальность исследования обусловлена интересом к эпистолярному культурному наследию, в котором особое место занимают письма представителей различных этносов России, а также устойчивым вниманием к истории повседневности. Материалы и методы. В качестве основного метода использован анализ структуры писем с выделением тематических блоков-секвенций, их последующим объединением для специального анализа конкретного вопроса. Результаты исследования и их обсуждение. В статье рассмотрена содержательная сторона писем, отражающая сферу интересов их автора и подкрепленная описанием женской повседневности и жизни карельской семьи. Очерчен круг поднимавшихся вопросов и определен набор тем, в рамках которых представлены быт и поведенческие практики крестьянской женщины, способы ее адаптации к новым обстоятельствам после ареста мужа. Показаны особенности саморепрезентации автора писем, характер построения и оформления текстов. Выявлены диапазон тем и эмоций, обусловленных гендерным фактором, разнообразие регистров их проявления. Заключение. Письма раскрывают систему нравственных ценностей карельской женщины, христианский идеал семейных отношений, особенности трудовой мотивации. «Голос» карельской крестьянки релевантен для изучения изменений женской обыденности начала ХХ в. и позволяет говорить о вызревании в повседневной жизни запроса на эмансипацию, о постепенном расшатывании традиционного гендерного порядка в карельской деревне.
Карельская культура, этническая история России, история повседневности, гендер, эпистолярное наследие
Короткий адрес: https://sciup.org/147236094
IDR: 147236094 | УДК: 947:323.325-055.2(044.2)(470.22)"19" | DOI: 10.15507/2076-2577.013.2021.04.379-393
Текст научной статьи Женская повседневность в письмах карельской крестьянки начала ХХ в.
Изучение истории повседневности предполагает не только исследование быта определенного социального слоя, группы или их отдельных представителей, но и анализ мотивов поведения, особенностей восприятия и осмысления действительности, ее эмоционального переживания, т. е. реконструкцию «малого жизненного мира» человека1 [5; 21], а также микросоциума, где идет вызревание запроса на социальные изменения. Личные письма оцениваются исследователями как ценные документы по истории повседневности, поскольку в заочных диалогах, являющихся эквивалентом разговора, поднимаются актуальные для автора и адресата темы, раскрываются жизненные интересы, высказывается отношение к различным событиям, людям и вещам [15, 45; 26].
Крестьянские письма дореволюционной эпохи – особый источник, приоткрывающий приватную сферу «молчаливого большинства». Бытовая эпистолярная традиция непосредственно связана с грамотностью населения, поэтому частная переписка – редкая практика в культурах, не
(^jl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ имевших сколько-нибудь развитой письменной традиции. Выявление эпистолярных материалов, написанных рукой представителей различных народов России, составляет важную задачу исследователей.
Каждое письмо строится в виде развернутого монолога, и в каждом незримо присутствует адресат. Если читать послания одно за другим, то можно реконструировать разворачивающийся в них заочный диалог, в котором, как и в живом общении супругов, есть многое: от признаний в любви и слов поддержки до укоров и назиданий. Выразительность языка Анны, ее письменной речи соответствует женской коммуникативной стратегии: тексты изобилуют разного рода восклицаниями, нередко содержат междометия.
Данная статья основывается на письмах двадцатилетней карельской крестьянки православного вероисповедания Анны Еремеевой-Ряйхя, обнаруженных нами в Национальном архиве Финляндии, в фонде Пааво Ахавы2. Документальная коллекция включает 21 письмо, адресованное Анной супругу Василию, сосланному за участие в зарождавшемся карельском национальном движении в Среднюю Азию, откуда ему не суждено было вернуться [7, 287–295 ; 12; 32; 34]. Письма написаны на финском языке, близком к севернокарельскому диалекту и понятном крестьянам Беломорской Карелии. Это отличает их от писем «во власть», которые обычно составлялись по-русски с помощью толмачей, волостных писарей.
Цель статьи – изложить результаты анализа писем карельской крестьянки в отношении саморепрезентации и освещаемых в них тем, среди которых, предположительно, повседневная жизнь семьи занимает центральное место. Важно показать, с по- мощью каких средств молодая женщина в корреспонденциях мужу выстраивает собственный образ, как вписывает себя в окружающую действительность, дифференцирует важное и второстепенное, выражает отношение к текущим событиям, обыденным делам и заботам. Для освещения этих вопросов требуется раскрыть реализуемые автором писем приемы общения и стратегии вербальной коммуникации, которые в совокупности демонстрируют и особенности самоописания, и специфику репрезентации повседневности.
Обзор литературы
Тема статьи находится на стыке источниковедения и крестьяноведения, однако основное ее содержание относится к истории повседневности, представленной в гендерном измерении.
При воссоздании исследователями приватного мира женщины дворянского или купеческого происхождения в качестве источника нередко выступают письма, которые составляют наиболее обширную часть всего частного эпистолярного наследия дореволюцинного периода. Наработанные подходы имеют универсальное значение и могут быть использованы при анализе других источников этого вида [2; 26]. Важными представляются наблюдения А. В. Беловой о специфике женских писем, заключающейся в эмоциональности, сосредоточенности на собственных переживаниях, что отличает их от мужских писем, ориентированных на описание внешнесобытийного [4, 92 ].
В то время как «женское письмо» в качестве литературной практики образованных женщин рассматривается в десятках научных работ, женские крестьянские письма остаются малоисследованным предметом из-за ограниченного числа этих источников. В целом крестьянские письма, основной массив которых составляют ходатайства в различного рода инстанции или корреспонденции в местные печатные издания, анализируются прежде всего в плане рассмотрения «диалога народа и власти» [11; 18; 28; 31]. Такие письма отложились в фондах учреждений и организаций. В отличие от них каждое архивное открытие даже нескольких крестьянских частных писем дореволюционной эпохи становится событием для специалистов.
Среди наиболее известных публикаций последнего десятилетия – подготовленный лингвистом Ольгой Йокоямой двухтомник, включающий объемное собрание писем крестьянского семейства Жернаковых, в которых раскрывается динамика повседневной жизни его членов на протяжении более полутора десятилетий конца XIX в. [14]. Письма прокомментированы составителем сборника, а также углубленно проанализированы в гендерном разрезе [13].
В обобщающих исследованиях по истории повседневности как русской, так и карельской крестьянки письма по отмеченным причинам либо не рассматриваются совсем, либо авторы констатируют наличие крайне ограниченного числа источников такого рода и их информационный потенциал [3; 19; 20, 65–66 ].
Материалы и методы
Анализируемый документальный комплекс включает письма, отправленные Анной Еремеевой-Ряйхя из с. Вокнаво-лок Кемского уезда Архангельской губернии с 10 апреля по 8 ноября 1908 г. Ответные письма мужа из г. Уральска и Темира нами не обнаружены, и неизвестно, сохранились ли они. Тем не менее страницы писем Анны складываются в цельное повествование. Это значительный массив хорошо атрибутированных источников, позволяющих путем их критического осмысления воссоздать цепочку коммуникации. Контекст переписки восстановлен на основе привлечения документов Национального архива Республики Карелия и материалов коллекции Пааво Ахавы в Национальном архиве Финляндии3.
Филологи, социологи, антропологи, исследующие эпистолярное наследие, выявили основные формы и жанры писем, функции личной переписки, к числу которых относятся коммуникативная и информационная [22]. В немногочисленных источниковедческих работах, где переписка оказалась в центре внимания, предложены важнейшие методологические принципы и подходы к анализу таких материалов, успешно применяется контент-анализ [17, 142 ; 31, 1667 ]. При рассмотрении эпистолярного наследия под углом зрения истории повседневности представляется продуктивным использование наработок специалистов по гендерной лингвистике, немало сделавших для изучения типологии эпистолярного жанра, установления языковых и стилистических особенностей женской речи [13; 25; 33 и др.]. Методически ценными являются подходы социологов, исследующих историю письменной коммуникации и письменной культуры как социокультурный феномен и акцентирующих внимание на социальной функции писем, необходимости учета при этом особенностей личности не только автора, но и адресата [8].
В работе применена комбинация методов. В качестве основного использован анализ структуры писем с выделением тематических блоков-секвенций, их последующим объединением для контент-ана-лиза конкретной проблемы. Вчитывание в текст писем, размышления об обстоятельствах и контекстах их написания, рассмотрение суждений, оценок, эмоций, учет случайного и недосказанного – все эти инструменты обеспечивают необходимое проникновение в источник и выявление ключевых аспектов взаимодействий людей в частной жизни4.
Представляется важным осуществлять анализ с учетом гендерного и социального факторов, а при исследовании «бюджета времени» учитывать специфику северокарельского крестьянского календаря, определявшего особенности заня-
(^jl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ тий в разное время года. Также привлечены возможности метода сase study, в основе которого – микроанализ, предполагающий сужение географической и временной локализации.
Результаты исследования и их обсуждение
Даже беглое знакомство с письмами Анны Еремеевой-Ряйхя, написанными на финском языке каллиграфическим почерком, показывает, что они принадлежат перу не просто грамотной, но начитанной и литературно одаренной женщины. Анна родилась в 1888 г. в карельском селе Вок-наволок Кемского уезда Архангельской губернии в семье зажиточного крестьянина Егора Кирилловича Титова, занимавшегося торговлей. Семья много лет провела в Великом княжестве Финляндском, но в итоге вернулась на родину. К этому времени Анна, которой исполнилось 12 лет, успела закончить в Финляндии народную школу (с. 20). Она в полной мере владела правилами написания писем, следовала устоявшемуся канону, чему, по всей видимости, способствовали не только знания, приобретенные в финской школе, но и опыт переписки, полученный в родительской семье.
В разлуке с мужем написание писем становится частью обыденности молодой женщины. Анна воспринимает эту новую для себя практику как потребность и «святую обязанность». Она пытается поддерживать непрерывную связь с супругом, создавая «эффект присутствия»: «Буду писать до тех пор, пока не похолодеют мои руки!» (с. 123). Иногда письма составлялись в несколько приемов на протяжении недели, но чаще по воскресеньям, когда в Вокнаволок приходила крестьянская почта и отправлялась назад, в Финляндию5, откуда по хорошим дорогам княжества быстро попадала в столицу Российской империи и далее адресату. Анна всякий раз с нетерпением ждала прибытия почтальона в надежде получить письмо, о чем сообщала мужу в образно-фольклорной стилистике: «Воскресенья я жду всегда, “как новолунья”6» (с. 123).
Анализ писем позволил выделить устойчивые элементы их содержания, наличие основных компонентов эпистолярного этикета: обращения, подписи, а также указание даты и места написания. Обращения-приветствия Анны к Василию варьируют. Чаще всего письма начинаются строкой «Мой милый (дорогой, родной, любимый) Валле», где молодая женщина использует для интимного общения с мужем скандинавское имя. Но иногда она обращается и официально-торжественно: «Мой (дорогой) Супруг!» Подписывается Анна по-разному, что также отражает спектр ее настроений и чувств. Она определяет себя как верную и преданную, любящую и родную, скучающую и тоскующую: «Твоя Анна», «Твоя родная Анник-ка», «Скучающая по тебе всегда, ночью и днем, твоя Анникка!», «Всем сердцем всегда о тебе тоскующая, твоя Анникка».
В письмах содержатся элементы стиля художественной литературы, но преобладает разговорный стиль. Формулы спонтанной устной речи указывают на искренность и порывистость автора. Само-рефлексия, требовательность к себе в отношении и стиля, и содержания текстов присутствуют в ряде посланий: «Ты же простишь свою Анну, что мои письма не всегда получаются хорошо написанными с художественной точки зрения?» (с. 112). Анна прекрасно умеет выражать свои чувства словами. Тем не менее, пытаясь быть более убедительной, в одно из писем она вклеивает изображение изящной женской руки, отправляющей воздушный поцелуй. Такие иллюстрации, растиражированные типографским способом, были востребованы в XIX – начале ХХ в. при оформлении девичьих альбомов [1, 26 ].
Искренняя и откровенная в письмах женщина требует взаимности, подчеркивая и свой супружеский статус, и свою любовь, которые возлагают, по ее представлениям, встречные обязательства на мужа: «…я замечаю из твоих писем, что они очень короткие, поверхностно написанные. Довольствуюсь, конечно, и ими, но как я была бы счастлива, если бы ты писал откровенно обо всем. Я же все-таки твоя супруга и нежно тебя люблю!» (с. 97). В другой раз Анна, нуждающаяся в эмоциональной поддержке, восклицает: «Больше всего я не люблю холодно написанных, коротких писем» (с. 102).
Каждое письмо строится в виде развернутого монолога, и в каждом незримо присутствует адресат. Если читать послания одно за другим, то можно реконструировать разворачивающийся в них заочный диалог, в котором, как и в живом общении супругов, есть многое: от признаний в любви и слов поддержки до укоров и назиданий. Выразительность языка Анны, ее письменной речи соответствует женской коммуникативной стратегии: тексты изобилуют разного рода восклицаниями, нередко содержат междометия.
Доверительный характер писем, постоянное ощущение автором личности адресата обусловили их эмоциональную раскрепощенность и содержательную свободу. О своих чувствах к Василию и страданиях в разлуке Анна так или иначе говорит в каждом письме. Любовь, разлука, горе, тоска, надежда и вера – вот ключевые слова ее рассуждений о новом этапе в собственной судьбе и в жизни супруга. Такого рода размышления и признания составляют значительную, а порой и подавляющую часть посланий, отражая повседневный круговорот мыслей, коротко выраженных фразой «Подле тебя мои мысли витают» (с. 94). Жизнь Василия на чужбине глубоко тревожит также других членов семьи, и эта тема становится одной из центральных в домашних разговорах, о чем также сообщается в письмах: «...говорим о тебе каждый день» (с. 98).
В заочном диалоге Анна не просто описывает свои дела и делится новостями, но постоянно оценивает себя, размышляет о собственном поведении, поступках7. Как любящая женщина она хочет вызвать ответные чувства, выглядеть в глазах мужа лучшим образом, что определяет отбор информации, в том числе о повседневной жизни. Эту часть эпистолярных текстов можно условно разделить на два основных блока. Первый составляет репрезентация повседневности, тесно связанная с описанием семейных дел, второй – изложение деревенских новостей и событий.
Крестьянские письма дореволюционной эпохи – особый источник, приоткрывающий приватную сферу «молчаливого большинства». Бытовая эпистолярная традиция непосредственно связана с грамотностью населения, поэтому частная переписка – редкая практика в культурах, не имевших сколько-нибудь развитой письменной традиции.
После ареста мужа Анна возвратилась в отчий дом в с. Вокнаволок, в атмосферу родительской любви и семейного согласия. Все их имущество и товары, закупленные в Финляндии для розничной торговли, остались в с. Ухта, где они с Василием жили вместе со свекром. Женщине пришлось взять на себя ведение торговых дел: возврат товаров, покрытие недостач, расчеты с кредиторами, переписку с поставщиками. На расстоянии было невозможно согласовывать с мужем все вопросы, но Анна уведомляла его о своих решениях и поступках.
Особой темой становятся отношения со свекром, который в отсутствие сына начал притеснять невестку, присвоил землю и другое имущество молодых, потребовал арендной платы за жилье. Анна не приняла такой системы властных отношений, считая необходимым отстаивать свои права, и лишь вмешательство отца в конфликт со свекром заставило ее отступить, смириться и вернуться в родительский дом. О своем решении Анна сообщает мужу с уверенностью в собственной правоте и надеждой на понимание: «Ты же, мой родной, меня не осуждаешь? В противном случае поступаешь все-таки неправильно» (с. 93).
(^jl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Письма позволяют отчасти реконструировать детали обстановки комнат, в которых Анна и Василий жили до разлуки, наличие в интерьере городских вещей: дивана, серванта, комода, угловых столиков, лампы, комнатных цветов, свидетельствующих о проникновении в карельскую деревню городской моды и достаточно высоком уровне благосостояния молодой семьи. Вернувшись в родительский дом, Анна занимает горницу, где жила в девичестве. Священным центром этого помещения для нее становится фотография мужа, обращением к которой начинается и заканчивается каждый день: «Высланная тобой фотография на моем столе; целую ее каждый вечер перед тем, как лечь спать, и шепчу: “Спокойной ночи!” И когда утром просыпаюсь, делаю то же самое и произношу: “Доброе утро!” Ах! Это же всего лишь холодная, неживая фотография, но воображение помогает представить, что это настоящий ты» (с. 99); «Я ходила сегодня на поляну и собрала два букета, один себе, но кому второй могла бы подарить? – Тоска наполнила мое сердце! Положила букет к твоему фото, не могла же я иначе поступить» (с. 108).
В разлуке с мужем особое значение приобретают памятные вещи. Анна подчеркивает, что кольцо, подаренное Василием, всегда с ней, как «святая память». От супруга она ждет новых посильных знаков внимания, выраженных в предметах, просит прислать какую-нибудь самую дешевую вещицу, хотя бы что-нибудь, главное, «чтобы оно оттуда пришло» (с. 115).
Анна считает важным сообщить Василию свой новый распорядок времени: «Может, хочешь знать, на что я свое время трачу и чем занимаюсь? Тогда слушай. Утром, когда встаю, то, конечно, одеваюсь и молюсь. Потом помогаю маме с приготовлением еды и с другими утренними делами. Днем, если нет работы во дворе, например пилить или еще что-нибудь, вяжу либо вышиваю. Во второй половине дня читаю какую-нибудь книгу или, чаще, пришедшие от тебя письма. Хожу иногда и в гости, а по воскресеньям – игрища смотреть» (с. 101). Ее «бюджет времени» включает труд, в большей мере выполняе- мый в первой половине дня, и досуг, приходящийся, как правило, на послеполуденное время и вечер.
Трудовые занятия Анны сопряжены с крестьянским календарем, характерным для северной Карелии: на июнь приходились посадка и прополка картофеля, на июль – сенокос, в августе начиналась жатва. В рыбной ловле принимали участие как мужчины, так и женщины, особенно в период нереста кумжи. До начала сельскохозяйственных работ занятием каждого взрослого члена семьи, вне зависимости от пола, была разделка дров.
Труд для автора писем – это не просто способ заполнить время и заглушить боль разлуки с любимым человеком, это – работа с большой буквы. Именно так, уважительно по отношению к самым обычным, а порой и тяжелым занятиям пишет Анна: «Я только что пришла с картофельных грядок, значит – с Работы! Работала очень старательно, появились мозоли на моих маленьких руках. Послушай, я работаю беспрерывно» (с. 98). Работа – это занятие, приносящее радость, особенно коллективный труд: «Работаю усердно. Сегодня были с папой на рыбалке с неводом. Этот рейс был таким веселым» (с. 103); «На рыбную ловлю с неводом хожу каждый вечер. Там весело! На божьих просторах забываются мрачные раздумья. Время и без того проходит весело, ведь у нас всегда есть работа» (с. 108). Здесь очевидно противопоставление увлекательной работы, азарта коллективной рыбной ловли скуке безделья, что служит одним из мотивов такого вида труда. Анна с воодушевлением сообщает и о предстоящем сенокосе: «На следующей неделе на сенокос в Поса отправятся от нас 10 человек, я одиннадцатая. Опять будет весело!» (с. 113). Приведенные цитаты показывают, что эмоциональный фон трудовой деятельности, сопровождавшейся разговорами, песнями и шутками, в значительной мере определял отношение крестьянской молодежи к коллективному труду.
Рукоделию отводилось время, свободное от физической работы. В письмах мужу Анна не считает нужным уделять внимание этому истинно женскому заня- тию. Лишь однажды сообщает: «…связа-ла тебе очень красивую рубашку», сопровождая эту информацию сокрушениями, что не знает, когда сможет передать ее любимому (с. 98).
Женщина впитала идеалы карельской культуры, ставшие для нее нравственным ориентиром: «…не хочу прослыть ленивой. Это так некрасиво звучит!» (с. 102); «Я осмеливаюсь приниматься, по мере моих сил и возможностей, за какую угодно работу. В этом и заключается честь Карелки!» (с. 109). Четко сформулированный здесь маркер самоидентификации призван подчеркнуть культурное родство с любимым человеком. Почувствовав высокопарность фразы, автор тут же извиняется: «Прости своей Анне манеру письма!» Так в очередной раз отчетливо проявляется женская стратегия саморепрезентации, направленная на получение одобрения и похвалы со стороны мужчины. При этом самокритика избавляет адресата от необходимости высказывать свою отрицательную оценку [23, 270 ]. Письма насыщены вопросами, в которых отражаются не только тревога о здоровье и самочувствии мужа, о его преданности и верности, но и любопытство, интерес к далекому и неизвестному: «Напиши мне немного об условиях в тех краях. Какой жизнью там живут? Есть ли там счастливые супруги? Есть ли молодежь? Есть ли любовь и браки? Красивый или некрасивый [там] народ?» (с. 117).
В распорядке дня Анны всегда есть место чтению – необходимому и любимому занятию. В поле ее зрения – финские газеты, которые приносят из княжества местные торговцы. Тяга молодой женщины к познанию нового, ее пытливый ум, интерес к книгам в полной мере проявляются в письмах и всегда имеют эмоциональную окрашенность. После перевода Василия из Уральска в Темир, на новое место ссылки, она в отчаянии пишет: «Не нахожу ни на каких картах этого города с названием “Темир”. Десятки раз смотрела. Есть ли он вообще на какой-нибудь карте?» (с. 108). На письмо мужа, написан- ное в «киргизской палатке», с восторгом откликается, увлеченная образами далекой Азии, о которой знает лишь из прочитанного в детстве, и высказывает мечту о путешествиях, связанных в ее системе ценностей прежде всего с приобретением знаний: «Конечно, и мне хочется немного увидеть мир за пределами родных пригорков. Разумеется, не из-за желания приключений, а для [получения] знаний; знания – вот к чему я стремлюсь. Чувствую и знаю, что я необразованная карелка, поэтому мне хочется на дорогу знаний!» (с. 105). В этих строках отчетливо обозначена мечта Анны – вырваться за пределы окружающей ее обыденности, получить новые впечатления и эмоции, а также понимание ценности образования и стремление к учебе.
В структуре досугового времени карельской женщины присутствуют развлечения. Она забавляется с котенком, иногда сопровождает младшую сестру на сельские игрища. Опасаясь, что муж может неправильно истолковать ее поведение, поясняет: «Других развлечений здесь нет, где можно было бы время скоротать, тоску развеять. Нет даже библиотеки, где можно было бы книгу взять», – вновь подчеркивая значение чтения в своей повседневной жизни (с. 123). Анна упоминает об односельчанине и приятеле ее отца С. Липки-не как частом и желанном госте в их доме. Его визиты по вечерам сопровождаются семейными посиделками и пением карельских песен. Любопытно сделанное вскользь замечание: «Кантеле уже давно отдыхает, не могу играть» (с. 102). Оно корректирует распространенное представление о игре на кантеле как традиционно мужском занятии у карел8 [29, 1131 ].
Жизнь в родительском доме не принесла Анне полной независимости, хотя она и оказалась в семейной атмосфере любви, а освобождение от части забот восприняла как свободу: «Я в доме моего детства уже два с половиной месяца. Хорошо мне здесь, чувствую себя умиротворенно, никакие заботы меня больше не обременяют. Я свободна, как в девичестве» (с. 94).
(^jl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ В принятии всех важных решений главная роль теперь принадлежала отцу, который рядом. Но и с мужем, который далеко, Анна в письмах обсуждала все свои планы. Гендерно детерминированные властные отношения создавали драматическое напряжение в тех случаях, когда речь заходила о возможности покинуть отчий дом. Поводов для этого было два: первый – просьбы мужа приехать к нему, второй – ее собственное желание отправиться на учебу в Финляндию. Оба повода влекли за собой сложные коллизии, раскрывая внутрисемейную субординацию, столкновение традиционного и нового в патриархальной семье в условиях растущей женской эмансипации. Рассмотрим их последовательно.
В первых же письмах мужу Анна отвергает предложение приехать к нему в ссылку: «Нет, мой милый, этого я не сделаю! Я не поеду одна в неизвестные края. Это было бы слишком смело, опасно. Лучше буду коротать свое время здесь, в моей Карелии. Хотя и жжет мое сердце тоска [о тебе]» (с. 92). Послереволюционная Россия представлялась женщине недружелюбной страной, к тому же она плохо владела русским языком и осознавала связанные с этим трудности путешествия. Но, оценивая отношение адресата, предполагая возражения с его стороны и желая смягчить реакцию, далее в том же письме Анна противоречит сказанному: «Все же можешь, мой милый, распоряжаться, как считаешь нужным. Я с удовольствием исполню твои пожелания» (с. 92). Тот же прием она использует и в дальнейшем: аргументированно оспаривая мнение мужа, подчеркивает силу его власти над собой. В очередной раз отказываясь ехать, обосновывает собственные страхи так: «…ужас-ное чувство охватывает мое сердце, когда думаю, что нужно ехать в среду Русских, когда мир бурлит повсюду, как огненное море» (с. 124). При этом молодая карелка то и дело воспроизводит в письмах усвоенное ею нормативное представление о взаимоотношениях мужа и жены: «Твой совет для меня Закон» (с. 92), подчеркивая местоимение «твой» и используя заглавную букву для слова «закон»9.
Подобная артикуляция отражает гендерную пропозицию и говорит о взглядах не столько самой девушки, сколько ее супруга, известных ей из предшествующего опыта. Противоречивые суждения Анны также инспирированы желаниями близких людей – просьбой мужа приехать к нему и неготовностью отца отпустить дочь в опасную поездку. Поиск компромисса начался после получения от Василия известия об опасной болезни. Осознание греховности отказа на просьбу больного мужа для православной женщины имело решающее значение. Анна с помощью отца искала сопровождающего для поездки, собирала информацию о лекарствах, обдумывала, какие продукты важно взять с собой. Весть о смерти супруга поставила точку в этом вопросе.
Со своей стороны, Анна настойчиво просит мужа разрешить ей продолжить образование на курсах в народном училище в Финляндии. Она и прежде выражала желание поехать на учебу в Сортавальскую учительскую семинарию, но Василий не хотел на долгое время оставаться один, и это было понятным и весомым аргументом. Теперь, оказавшись в одиночестве, Анна считает возможным рассчитывать на его понимание, при этом в письмах старается быть убедительной и немногословной: «Но если я отправлюсь в народное училище, от этого все-таки будет польза в жизни. Здесь я не могу всю зиму без дела сидеть. Умру от тоски. Если согласишься, в сентябре поеду» (с. 103).
Движимая мечтой, в следующих письмах молодая женщина возвращается к теме, пытается так или иначе добиться своего. Ее тактикой становится использование широкого арсенала средств воздействия – от мольбы до скрытой угрозы: «Согласишься на мою просьбу или не согласишься – это в твоей власти. Согласись, мой дорогой, на мою просьбу, и за это буду тебе всю жизнь благодарна» (с. 105). Однажды она делает красноречивую оговорку, осторожно вписывая соб- ственный интерес в систему патриархальных отношений: «Ты можешь принимать решения обо всем так, как считаешь нужным. Но решай таким образом, чтобы мне не пришлось погибнуть от тоски!» (с. 95– 96). В другом случае ее предостережения мужу звучат более решительно: «Делай все-таки, как считаешь наиболее правильным, но подумай сначала хорошо, чтобы не пришлось потом жалеть!» (с. 107).
Особенности женской коммуникативной стратегии, которую лингвисты иногда определяют в категории гендерлекта, или слабого языка (powerless language), т. е. языка подчиненной социальной группы [9; 16; 24; 27], здесь проявляются амбивалентно: выражая собственное желание в виде просьбы, молодая женщина, с одной стороны, осознает свое подчиненное положение, а с другой – внутренне протестует против необходимости подчиняться. В обоих рассмотренных случаях, когда речь идет о планах покинуть родительский дом, желание женщины звучит и обсуждается, что отражает местную гендерную норму [13, 150 ]. Однако самые близкие мужчины – отец и муж – принимают решение за Анну: остаться дома.
Повседневная жизнь деревни и округи в письмах представлена фрагментарно. Автор отмечает выходящее за пределы обыденности: упоминаются праздник Троицы и Маковей, свадьбы, рождения детей, похороны и выдающиеся события. К числу последних относится информация уездного и волостного масштаба – упоминание о приезде губернатора и визитах других должностных лиц, об открытии в Ухте кожевенного завода и планах по строительству дороги. Изредка появляются новости из Финляндии, связанные с жизнью земляков, местных коробейников.
Гораздо большее место в посланиях отводится описаниям природы – источнику эстетических переживаний и патриотических чувств: «Красива сейчас наша Карелия. Она теперь оделась в свой зеленый праздничный наряд! Красива природа Карелии! Я бы не променяла родные песчаные отмели, озера с тысячами островов, по которым мчатся десятки белопарусных лодок, ни на какие сокровища мира»
(с. 99); «Свой Вокнаволок я не поменяю на величественнейший город мира!» (с. 110). Восхищаясь красотой родного края, Анна подспудно использует объединяющий их с Василием патриотический мотив. При этом восклицательные предложения, которыми изобилуют письма, призваны не только описать собственные переживания, но и вызвать ответные чувства.
В то время как «женское письмо» в качестве литературной практики образованных женщин рассматривается в десятках научных работ, женские крестьянские письма остаются малоисследованным предметом из-за ограниченного числа этих источников. В целом крестьянские письма, основной массив которых составляют ходатайства в различного рода инстанции или корреспонденции в местные печатные издания, анализируются прежде всего в плане рассмотрения «диалога народа и власти».
Представления Анны о личном счастье тесно связаны с борьбой за счастье любимой Карелии: «Оставайся, мой Валле, тверд в своих убеждениях. Ни минуты не сомневайся, что борешься за правое дело! Это благородно, это свято! Страдание без вины – это не тяжело» (с. 95); «Мы молоды, и, значит, нельзя нам этой грусти поддаваться! Мы нужны обществу и нашей красивой Карелии!» (с. 106); «Я уверена в том, что нигде нет такой золотой жизни, как в нашей Карелии! Только сейчас хорошо узнала, что для меня моя родная земля, только сейчас, когда мне пришлось пожертвовать для Карелии самым дорогим, что у меня есть!» (с. 108).
Моральный кодекс автора выражен в словах «не унизить себя ничем предосудительным перед лицом Создателя и людей», какие бы трудности ни пришлось испытать (с. 107). Анна религиозна, и дискурс ее письма проникнут христианским идеалом женственности. На вере как объединяющем основании в значительной мере строится коммуникация супругов. В своих
(^jl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ рассуждениях женщина часто уповает на Бога, просит и мужа надеяться на помощь Всевышнего. Когда от Василия приходят письма, раскрывающие тяжесть условий и обстановки, в которых ему приходится жить в ссылке, содержащие тревожные мысли о будущем, Анна утешает его и пишет о своей готовности жить вдвоем «хоть на голой скале»: «Ни ты, ни я не привыкли жить в блеске, бесполезной изысканности мира. Что может быть самое дорогое у человека, у нас есть. Вера в Бога. И тогда человек не может быть несчастен!» (с. 110).
Известие о смерти Василия пришло от его товарища по ссылке. В ответном письме, датированном 13 декабря 1908 г., Анна пишет, что предыдущие испытания подготовили ее к этому страшному несчастью. Ее вера вновь становится незаменимой опорой в жизни: «Спасибо Господу, что мой супруг умер в ладу с Ним. Значит, есть большая надежда, что мы еще сможем встретиться [с Василием]. Нам только нужно иметь наготове входные билеты, которые выписаны верой в Христа» (с. 128).
Заключение
Письма Анны Еремеевой-Ряйхя являются исключительно важным источником для изучения как истории крестьянской повседневной жизни, так и культуры общения карельской семьи. Они показывают тот вариант сельского образа жизни, который определялся довольно высоким материальным уровнем семьи торгующего крестьянина, протобуржуа. Эти тексты выводят карельскую женщину в зону видимости, позволяют не только услышать «голос», но и постичь ее исповедный опыт.
В эпистолярном отражении, наполненном культурой традиции, с разной степенью подробностей представлены различные стороны крестьянской повседневной жизни – индивидуальной женской, семейной, деревенской. Ежедневные работы и заботы, материальное положение семьи, досуговое и праздничное время, деревенские события и происшествия чаще всего служат фоном для изложения мыслей и переживаний автора, занимающих центральное место в письмах.
Проанализированные эго-источники дают понимание роли не только рациональной, но и эмоциональной составляющей процесса заочного общения. Адресованные любимому человеку, оказавшемуся на далекой чужбине, письма эмоциональны, порой экспрессивны, в них раскрываются личный опыт переживания, спектр чувств молодой карельской женщины. Послания содержат дискурсивные маркеры, передающие особенности женского письма, – восклицательные предложения, ласкательные формы обращений, междометия, извинения, участливые и эмпатические выражения. В них отражается и такая особенность женской коммуникации, как многочисленные вопросы адресату [24, 45 ].
Анна Еремеева-Ряйхя, получившая образование лишь в пределах финской народной школы, предстает как мыслящая, тонкая натура, рефлексирующая по поводу социальных и религиозных вопросов, которые были в круге ее внимания и стали предметом, предлагаемым для обсуждения мужу.
Стремясь поддержать супруга, Анна эмоционально пишет как об обыденном, так и о возвышенном. Сквозными мотивами, подчеркивающими духовное родство с мужем, становятся локальный патриотизм, любовь к Карелии, вера в Бога. В письмах проявляется значимость невербальной составляющей в выстраивании женских стратегий общения. Знаки памяти и связи – фотографии, присланные мужем письма, а также надежда получить какой-нибудь самый простой предмет «оттуда» – несут смысловую и эмоциональную нагрузку, наделяются функцией посредников в супружеском заочном взаимодействии.
Желание предложить интересную информацию, вызвать эмоциональный отклик, предстать перед супругом в лучшем виде определяло отбор тем для обсуждения в письмах. Однако сама жизнь заставляла обращаться к острым и противоречивым сюжетам, среди которых оказались вопросы о поездке Анны к мужу и ее учебе в Финляндии. Осознавая свое подчиненное положение в семье и формально принимая патриархальные нормы, Анна внутренне готова их нарушить, бросить вызов гендерному порядку собственной культуры, что говорит о вызревании в повседневной жизни запроса на эмансипацию и постепенном расшатывании традиционных устоев в карельской деревне.
Саморепрезентация, создание «автопортрета», осуществляется в рамках повседневности, в которой многое достойно описания. В этом плане коммуникативные стратегии карельской крестьянки соотносимы с практиками русских дворянок, по поводу которых исследовательница гендерной истории А. В. Белова замечает: «…родственный круг и его влияние на частную жизнь дворянки, ее физическое и душевное самочувствие, радости и го- рести, будни и праздники – все подлежало подробнейшему описанию и осмыслению» [5, 182].
Таким образом, соотношение и взаимосвязь сословного, гендерного и этнокультурного порядка, их отражение в эго-источниках являются перспективным вопросом для дальнейших исследований. «Голос» карельской крестьянки, сохранившийся в письмах, вне всякого сомнения, релевантен для интерпретации историко-культурного контекста, изменений женской обыденности начала ХХ в. и способен расширить представления о приватном пространстве самого крупного сословия России, что представляется плодотворным для развития антропологически ориентированной социальной истории.
Original article
DOI: 10.15507/2076-2577.013.2021.04.379-393
ISSN 2076-2577 (Print), 2541-982X (Online)

Список литературы Женская повседневность в письмах карельской крестьянки начала ХХ в.
- Архипова Н. Г. Рукописные девичьи альбомы: жанрово-тематическое своеобразие // Слово: фольклор.-диалектол. альм.: материалы науч. экспедиций. Благовещенск, 2006. Вып. 4. С. 26-32. URL: https://slovo.amursu. ru/upload/slovo/04/01/04.pdf (дата обращения: 07.07.2021).
- Банникова Е. В. Повседневность дореформенного провинциального купечества на страницах частной переписки вятских купцов Моролевых // Документы личного происхождения в теории и практике научных исследований: материалы Всерос. науч. конф. Тверь, 2014. С. 35-41.
- Безгин В. Б. «На миру» и в семье: русская крестьянка конца XIX - начала XX века: моногр. Тамбов: РГНФ, ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. 192 с.
- Белова А. В. Женская повседневность как предмет истории повседневности // Этнографическое обозрение. 2006. № 4. С. 85-97.
- Белова А. В. Женская эпистолярная культура в России на рубеже XVIII-XlX и XX-XXI веков // Культура и текст. 2016. № 2. С. 167-185.
- Белова А. В. Концепт «женская повседневность» в контексте истории повседневности: гендерная чувствительность новой социальной истории // Гендер в фокусе антропологиии, этнографии семьи и социальной истории повседневности. М., 2019. С. 39-48.
- Витухновская М. А. Российская Карелия и карелы в имперской политике России, 1905-1917. Хельсинки; СПб.: Норма, 2006. 384 с.
- Гофман А. Б. Письма классиков: значение эпистолярного жанра в истории социологии // Вторые Давыдовские чтения: сб. науч. докл. симп. М., 2014. С. 217-236.
- Егорова О. А. К вопросу о тендерной маркированности речевого поведения // Филологические науки в МГИМО: сб. науч. тр. М., 2010. № 42. С. 14-20.
- Еремеевы-Ряйхя: человек, семья, политика в карельском пограничье начала ХХ века. Исследование. Документы. Материалы = Jeremejev-Raiha: Шяипеп, реЛе ja роИШкка Каца1ап raja-alueella 1900-^ип alussa. ТиЙе1та. Asiakirjat. Aineistot / науч. ред. О. П. Илюха. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2017. 363 с.
- Зверева К. Е., Зверев В. А. Как Сибирь училась читать: школа, грамотность и книга в русской деревне конца XIX - начала ХХ века. Новосибирск: НГПУ, 2013. 237 с.
- Илюха О. П., Пеллинен Н. А. От карельских озер до киргизских степей: путевой дневник-воспоминания политического ссыльного Василия Еремеева-Ряйхя (1907-1908 гг.) // Петербургский исторический журнал. 2016. № 4. С. 190-211. DOI: 10.51255/2311-603X-2016-00073.
- Йокояма О. Б. Гендер в письмах русских крестьян XIX века // Конструкты национальной идентичности в русской культуре: вторая половина XIX столетия - Серебряный век: материалы конф. М., 2011. С. 141-152.
- Йокояма О. Б. Письма русских крестьян: тексты и контексты: в 2 т. М.: Языки славянской культуры, 2014. Т. 1-2.
- Кабанова С. В. Формирование документов личного происхождения во второй половине XIX - нач. XX веков: понятие и виды // 10 корпус. 2019. № 5. С. 43-48.
- Кирилина А. В. Гендерные исследования в лингвистике и теории коммуникации. М.: РОССПЭН, 2004. 250 с.
- Кобак И. В. Письма как исторический источник: задачи и приемы изучения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2: История. 2012. Вып. 2. С. 142-148.
- Литвин Ю. В. Имущественные права карельской крестьянки во второй половине XIX - начале XX века: традиция, закон и правоприменительная практика (по материалам Олонецкой губернии) // Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2011. № 6. С. 133-138.
- Литвин Ю. В. Конфликтная сторона семейной повседневности в зеркале архивного источника: гендерный аспект (на материалах Национального архива Республики Карелия) // Культура повседневности карельской семьи (конец XIX - первая треть XX в.). Исследования. Материалы. Документы. Петрозаводск, 2014. С. 333-348.
- Мухина З. З. Русская крестьянка в пореформенный период (вторая половина XIX -начало XX века). СПб.: Дмитрий Буланин, 2018. 736 с.
- Пушкарева Н. Л., Любичанковский С. В. «История повседневности» в современном историческом исследовании // Гендер в фокусе антропологии, этнографии семьи и социальной истории повседневности. М., 2019. С. 239-248.
- Степанова И. Н. Частная переписка как жанр и форма человеческого существования // Вестник Курганского государственного университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2012. № 4. С. 95-98.
- Трофимова Н. А. Экспрессивные речевые акты в диалогическом дискурсе. Семантический, прагматический, грамматический анализ: моногр. СПб.: Изд-во ВВМ, 2008. 376 с.
- Шаров К. С. Мужчины и женщины в вербальной коммуникации: проблема гендерлекта // Вопросы философии. 2012. № 7. C. 38-51.
- Belova A. Women's Letters and Russian Noble Culture of the Late 18th and Early 19th Centuries // Women and Gender in 18th-century Russia. Aldershot, 2003. P. 147-161.
- Gender and Conversational Interaction / ed. By D. Tannen. New York: Oxford University Press, 1993. 327 p.
- Gender and Sexuality in Russian Civilization / ed. by P. I. Barta. London; New York: Routledge, 2001. 368 p.
- Nakhimovsky A. Крестьянский язык и революция. Письма во власть до и после 1917 года // Revue des études slaves. 2017. Vol. 88, no. 1/2. P. 113-134. https://doi. org/10.4000/res.942.
- Niemi A. R. Vienan läänin runonlaulajat jä tietäjät. Helsinki: Suomalaisen kiijallisuuden seura, 1921. 1183 s.
- Paavo Ahava - karjalaisuuden uranuurtaja Kuusamon kulmilla // Karjalan Heimo. 1988. No. 3-4. S. 44-45.
- Putilina Yu. V., Cherepanova V. N., Filip-pova I. A., Molchanova V. S. "Resettlement Fact" - As Seen by the Eyes of Peasants (adapted from Peasants' Letters): Latter half of XIX - early XX centuries // Bylye Gody. 2018. Vol. 50, no. 4. S. 1666-1673. https://doi. org/10.13187/bg.2018.4.1666.
- Ranta R. Vienan Karjalaisten Liitto ja rajantakainen koulukysymys 1906-10 // Rajamailla IV. 1997. Rovaniemi, 1998. S. 111-145.
- Tafel K. Russische Sprache und Sexus // Handbuch der sprachwissenschaftlichen Russistik und ihrer Grenzdisziplinen. Wiesbaden, 1999. S. 499-525.
- Vituhnovskaja-Kauppala M. Itäkarjalaisten kansallinen identiteetti ennen ja jälkeen lokakuun vallankumouksen // Rajalla halkaistu kansa. Karjalaisten kansallisidentiteetin, uskonnon ja kielen kehitys 1800-luvun alusta nykypäiviin: artikkelikokoelma. Joensuu; Petroskoi, 2011. S. 156-172.