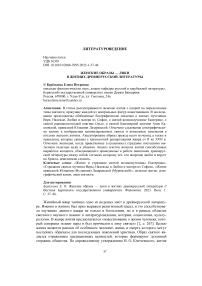Женские образы - лики в житиях древнерусской литературы
Автор: Берзкина Елена Петровна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются женские жития с опорой на определенные типы святости, присущие каждой из центральных фигур повествования. В исследовании представлены обобщенные биографические сведения о святых мученицах Вере, Надежде, Любви и матери их Софии, о святой великомученице Екатерине, о святой равноапостольной княгине Ольге, о святой благоверной княгине Анне Кашинской, праведной Юлиании Лазаревской. Отмечено следование агиографическому канону в изображении канонизированных святых и возможные изменения в поздних женских житиях. Акцентированы образы прежде всего мучениц, а также и праведниц, которые связаны с хронологией развертывания жанра от II ко XVII в. Отмечена эволюция, когда нравственное («душевное») страдание постепенно вытеснило телесные муки и убиения. Анализ текстов женских житий способствовал выработке концепта, объединяющего приведенные в работе памятники древнерусской литературы между собой, согласно которому тех, кто искренне любит и верует во Христа, невозможно сломить.
«житие и страдание святой великомученицы екатерины», «страдание святых мучениц веры, надежды и любви и матери их софии», «житие праведной юлиании (иулиании) лазаревской (муромской)», женское житие, агиографический канон, лики святости
Короткий адрес: https://sciup.org/148326140
IDR: 148326140 | УДК: 82.09 | DOI: 10.18101/2686-7095-2023-1-37-46
Текст научной статьи Женские образы - лики в житиях древнерусской литературы
Берёзкина Е. П. Женские образы — лики в житиях древнерусской литературы // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2023. Вып. 1. С. 37‒46.
Житийный жанр занимал одно из ведущих мест в древнерусской литературе. Именно в житиях был ярко выражен религиозный идеал, и это способствовало изучению данного жанра не только в богословии, но и в разных областях светского научного знания: в литературоведении, истории, социологии, культурологии. В жанре жития предполагается «повествование о жизни человека, который совершил подвиг веры и был причислен к лику святых» [2, с. 267]. Целью жития является рассказ об особенном человеке, жизнь и смерть которого могут послужить образцом для последующих поколений христиан. Образ святого является отражением традиционных ценностей, которые формируют духовный стержень общества. По справедливому утверждению В. О. Ключевского, житие становится такой книгой, в которой гармонично соединяются исторический материал и литературный символизм [6].
Среди житийной литературы можно найти и тексты о женщинах. В исследовании Л. В. Солоненко «Поэтика древнерусских женских житий» впервые вводится термин «женское житие», когда «женский» имеет отношение не к автору (авторство в эпоху Средневековья было не принято), а к предмету изображения — канонизированным церковью женщинам [10]. Главным элементом формирования женского типа древнерусской святости является образ пресвятой Богородицы, через который раскрывается глубина отношений Бога и человека. Великая миссия Девы Марии заключалась в спасении мира через рождение Иисуса Христа и указание истинного пути — пути к Богу. С появлением Богоматери женский образ становится одухотворенным, наделенным чистотой, непорочностью, мудростью, добротой, милосердием и человеколюбием, — все перечисленные качества составляли идеал женщины Древней Руси.
Тексты женских житий были более поздними в древнерусской литературе. Так, в большом количестве они представлены в книге «Жития святых» Димитрия Ростовского, составленной в 1689‒1705 гг., изданной в Киеве. Известно, что при создании сборника были использованы русские (церковнославянские тексты, в том числе «Великие Четьи-Минеи»), латинские (в том числе «Acta Sancto-rum»), греческие и польские источники. Переработку этих житий в дальнейшем выполнил В. О. Ключевский. Женские жития составляют значительную часть от всех текстов и располагаются по числам и месяцам. В 114 текстах повествуется о святых женах. 28 из них составляют именно жития, остальные тексты относятся к страданиям и памяти о святых.
Среди 28 житий представлены византийские жития женщин, демонстрирующие литературный канон, и древнерусские жития, в которых наблюдается не только следование предшествующим традициям, но и отступление от них в текстах более позднего времени. Героинями текстов женских житий становятся преподобные матери или жены; святые мученицы, великомученицы, преподобномученицы, первомученицы, святые всехвальные великомученицы; святые равноапостольные; святые чудотворицы и мученицы; святые царицы; святые праведницы; блаженные и блаженные отроковицы; святые диакониссы; святые пророчицы.
Данная классификация по-своему соотносится с общей классификацией житий по ликам святости. Под последним подразумеваются различные категории, на которые в православии принято разделять святых при их канонизации и почитании в зависимости от трудов их святой земной жизни. Исследователь Т. В. Ицкович предлагает классификацию ликов святости, состоящую из семнадцати типов-ликов: апостолы, бессребреники, благоверные, блаженные, великомученики, исповедники, мученики, праведные, преподобномученики, преподобные, пророки, равноапостольные, святители, священномученики, страстотерпцы, чудотворцы и юродивые [5, c. 5]. Как видим, среди женских текстов наибольшее место занимают жития и страдания святых мучениц, составляющие самую большую группу.
Канонические черты женского жития можно наблюдать, например, в житии «Страдание святых мучениц Веры, Надежды и Любви и матери их Софии». Жи- тие перевел святитель Димитрий Ростовской, опираясь на труды Макария и на «Акты Святых», в которых первое упоминание в Древней Руси о страдании дев и матери датируется XVI в. Самой младшей — Любви — к моменту их подвига исполнилось лишь 9 лет, Надежде — 10, Вере — 12. Их мать София являлась христианкой, действие происходило в Риме. Уже само название подчеркивает тот акцент, который будет важен, — акцент на страданиях, мучениях ради веры. И действительно страдания мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии были настолько сильными, истязания настолько жестокими, что не могли не вызывать эмоциональную реакцию у читателей жития. Девочек пытали поочередно, старшую, среднюю, младшую, все это происходило на глазах у матери, которая подвергалась не физическим пыткам, но испытанию верой. Именно она как мать воспитала своих дочерей в любви к Богу и посвятила их Богу как высшему началу.
В начале повествования автор упоминает, что благочестивая дева неспроста носила имя София: «она дѣйствительно олицетворяла собою мудрость, и при-томъ, не суетную человѣческую, а мудрость, исходящую свыше, ибо и вся жизнь ее преисполнена была той христианской мудрости, о которой апостолъ Iаковъ говорить: “Мудрость, исходящая свыше, во-первыхъ чиста, потомъ мирна, скромна, послушлива, полна милосердiа и добрыхъ плодовъ, безпристрастна и нелицемерна” (Iак. 3, 17)» [4, c. 4].
Элементом канона является подчеркивание достоинств юных дев — их красоты, благоразумия, усердия в домашних делах, но более всего знания пророческих и апостольских книг. Другой важнейший элемент канона — испытание верующих. Когда Софию и ее дочерей привели к императору Адриану, он предложил им принести жертву богине Диане. Но христианки не желали совершать языческий обряд. Правитель оставался непреклонен: ему было необходимо добиться публичного отречения Софии от веры, чтобы дискредитировать ее взгляды перед другими образованными людьми. Чтобы повлиять на Софию, Адриан решил приказать пытать детей — это был, по мнению императора, самый эффективный метод воздействия на женщину. Мать давала напутствие дочерям не бояться пыток и боли телесной, а показать всем веру «твердую», надежду «несомненную», любовь «нелицемерную и вечную», сама смерть станет для них наградой, так как Жених Небесный встретит их с радостью.
Адриан призывал сестер по очереди и мягко уговаривал принести жертву языческому божеству, но получил от всех твердый отказ, а затем и согласие претерпеть все муки за свою веру. Император приказал жестоко пытать сначала старшую Веру, затем Надежду и младшую Любовь, пытаясь напугать юных христианок жестокостью мучений. Но — еще одна особенность канона — невидимая, высшая сила сохранила их невредимыми, случились чудеса, и ни раскаленная решетка, ни кипящая смола или огонь не смогли навредить им. Особый акцент сделан автором жития на образе глубоко верующей матери. София, видя мучения дочерей, проявила необычайное мужество и, веря в награду от Небесного Владыки, нашла в себе силы убедить их терпеть страдания. Святые девы, не боясь обезглавливания, с радостью приняли мученический венец. Софии позволили забрать тела дочерей, чтобы придать земле. Она положила их в гроб, с по- честями вывезла на колеснице за город, похоронила, три дня сидела у могил с молитвами и хвалами Всевышнему и, наконец, отдала свою душу Господу.
В истории, произошедшей с тремя девами и их матерью, выделены два начала: не только сила духа и веры женщин, но и жестокость противоположной стороны, стремление деморализовать, напугать, сломить замученных противников. Автор жития провел важную мысль о том, что убийство не равносильно победе. Человек, который убит, но не сломлен духом, всегда оказывается победителем. Таким образом, духовные лики святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии становятся в житии символами бескорыстной веры в Христа, любви к нему и неумирающей надежды на вечную жизнь. Подвиг святых матери и трех ее дочерей превосходит человеческие возможности, они пожертвовали жизнью ради утверждения христианских принципов.
Продолжение темы мученической смерти юной девы ради святого небесного Жениха можно увидеть в целом ряде житий, в которых показаны стойкость, духовная преданность верующих дев и их мученическая смерть за христианскую веру. Это «Житие и страдания святой великомученицы Екатерины», самые ранние сведения о которой относятся к VI‒VII вв., что свидетельствует о переводном источнике, получившем широкое распространение в России. Или «Страдания святой великомученицы Марины», проливающей кровь на пытках вместо святого крещения и склонившей голову под меч палачей. Ей в видениях явилась вначале Небесная голубица, принесшая телесное исцеление, а потом и сам Господь Иисус Христос, признавший ее своей Невестой. Не менее трагична судьба святой великомученицы Варвары, которая была обезглавлена собственным отцом за нежелание отречься от Иисуса Христа и выйти замуж за язычника. К мученицам за христианскую веру относится и преподобная Евгения, которую обезглавили в 262 году в день рождения Христа.
Так, автор «Жития… Екатерины» указывал, что в ее жизни до крещения было все лучшее, почти идеальное: «Екатерина была одарена необыкновенной красотою. Несмотря на свою юность, ей было всего 18 лѣтъ, она отличалась муд-ростою, поражавшей мудрѣйшихъ мужей ученой, изысканной Александріи» [3, c. 3]. Родственники спешили выдать девушку замуж, но она поставила условие, что станет супругой того, кто превзойдет ее во всем: по знатности рода, по богатству, красоте и мудрости. Акцент в данном житии сделан на мудрости, учености Екатерины, изучившей творения всех языческих писателей, всех древних стихотворцев, философов, знаменитейших врачей. Не случайно важным испытанием, которая она прошла, было испытание беседой с мудрейшими философами.
В житии говорится о понимании и сочувствии матери Екатерине, которая была тайной христианкой и тайно отвела дочь к своему духовному отцу за советом. Мудрый старец становится учителем Екатерины, спасителем ее души, именно он поведал деве о юноше, который превзошел и ее, и любого человек во всем. Образ Небесного Жениха породил в душе будущей святой жгучее желание увидеть его, поэтому старец подарил Екатерине икону Божией Матери с младенцем Иисусом на руках. Старец наставлял с верой молиться царице небесной о даровании видения Ее Сына.
Далее в житие вводится мотив видения. Первое видение произошло, когда девушка непрестанно молилась ночью и удостоилась чести увидеть Божью Ма- терь, которая попросила своего Сына посмотреть на Екатерину, стоящую перед ними на коленях. Первоначальная реакция Иисуса была резка и неумолима: Младенец отвернул свое лицо от Екатерины, сказав, что не может смотреть на нее: она уродлива, как все люди до святого крещения, и не запечатлена печатью Святого Духа.
Второе видение произошло после того, как старец совершил над Екатериной таинство крещения и научил ее тайнам христианского учения. Он советовал оставаться целомудренной, неустанно молиться и верить во встречу с Иисусом. С этого момента лицо девушки сияло божественной благодатью. В очередном видении Господь смотрел на нее с нежностью и надел кольцо, тем самым посвятив ее себе. Произошло крещение и принятие христианской веры будущей святой, Иисус не отверг ее, а приблизил к себе, оказав великую честь: Екатерина стала Невестой Христа. Сам Иисус называет ее невестой вечной и нетленной.
Драматизм жития обостряется через сюжетный мотив испытания и чуда. Вначале император Максимин принял гуманное решение переубедить девушку пятьюдесятью мудрецами-язычниками, но произошло невероятное: Екатерина победила в словесном поединке, ее страстные речи в защиту Христовой веры изменили взгляды мудрецов настолько, что они уверовали во Христа и были сожжены.
Далее император пытался соблазнить святую Екатерину щедрыми дарами и славой — мотив дьявольского искушения. Получив гневный отказ, язычник подверг девушку жестоким пыткам, избиению, а затем посадил в тюрьму. Через некоторое время на судилище от мученицы требовали принести жертву языческим богам под угрозой колесования. Но произошло второе чудо: орудия казни были сокрушены ангелом после того, как Екатерина исповедалась Христу и направилась к колесу. Увидев это чудо, императрица Августа и придворный Порфирий вместе с солдатами уверовали в Христа, за что были обезглавлены. Элементом поэтики данного жития является уверование в христианского Бога большого количества людей, не только простых воинов, но и близких императора. Сила христианства становится непреодолимой.
Император Максимин не оставлял попыток сделать Екатерину своей женой, но каждый раз получал отказ. Святая хранила верность Небесному Жениху и с молитвой к нему сама положила голову на плаху под меч палача. Как только голову отсекли, ангелы забрали мощи девушки и перенесли на Синайскую гору. Духовный лик святой Екатерины, показывая, что никакие внешние влияния, убеждения и пытки не могут поколебать истинную веру в Бога и любовь к нему, является эталоном стойкости, бесстрашия, преданности Небесному Жениху. Описывая ее страдания, автор называет ее святой великомученицей, целомудренной девой, Невестой Христа.
Среди древнерусских женских житий широкую известность имели жития, посвященные княгине Ольге, святой благоверной княгине Анне Кашинской, преподобной Евфросинии Суздальской, преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой, святой Февронии, Юлиании Лазаревской и другим.
Особо выделено «Житие святой равноапостольной великой княгини российской Ольги», в котором описывается жена князя Игоря, оставшаяся с малолетним сыном после убийства мужа древлянами. В житии, как и в житиях о муче- ницах, подчеркивается ее мудрость. Новым является ее бесстрашие, сильный управленческий талант, однако главной ее заслугой стало не сохранение престола для сына, а принятие христианства. Она первая приняла новую веру в Константинополе, получив в крещении имя Елена, построила первый христианский храм в Киеве, способствовала распространению христианской веры на Руси. И хотя ее сын Святослав не принял крещения, внук Ольги Владимир стал крестителем всей Руси. Согласно канону жития, говорится в нем и о чудесах, которые происходили после ее смерти, сохраненные мощи святой приносили исцеление болящим, если вера их была сильна и непоколебима. Канонизация княгини Ольги состоялась в 1547 г., но ее почитание началось еще в домонгольские времена. «Житие святой благоверной княгини Анны Кашинской» повествует о судьбе женщины в жестокие времена монголо-татарского ига, в результате чего были убиты и казнены в разные годы в Золотой Орде ее муж, трое сыновей и один внук. Ей надо было смириться и пережить все смерти и лишения, казалось, что страданиям нет конца. Княгиня Анна обладала добродетелью терпения, смирения и кротости. После ее смерти начали происходить чудеса, и к XVII в. ее признали святой, но вскоре деканонизировали из-за ситуации церковного раскола, а вновь вернули в статус святой уже в 1909 г. «Житию святой благоверной княгини Анны Кашинской» была посвящена монография Т. Манухиной, которая вышла в Париже в 1954 г., а также исследования С. А. Семянко «Круг агиографических памятников, посвященных Анне Кашинской» [9].
Если говорить об изменениях в жанре женского жития, то от ранних житий II в., более каноничных, к поздним житиям ХVII в. отмечается развитие в изображении женского характера. Среди поздних житий XVII в., отходящих от устоявшегося канона и стремящихся наполнить изложение реальными биографическими фактами, наиболее значительное место принадлежит житию Юлиании Лазаревской, написанному в 20‒30-е гг. XVII в. ее сыном Калистратом Осориным. Наиболее крупным исследованием жития-повести «Житие праведной Юлиании (Иулиании) Лазаревской (Муромской)» стала в середине ХХ в. работа М. О. Скрипиля «Повесть об Ульянии Осорьиной: исторические комментарии и тексты». Автор указывает на жанровые особенности произведения, считая, что это биография с элементами светской хроники, а житийные черты в ней как часть традиции [9]. В 1996 г. Т. Р. Руди доказывает обратное, что произведение относится к агиографическому жанру, имеющему новаторские черты [9]. Эта идея усиливается в исследовании Л. В. Солоненко «Поэтика древнерусских женских житий» [10].
В отличие от ранних переводных житий, изображавших подвиг женщин-страдалиц ради веры, имеющих следующую структуру: путь героини к христианскому крещению, исповедание христианства перед язычниками, мучения, казнь, посмертные чудеса, новое житие отражает не столько жизнеописание с пытками, казнями и чудесами, сколько историю семейной хроники, вышедшей из-под пера светского автора, знающего подробности биографии человека, о котором он пишет.
Первоначально создается образ тихой и послушной девушки Юлиании, которая с детства была боголюбива, благородна, смиренна, не любила суеты. Она помогала сиротам и нуждающимся, усердно молилась и строго соблюдала пост.
Когда Юлиании исполнилось 16 лет, ее выдали замуж за богатого и добродетельного человека Георгия Осорьина. Именно с браком связано церковное становление святой. Послушание родителям мужа и ведение хозяйства у Юлиании Лазаревской заменяют монашеское послушание. После Бога и Божией Матери она больше всего чтила святого Николу, который защищал ее и семью от демонических сил.
Проявлениями доброты, милосердия, сострадания наполнены события очередного этапа ее жизни. Когда в 1570 г. наступил голод и многие люди умирали от истощения, она тайно раздавала хлеб голодающим. Во время эпидемии чумы Юлиания тайно мыла больных в бане, лечила их, как могла, и молилась об их выздоровлении. Тех, кто умер, она обмывала, а потом нанимала людей для погребения. Также, когда ее свекор и свекровь умерли в очень преклонном возрасте, приняв перед смертью обеты, она похоронила их с честью, раздав богатую милостыню.
Очередной поворот в ее судьбе происходит после трагической гибели двух сыновей — мотив земных страданий усиливается. Юлиания стала просить супруга отпустить ее в монастырь, но он не дал согласия, ссылаясь на слова пресвитера Космы о том, что человека украшают не монашеские облачения, а добродетели. Последующая жизнь святой превратилась в непрестанную молитву и служение. Она заботилась о вдовах, сиротах и помогала бедным. Спустя десять лет муж скончался, и Юлиания стала вольна распоряжаться имуществом.
Автор обращает внимание на то, что ее благочестие приобрело более монашеский характер, и вводит мотив видения и испытания голодом. В житии рассказывается, что в годы страшного голода при царе Борисе полностью раскрывается подвиг жизни Юлиании — подвиг христианской любви. От нее не было слышно ни слова ропота или печали, наоборот, несколько мучительно голодных лет она пребывала в особом приподнятом и радостном настроении, пекла хлеба и раздавала нуждающимся. В житие говорится: «Оставшимся при ней слугам приказывала собирать лебеду, сдирать с дерева илем (род вяза) кору и готовить из них хлебы, которыми и питались сами с детьми и рабами. По ее молитвам хлеб, сделанный из лебеды с корой, оказывался достаточно сладким, и нищие, которых по причине голода было необыкновенно много, толпами приходили за подаянием к милостивой Иулиании»1.
Особо изображен мотив смерти святой. 26 декабря 1603 г. Юлиания тяжело заболевает. Находясь на смертном одре, она причастилась Святых Таинств, затем призвала родных и учила любви, молитве, милосердию и другим добродетелям. Юлиания попросила у всех прощение, дала последние наставления, поцеловала всех, намотала на руку четки, трижды перекрестилась и умерла.
Восхищаясь «смиренной красотой» подвига Юлиании Лазаревской, Г. П. Федотов писал: «Юлиана Лазаревская — святая преимущественно православной интеллигенции. В ней находит свое олицетворение ее традиционное народолюбие и пафос социального служения. Хотя Юлиания прошла через суровую аскезу и мечтала о монашестве, но не внешние причины помешали ей при- нять его. Она осталась верной своему личному христианскому призванию служения миру и деятельной христианской любви» [10].
Итак, святая Юлиания проходит через множество испытаний и искушений и на каждом этапе доказывает свою верность Богу. Никакие обстоятельства не могут сломить ее, во всех случаях она ведет себя как истинная христианка. Таким образом, духовное лицо Юлиании Лазаревской — это олицетворение доброты, терпения, трудолюбия, желания помогать близким. Суть подвижничества святой заключается в «любви нелицемерной» к ближнему, которую она проповедовала и «делом исполняла» всю жизнь. Агиографические идеалы святой в данном житии были присущи женщине-мирянке, погруженной в быт, автор обращает внимание на конкретного человека, видя в нем достойную жития героиню.
Говоря об идеале совершенной святости, философ В. С. Соловьев указывал на то, что «через уподобление святым может совершенствоваться человек и определить истинность своих поступков» [11, c. 108]. Жизнь мучениц и праведниц, описанная в житиях, представляет собой высшую степень терпения, любви и самопожертвования.
Помимо идейного наполнения в женских житиях прослеживается тесная связь византийской и древнерусской агиографической традиции: происхождение от благочестивых родителей; проявление богоугодной и аскетической жизни; чудеса, происходящие со святыми при их жизни или после смерти. Кроме того, русские женские жития имели ярко выраженные черты своеобразия, они были связаны с событиями русской истории, включали фрагменты русского фольклора.
В. Н. Топоров в книге «Святость и святые в русской духовной культуре» обращал внимание на глубокий смысловой пласт житийной литературы: «… перед нами огромная литература о лучших людях, просветленных верою и избравших себе образцом для подражания жизнь Христа, об их жизненном подвиге, об их святости, о том идеальном мире, которому они учили и который существовал и для составителей житий и для их читателей и слушателей, и, следовательно, о духовных устремлениях самих этих людей. В этом отношении ничто в древнерусской литературе, как и в литературе более позднего времени, не может сравниться с этой энциклопедией святости и ее носителей» [12, c. 12]. И достойное место среди святых принадлежит образам женщин, чей духовный облик полон любви к Богу, принятия земных страданий и мученической смерти, несломленности и силы духа.
Список литературы Женские образы - лики в житиях древнерусской литературы
- Литературная энциклопедия терминов и понятий / под редакцией А. Н. Николюкина. Москва: Интелвак, 2001. 1600 стб. Текст: непосредственный.
- Ключевский В. О. Древнерусские жития как исторический источник. Москва: Просвещение, 1989. 490 с. Текст: непосредственный.
- Ицкович Т. В. Читаем вместе жития святых. Екатеринбург: Ажур, 2016. 95 с. Текст: непосредственный.
- Солоненко Л. В. Поэтика древнерусских женских житий: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Владивосток. 2006. 24 с. Текст: непосредственный.
- Жизнь и страдания св. великомученицы Екатерины девы премудрой / составлено по: Четьи-Минеям св. Дмитрия Ростовскаго. Ноября 24 дня. Изд. 6-е. Москва: Отделение Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1910. 32 с. Текст: непосредственный.
- Манухина Т. Святая благоверная княгиня Анна Кашинская. Париж, 1954. 196 с. Текст: непосредственный.
- Семянко С. А. Круг агиографических памятников, посвященных Анне Кашинс-кой // Труды ОДРЛ. 1996 (1997). Т. 50. С. 531‒536. Т. 51. С. 221‒231. Текст: непосредственный.
- Скрипиль М. О. Повесть об Ульянии Осорьиной (исторические комментарии и тексты // ТОДРЛ. Москва; Ленинград, 1948. Т. IV. С. 256‒273. Текст: непосредственный.
- Руди Т. Р. Житие Юлиании Лазаревской: (повесть об Ульянии Осорьиной). Санкт-Петерург: Наука, 1996. 238 с. Текст: непосредственный.
- Житие Юлиании Лазаревской (Повесть об Ульянии Осорьиной) / исслед. и под-готовка текстов Т. Р. Руди; ответственный редактор Р. П. Дмитриева. Санкт-Петербург: Наука, 1996. С. 120–140. Текст: непосредственный.
- Сытенко Л., Сытенко Т. Владимир Соловьев в преемственности философской мысли. Казань: Экспресс-плюс, 2005. 755 с. Текст: непосредственный.
- Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 1. Первый век христианства на Руси. Москва: Гнозис; Языки русской культуры, 1995. 875 с. Текст: непосредственный.