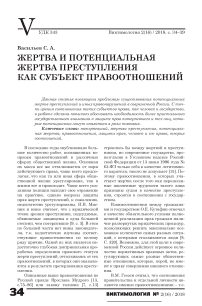Жертва и потенциальная жертва преступления как субъект правоотношений
Автор: Васильев С.А.
Журнал: Виктимология @victimologiy
Рубрика: Потерпевший от преступления
Статья в выпуске: 2 (16), 2018 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена проблемам существования потенциальных жертв преступлений и иных правонарушений в современной России. С точки зрения соотношения таких субъектов права, как человек и государство, в работе сделана попытка обосновать необходимость более пристального государственного внимания к защите прав потерпевшего и тех лиц, которые потенциально могут оказаться в роли таковых.
Потерпевший, жертва преступления, потенциальная жертва, правоотношения, защита прав, теория соотношений
Короткий адрес: https://sciup.org/14119385
IDR: 14119385 | УДК: 343
Текст научной статьи Жертва и потенциальная жертва преступления как субъект правоотношений
В последние годы опубликовано большое количество работ, посвященных вопросам правоотношений в различных сферах общественной жизни. Основная их масса все же отталкивается от норм действующего права, чаще всего предполагая, что как та или иная сфера общественной жизни урегулирована, так в жизни все и происходит. Чаще всего указанная позиция находит свое отражение на практике, однако вопросы защиты прав жертв преступлений, к сожалению, недостаточно урегулированы. И.В. Мисник и вовсе считает, что с юридической точки зрения преступники, подсудимые, обвиняемые защищены в куда большей степени, чем потерпевшие [9, с. 3]. В этом по большей части нет вины законодателя, т.к. недостаточно изучены соответствующие правоотношения по целому ряду причин. Одной из них является недостаточно глубокая доктринальная проработка определения правового статуса жертв преступлений, отталкиваясь от тех правоотношений, в которых они оказываются в результате претерпевания престу- строились бы между жертвой и преступником, но современное государство, провозгласив в Уголовном кодексе Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ только себя в качестве легитимного карателя, такого не допускает [15]. Поэтому правоотношения, в которых участвует жертва после того как перенесенные жизненные трудности такого лица признаны судом в качестве преступления, строятся в соотношении с государством.
Взаимоотношения между гражданами и государством О.Е. Кутафин отмечал в качестве обязательного условия полноценной реализации прав граждан наличие развернутых юридических процедур, позволяющих решить максимально возможное количество самых разных ситуаций, с которыми сталкиваются люди [8, С. 320]. Возможно, для этой цели в современной России действует огромное количество нормативных правовых актов, регулирующих самые разные общественные отношения, которые, порой, не имеют к праву совершенно никакого отноше- пления.
ния.
Описанные выше правоотношения по Русской правде Ярослава Мудрого [13,
с.75– 86] или закону талиона [7, с.13]
В.М. Гессен считал, что соотношения правительства и отдельной личности яв ляются именно правоотношениями – т.е.
отношением между правовыми субъектами, изначально юридически равными друг другу. Это отличает властеотноше-ния, в рамках которых субъект оказывает воздействие на подвластный ему объект [5, с.56].
В Европе же бытовало иное мнение, согласно которому координация деятельности людей, управление ими, даже если последние того не желают, считалось долгом власти [3, с.261]. То есть, люди самостоятельно принимают решения, осуществляют активные действия, государство же вносит лишь некоторые коррективы.
В случае с жертвами преступления все так и выходит в конечном итоге: государство инициативно не стремится активным образом восстановить нарушенные права человека, оставляя только юридические гарантии и иные условия, с помощью которых потерпевший должен инициативно обращаться в компетентные органы, восстанавливать справедливость, преодолевая бюрократизм, доказывая свою правоту, собирая справки, иные документы, дополнительные доказательства, о чем ярко свидетельствует ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ [14].
Конкретные виды государственной защиты жертвы преступления перечислены в гл. 2 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» [10], однако на практике следует обосновать необходимость их реализации.
Так, статус потерпевшего еще необходимо «заслужить», соблюдая фактические и юридические основания. Жертва преступления должна быть готовой в любой момент подтвердить то обстоятельство, что в отношении нее был причинен вред (фактическое основание), а также необходимо юридическое оформление самого преступного посягательства компетентным лицом. Описывающий данные обстоятельства в свое работе М.К. Джа-шуев, отмечает также то, что в уже упоминавшейся ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ прописаны процессуальные права потерпевшего для того, чтобы он мог восстанавли- вать свои права. При этом автор справедливо употребляет такие слова, как «бороться», «добиваться» и др. [6, с.90–91].
М.С. Сирик отмечает, что в России отсутствует целостная всеобъемлющая государственная виктимологическая доктрина, направленная на качественное и эффективное государственное воздействие на правоотношения с целью защиты прав потерпевших. Это, в свою очередь, обуславливает неправильную квалификацию отдельных преступлений, искаженный статистический учет и ряд других криминологических последствий, негативным образом влияющих на соблюдение и защиту прав человека в России [11, с.4].
Кроме того, недостаточно эффективная защита потерпевшего и иных потенциальных жертв преступления негативным образом влияет на сам ход уголовнопроцессуального разбирательства, т.к. люди боятся участвовать в указанных процедурах, умалчивают известные им факты и в целом не мотивированы на плодотворное сотрудничество с государством [18, с.113].
В этой связи предлагается переменить парадигму самих правоотношений между государством и потерпевшим, согласно которому публичная власть посредством работы своих компетентных органов должна инициативно самостоятельно решать проблемы потерпевших, в особенности тех лиц, которые стали жертвами тяжких и особо тяжких преступлений. С моей точки зрения, об оперативных мерах по поддержке или защите потерпевшего должен инициативно принимать решение субъект, возбудивший уголовное дело с письменного согласия самого защищаемого. Социальные и иные меры могут приниматься государством после вынесения приговора преступнику.
При этом, безусловно, необходимо не просто учитывать объективную необходимость принятия соответствующих мер со стороны государства, но и выработать определенные критерии рекомендательного характера, служащие ориентиром лицу, принимающему решение о применении мер защиты пострадавшего. Исходя из судебной практики, средств массовой информации, приходится констатировать большое количество случаев, когда в обычных бытовых условиях муж систематически избивает жену, последняя 35
в редких случаях, не выдерживая, обращается в правоохранительные органы, которые задерживают фактического преступника, а через какое-то время выпускают его обратно. После этого все возвращается на круги своя. Как справедливо замечает К.В. Вишневецкий, некоторые люди, как, например, в описанном примере, сами изначально являются потенциальными жертвами правонарушений, что является их индивидуальной особенностью [4, с.212].
Здесь же следует отметить, что уголовное законодательство, как материальное, так и процессуальное, фактически создало такую ситуацию, при которой любой из нас является незащищенным. Так, пока не совершено преступление, какая бы угроза ни нависала над каждым из нас, правоохранительные органы не смогут защитить человека, совершенно справедливо не имея на то законных оснований. Так, на протяжении 2013-2014 годов жительница города Домодедово Московской области несколько раз обращалась к участковому уполномоченному полиции с жалобами на то, что владелец собаки, проживающий с ней в одном подъезде, выпускает своего питомца на улицу, в подъезд многоквартирного жилого дома без поводка и намордника. Данная собака бросалась на людей, держа в страхе весь подъезд. Полиция не могла никак отреагировать на данные обращения, беседы с владельцем собаки не давали результата. Фактически все находились в ожидании того, как один из соседей окажется покусанным. Таким образом, все жители описанного подъезда и близлежащих окрестностей фактически являлись потенциальными жертвами, пусть не преступления, но халатности, способной привести к негативным последствиям.
В практике Европейского суда по правам человека существует понятие потенциальной жертвы, которое относится к отношениям потерпевшего, хоть и потенциального, и государства, на территории которого он находится. Сущность данной категории сводится к тому, что законодательство государства или правоприменительная практика потенциально способна в будущем негативным образом сказаться на таком человеке [1, с.36]. Данный опыт, по моему мнению, вполне возможно применить к российскому уголовно-правовому регулированию с соот- 36
ветствующей процессуальной адаптацией к осуществляемым правоотношениям.
Отдельные составы преступлений превращают обычных, ничего не подозревающих граждан в потенциальных жертв преступлений. Например, Е. М. Юцкова считает, что терроризм в качестве жертвы преступления должен предполагать не только тех лиц, которые пострадали от соответствующих действий, являются потерпевшими, но и всех остальных граждан, которые начинают бояться посещать публичные мероприятия, опасаются лиц, выглядящих подозрительно и т.д. [17, с.84]. Ю.В. Бурова особым образом отмечает подверженность детей такому негативному воздействию со стороны террористов [2, с.32–24]. Е.В. Шевченко справедливо относит детей, в особенности отдельные их категории к изначальным потенциальным жертвам негативного воздействия на них из вне по их сугубо психо-социальным особенностям [16, с.227].
М. А. Стародубцева к таким относит преимущественно проводящих свое свободное время дома в социальных сетях и на иных Интернет-ресурсах [12, с.136].
-
А. В. Яшин предлагает относить к потенциальным жертвам преступления всех физических лиц, вовлекаемых в уголовный процесс, т.к. их участие в указанных мероприятиях, как в настоящее время, так и в прошлом, могло быть основанием, которое может побудить подозреваемых совершить в отношении таких лиц противоправные деяния [18, с. 117].
Эти обстоятельства также необходимо учитывать при выработке предложений нормативного правового совершенствования регулирования правоотношений. Таких лиц частично можно признать косвенными жертвами, т.к. непосредственным образом они не пострадали, с уголовно-процессуальной точки зрения они не могут быть потерпевшими, однако их законные интересы затронуты [1, с.32] и должны быть учтены.
Кроме того, в доктрине высказываются позиции, согласно которым суд должен учитывать отдельные интересы потерпевших при вынесении наказания преступнику [11, с.8]. В этой связи, безусловно, никто не говорит об обязательной реализации мнения потерпевшего в указанной ситуации. На основании действующего нормативного правового регулирования, фактически возможно только категорическое смягчение наказания путем примирения с потерпевшим и все. В то же время большинство наказаний, предусмотренных действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, граждане считают несоразмерными тем деяниям, которые они совершили. Поэтому при вынесении приговора, с моей точки зрения, суд должен учитывать, в том числе и позицию потерпевшего, что также явится одной из гарантий защиты законных интересов граждан.
На основании всего вышеизложенного предлагается существенным образом пересмотреть положения Федерального закона от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» и отдельные положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ для защиты со стороны государства не только жертв уже состоявшихся преступлений, но и тех, над кем постоянно нависает угроза. Граждане должны находиться в состоянии постоянной защищенности, обеспечиваемой государством. Безусловно, для этого необходимо вырабатывать норма- тивные правовые критерии в отношении тех, кто еще не стал жертвой преступления, но потенциально может ей быть. Это обусловлено тем, что существуют разные категории людей, некоторые из которых, по их словам, постоянно нуждаются в государственной защите, но фактические основания для этого отсутствуют.
Такими критериями могут быть, например, совершение в отношении потерпевшего административного правонарушения, подтвержденные обращения в правоохранительные органы, по тем или иным причинам не позволявшие государству привлечь нарушителя к ответственности, участие лица в уголовном процессе в качестве свидетеля и т.д.
Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью, соблюдение, обеспечение и защита которых является прямой обязанностью государства. Принятие и реализация на практике высказанных в данной работе предложений позволит еще раз подтвердить, что данная конституционная норма не декларативна, существенным и позитивным образом воздействует на правовой статус граждан России.
Список литературы Жертва и потенциальная жертва преступления как субъект правоотношений
- Афанасьев Д.В. К вопросу о субъектах обращения в Европейский Суд по правам человека (непосредственная, косвенная и потенциальная жертвы) // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2008. - № 12. - С. 31-38.
- Бурова Ю.В. Дети как потенциальные жертвы террористических акций // Научные исследования в социально-экономическом развитии общества: Материалы Международной научно-практической конференции. Редколлегия: Б.Ф. Кевбрин (отв. ред.) [и др.]. - Саранск: Принт-Издат. - 2017. - С. 32-34.
- Виппер Р.Ю. Учебник истории. Часть III. Новое время. - Рига: Изд. акц. общ. Вальтере и Рапа, 1928. - 473 с.
- Вишневецкий К.В. Место виктимологической теории в криминологии // Теория и практика общественного развития. 2011. № 5. С. 209-213.
- Гессен В.М. Основы конституционного права. - Петроград: Право, 1918. - 438 с.