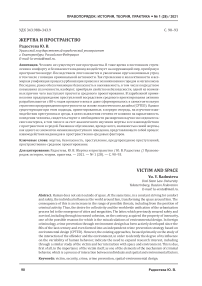Жертва и пространство
Автор: Радостева Ю.В.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Теория и практика противодействия преступности
Статья в выпуске: 1 (28), 2021 года.
Бесплатный доступ
Человек не существует вне пространства. В тоже время в постоянном стремлении к комфорту и безопасности индивид воздействует на окружающий мир, преобразуя пространство вокруг. Последствием этого является и увеличение круга возможных угроз, в том числе с позиции криминальной активности. Так стремление к коллективности и всемирная унификация процесса урбанизации привели к возникновению городов и мегаполисов. Последние, ранее обеспечивающие безопасность и выживаемость, в том числе посредством повышения сплоченности, наоборот, приобрели свойство небезопасности, одной из возможных причин чего выступают просчеты средового проектирования. В зарубежной криминологии предупреждение преступлений посредством средового проектирования активно разрабатывается с 80-х годов прошлого века и даже сформировалось в самостоятельную стратегию предупреждения преступности на основе экологического дизайна (CPTED). Однако существующие при этом подходы, ориентированные, в первую очередь, на изучение взаимодействия преступника и среды, в целях выявления степени ее влияния на вариативность поведения человека, свидетельствуют о необходимости расширения научно-исследовательского интереса, в том числе и за счет аналогичного изучения жертвы и ее взаимодействия с пространством и средой. Указанное обусловлено, прежде всего, значимостью самой жертвы, как одного из элементов механизма преступного поведения, представляющего собой процесс взаимодействия индивидов и пространственно-средовых факторов.
Жертва, безопасность, преступление, предупреждение преступлений, пространственно-средовое проектирование
Короткий адрес: https://sciup.org/14119332
IDR: 14119332 | УДК: 343.988+343.9
Текст научной статьи Жертва и пространство
Человек немыслим вне пространства, как формы существования материи. Порождением потребностей человека, выступает деятельность, направленная на преобразование окружающего мира, благодаря которой постоянный рост уровня жизни, комфорта и безопасности воспринимается абсолютно естественно. В своем стремлении к созданию такого комфортного и безопасного пространства человек всегда использовал пространственные формы для своей защиты. Он обустраивал жилище в недоступных для проникновения чужаков местах, регулировал способы проникновения в эти внутренние пространства, выстраивал заградительные сооружения и многое другое.
Но человек — существо коллективное и там, где он поселяется, возникает множество жилищ, соседствующих друг с другом. По мере роста их количества, образовались кварталы, поселения, города, мегаполисы. Последние, ранее обеспечивающие безопасность и выживаемость, в том числе посредством повышения сплоченности, наоборот, приобрели свойство небезопасности (за счет повышенной плотности населения, дефицита средств жизнеобеспечения, жилищных, транспортных проблем, недостатка личного пространства и просчетов, связанных с его организацией и т. д.).
Очевидно, что на сегодняшнем этапе развития человечества большая часть окружающего его пространства так или иначе подверглась воздействию человека. А с увеличением этого преобразующего влияния, соответственно, возросли и масштабы опасностей, порождаемых им, в том числе и с позиций криминального поведения. Последнее, будучи процессом происходящим в определенном времени и в пространстве, неизбежно мотивационно обусловлено этим оказываемым на него влиянием внутренних и внешних факторов среды [2, с. 176].
Таким образом, и механизм конкретного преступления представляет собой процесс взаимодействия индивидов (преступника, жертвы, иных лиц) и пространственно-средовых факторов, формирующий их поведение и реализующий его.
Материал и методы
Существующие подходы к проблеме обеспечения безопасности того или иного пространства (городского, уличного, дорожного и т. д.) носят преимущественно предметно-отраслевой характер, что является очевидно недостаточным для создания безопасной и комфортной среды и, в конечном счете, решения основной стратегической задачи обеспечения безопасности личности от внутренних и внешних угроз. Требуется совершенно новый интегрированный подход, включающий объединение технической и гуманитарной составляющих проблемы обеспечения пространственно-средовой безопасности, основанный на теоретических выводах средовой криминологии (криминологии среды), как разновидности ситуационного направления предупреждения преступлений, т. е. выделении элементов окружающей среды и пространства, оказывающих криминогенное воздействие на человека и виктимизацию жертвы и последующем анализе степени их влияния на вариативность поведения человека.
Результатыи обсуждение результатов
Действия преступника зачастую зависят не только от его личностных установок, стремлений, наклонностей и прочего. В большинстве случае в конкретном преступлении между преступником и жертвой имеется взаимосвязь. Как в свое время образно выразился Ганс фон Гентиг «часто преступник и жертва подходят друг к другу как замок и ключ» [4, с. 384]. Используемые же ими при этом среда и пространство, наряду с иными составляющими, также оказываются не всегда случайным фактором, взаимовлияющим и взаимообуславливающим их поведение.
Соответственно, подобные характеристики среды и пространства вполне могут быть подвержены корректировке с позиции, например, минимизации удобства и возможности совершения преступления.
Влияние пространственных факторов на формировании отношений между людьми, как криминальных, так и некриминальных, стало предметом исследования еще с начала 60-х годов ХХ столетия. Появившиеся направления — энвайронментальная криминология, средовая криминология и др. изучают преступность и виктимизацию в связи с особенностями среды и с учетом того как индивиды и группы организуют собственную активность пространственно. Вспомним теорию «виктимности 7 секунд» американского исследователя Бетти Грейсон, утверждавшей, что обычный преступник не нападает на жертву просто так, не обращая внимания, что за личность перед ним. Но в отсутствие внешних условий для этого положительный результат может оказаться и недостижим1. Указанный вывод вполне коррелирует с новейшими исследованиями в области нейробиологии о том, что мозг человека подготавливается к мыслительной активности еще до того момента как человек это осознает.
Соответственно, когда человек сталкивается с выбором из каких-либо альтернатив избирательности своего поведения, о которых нужно подумать, то изначальные зачатки мыслей уже находится в подкорке подсознания. Как только наше подсознание приступает к выбору о дальнейшем поведении, исполнительные отделы мозга выбирают тот вариант мысли, чей сигнал оказывается сильнее остальных. Иначе говоря, в случае, когда подсознательная активность находит отклик в одном из возможных существующих выборов, мозг с большой долей вероятности выберет указанный вариант среди предложенных альтернатив, поскольку именно этот сигнал усиливается подсознательной активностью» [5].
Таким образом, установке преступника об удобстве/неудобстве территории для совершения преступления, как, например: ограниченность пространства, его открытость или, наоборот, закрытость для специального или социального контроля; расстояние до иных объектов, в том числе объектов безопасности (например, опорных пунктов полиции, систем фото и видео фиксации и др.) или объектов, имеющих соответствующие маркеры безопасности (наличие специальных знаков о ведущемся наблюдении, наличии систем охраны и др.); возможности (невозможности) слияния преступника со средой, при которой его присутствие в данном месте не должно привлекать внимания или вызывать подозрения; степень посещаемости территории; возможности перемещения на ней (способы, количество направлений, удобство использования тех или иных видов транспорта и др.); возможность беспрепятственного сокрытия преступления и преступника и т. д.) зачастую противостоит обратная установка жертвы относительно данной территории и пространства: как безопасного либо нет.
Указанная установка одновременно доминантно распределяется с иными ценностями и факторами (например, удобства, экономии, привычек, стереотипов поведения, когнитивных установок и предвзятостей и т. д.).
Соответственно, задача преобразования территории и пространства в целях придания им свойств безопасности (включая антикрими-нальную) осложняется за счет необходимости создания предпосылок индивидуального субъективного ранжирования индивидом-пользователем пространства и территории приоритета безопасности в числе иных ценностных установок избирательности своего поведения и нивелирования возможности негативной оценки мер безопасности, как существенно осложняющих жизнь (требующей значительных временных, экономических, психологических, физических и иных затрат).
Дополнительным позитивным результатом такого воздействия при помощи факторов среды и пространства является то, что он одновременно может корреспондирующе влиять на избирательность индивида в выборе анти-криминального правомерного варианта поведения и снижении уровня виктивности поведения жертвы. Трэвисом Хирши, основоположником теории социального контроля, по этому поводу было замечено, что при всей поливариативности мотивации людей к совершению преступления и уклонения от его совершения, второе (что останавливает людей от совершения преступления) важнее, чем первое. Соответственно, в поисках различий между лицами, совершающими преступления и не совершающими их, следует прежде всего искать не присутствие или отсутствие «зеленого цвета» на совершение правонарушения, а, наоборот, тот «красный цвет», который останавливает людей от совершения преступления [3, с. 205].
Выводы
Совершенствование мер по предупреждению преступности требует поиска новых моделей по достижению указанной цели.
Среди таких относительно новых способов противодействия преступности является предупреждение преступлений при помощи пространственно-средового проектирования, как разновидности ситуационного подхода к изучению конкретной ситуации в генезисе процесса криминальной и предкриминальной активности, развертывающегося в конкретном пространстве и времени. Указанный подход имеет существенные наработки в зарубежной криминологии.
Ситуационные модели предупреждения преступности разрабатывались в числе теорий, которые ряд авторов условно именуют теориями рационального выбора (теория сдерживания, собственно теория рационального выбора, теория самоконтроля, теория возможностей и др.) [1, с. 350].
Это предполагает, с одной стороны, возможность воздействия на ситуацию совершения преступления (сдерживающего, устраняющего, минимизирующего и т. д.), с другой — позволяет оценивать эффективность предупреждения по количеству лиц, воздержавшихся от их совершения, что фактически и является идеальной целью создания условий безопасности в обществе.
Подобная модель предупреждения преступлений посредством средового проектирования с 80-х годов 20-го столетия сформировалась в самостоятельную стратегию предупреждения преступности на основе экологического дизайна (CPTED), широко используемого во многих странах (США, Великобритании, Нидерландах, Финляндии, Норвегии, Франции и др.).
Несмотря на значительное внимание зарубежной криминологии данному направлению криминологического знания, следует отметить его пробельность в части изучения влияния пространства на жертву, выступающую нередко не менее значимым элементом механизма преступного поведения, что требует по-новому переосмыслить уже достигнутое.
Заключение
Мотивационная обусловленность избирательности поведения индивида в конкретной жизненной ситуации (преступника, жертвы, иных лиц) зависит от многих факторов, включая факторы пространства. В силу этого последние вполне могут быть предметом криминологического изучения в целях последующей корректировки с позиции придания им свойств сдерживания от того или иного негативно-разрушительного варианта поведения (криминального, виктимного и т. д.).
Изложенное обуславливает возможность включения в исследовательский потенциал методик средового проектирования с позиции его воздействия не только на преступника, но и на его потенциальную жертву.
Список литературы Жертва и пространство
- Гуринская, А. Л. Англо-американская модель предупреждения преступности: специальность 12.00.08 "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право": дис. … д-ра юрид. наук / Гуринская Анна Леонидовна. - Санкт-Петербург, 2018. - 555 с.
- Криминология: учебник / под. ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. - 5-е изд. перераб. и доп. - Москва: Норма: Инфра-М, 2018. - 800 с.
- Криминология / под ред. Дж. Ф. Шелли. - Санкт-Петербург: Питер, 2003 - 864 с.
- Hansvon Henting. The Criminal and His Victim: Studies in the Sociobiology of Crime. New Haven: Yale University Press, 1948, 461 p.
- Koenig-Robert, R., Pearson, J. Decoding the contents and strength of imagery before volitional engagement. Scientific reports, 2019;9(1):3504. DOI: 10.1038/s41598-019-39813-y