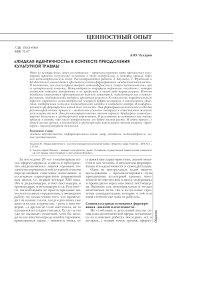"Жидкая идентичность" в контексте преодоления культурной травмы
Автор: Чукуров Андрей Юрьевич
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Ценностный опыт
Статья в выпуске: 4 (53), 2019 года.
Бесплатный доступ
Одна из центральных задач исследования - проанализировать пути преодоления культурной травмы полученной человеком в эпоху модернизма, и которая прошла через всю постмодернистскую эпоху. Рассматриваются работы З. Баумана, Т. Фридмана и М. Кастельса, выявляются причины и условия формирования «жидкой идентичности». В частности, мы анализируем теорию метамодернизма и «новую чувственность», как ее центральный концепт. Метамодернизм оперирует термином «колебание», которое позволяет избегать конкретики и не прибегать к какой-либо нормализации. Именно колебание становится принципиально важной категорией, избавляющей нас о категоричности, необходимости выбора и принятия решения. К сожалению, парадоксальным образом стратегия метамодернизма ускоряет дефрагментацию и атомизацию общества, поддерживая иллюзию индивидуальной свободы и свободного выбора. В информационную эру формируется новый тип личности. Это формирование включает в себя два разнонаправленных процесса - тотальное усиление контроля и естественное желание ускользнуть от него. Эта разнонаправленность станет первым «драйвером» социокультурной динамики в среднесрочной перспективе. В результате исследования мы также пришли к выводу, что число конфликтных зон будет только расти. И этот процесс, с нашей точки зрения, в ближайшей и среднесрочной перспективе станет вторым «драйвером» социокультурной динамики.
Жидкая идентичность, информационная эпоха, квир, колебание, метамодернизм, новая чувственность
Короткий адрес: https://sciup.org/140244737
IDR: 140244737 | УДК: 130.2+008
Текст научной статьи "Жидкая идентичность" в контексте преодоления культурной травмы
Чукуров А.Ю. «Жидкая идентичность» в контексте преодоления культурной травмы // Общество. Среда. Развитие. – 2019, № 4. – С. 57–64.
За последние 20 лет гуманитарная наука сформулировала и ввела в пространство академического знания огромное количество терминов, в той или иной степени определяющих смысловое наполнение и культурные характеристики современной нам эпохи, т.е. первой четвери XXI века. Это и диджимодерн, и пост-постмодерн, и трансмодерн, и метамодерн и т.д. Разумеется, мы наблюдаем не просто праздные интеллектуальные упражнения, а очевидную работу по осмыслению того, что происходит на наших глазах, когда одна эпоха уже явно осталась в прошлом, – речь о постмодерне, – а другая не то не наступила, не то находится на стадии генезиса. Если – и это уже не вызывает сомнений, хотя бы исходя из количества определений и терминов, приведенных выше, – меняется эпоха, ее сущностные характеристики, значит меняется и сам человек, и механизмы формирования его идентичности и самоадаптации.
Одна из центральных задач нашего исследования – проанализировать пути преодоления культурной травмы, полученной человечеством в эпоху модернизма и прошедшую через всю эпоху постмодерна. Выявить как потенциальные и только намечаемые пути, так и актуальные стратегии самоадаптации, которые в той или иной степени уже начали работать.
Социокультурные основания формирования «жидкой идентичности»
Не углубляясь в детальный анализ социально-экономической сферы, остановимся на ключевых работах последних лет, в которых, с нашей точки зрения, сформу-
Общество
Общество. Среда. Развитие ¹ 4’2019
лированы основные тезисы и концепции, дающие исчерпывающие характеристики данного исторического периода. Одновременно, эти тексты, опять же с нашей точки зрения, являются наиболее показательными и репрезентативными в аспекте духовной культуры. Более того, несмотря на некоторую методологическую разницу в подходах, они удивительно похожи, а отдельные тезисы попросту совпадают, если и не дословно, то уж точно по смыслу. И именно эти тексты научная сфера и просто читающее общество восприняли как своего рода манифесты или фундаментальные труды, раскрывающие специфику современного состояния культуры в целом или отдельных ее подсистем. Речь идет о книгах Томаса Фридмана «Плоский мир», Мануэля Кастельса «Информационная эпоха: экономика, общество и культура», а также Зигмунта Баумана «Текучая современность».
Анализ данных трудов позволит нам определить стратегии преодоления культурных травм, полученных человечеством в эпоху модернизма (геноцид, колониализм, фашизм, две мировые войны, целая серия революций и гражданских войн). Примечательно, что в текстах вышеозначенных авторов подчеркиваются вариативные возможности индивида, в частности, в аспекте самореализации, но полностью отсутствует иная сторона информационного общества и эпохи глобализации – нарастание тотального контроля посредством тех же инструментов и механизмов, которые сделали это общество максимально открытым. Указывая на феномен «открытости», Т. Фридман, М. Кастельс и З. Бауман упускают, что это не только открытость личностным возможностям, но и контролю, что в конечном счете приводит к перманентному поиску как стратегий избегания контроля, так и к такой же перманентной «пересборке» собственной идентичности.
Хотелось бы сразу отметить в некоторой степени эссеистский характер работ, к которым обратимся далее. М. Кастельс, Т. Фридман и З. Бауман легко переходят от дискурса научного к дискурсу публицистическому, не приводя научных фактов в качестве доказательства своих идей, либо ссылаясь на газетные статьи. Впрочем, это не умаляет значимости самих культур-фи-лософских концепций или оригинальности авторского взгляда.
Томас Фридман посвятил свое основное и наиболее известное исследование анализу этапов глобализации и формирования того, что он называет «плоским миром», т.е. миром без границ. Кратко укажем, что в качестве первого этапа он выделяет период с
XV века по самое начало XIX века. До Раннего Нового времени мир был по выражению Фридмана «большим» и отсюда – разобщенным. Взаимодействие Старого и Нового Света уменьшили его, сделав «средним», более тесным. Фридман подчеркивает роль государств и власти как таковой в «сжатии» мира. «Во время Глобализации 1.0 ключевым фактором перемен, движущей силой глобальной интеграции являлось количество грубой силы – мускульной, лошадиной, ветряной и, позже, паровой силы, – которым обладала ваша странами то, насколько творчески она умела им распорядиться» [6, с. 12]. Иными словами, глобализация на том этапе осуществлялась посредством грубой силы.
С XIX века начинается второй этап глобализации (Глобализация 2.0), которая продолжалась вплоть до конца ХХ века. Фридман пишет, что мир в этот период стал «маленьким». Этот этап характеризуется активной ролью транснациональных корпораций, в то время как государства отходят на второй план. Главное здесь не приобретение новых земель, а поиск и захват рынков сбыта и контроль за рабочей силой.
А вот XXI век дает нам третий этап глобализации, когда мир еще более уменьшается, при этом происходит его выравнивание. «Движущей силой Глобализации 3.0 – что и является ее уникальной особенностью – становится сформировавшийся потенциал для глобального сотрудничества и конкуренции, который теперь доступен отдельной личности. Средством, позволившим людям и группам людей так легко и беспрепятственно выходить на глобальный уровень, оказались не лошадиная сила и не машинная мощь, им оказались компьютерные программы бесконечные разновидности новых приложений – и глобальная волоконно-оптическая сеть, сделавшая всех нас ближайшими соседями» [6, с. 16]. Т. Фридман указывает, что интернет связывает людей по всему миру и выводит бизнес на совершенно иной уровень. Иными словами, именно информационные технологии становятся «главными уравнителями» и движущей силой третьего этапа глобализации. При этом автор практически игнорирует манипулятивные возможности «Мировой Паутины», которые легли в основу не только тотального контроля, но и маркетинговых технологий, на этом контроле основанных. Все его внимание сосредоточено на бесконечных возможностях, предоставленных индивиду, и способах удовлетворения его вариативных потребностей.
По сути о том же пишет и М. Кастельс – один из самых известных ученых современности, основатель социологии города, но специализирующийся на проблемах информационного общества во всей его многогранности и сложности. Вся поздняя траектория научного движения мыслителя была связана с рассмотрением различных аспектов постиндустриального информационного мира. Он подробно рассматривает институциональный аспект медиакоммун-никации, уделяет колоссальное внимание маркетингу СМИ, анализирует примеры слияний и поглощений в этой сфере. В отличие от Т.Фридмана, М.Кастельс указывает на манипулятивные возможности, открывшиеся различным структурам с развитием Сети; да и подробный анализ маркетинговой составляющей так или иначе выводит его на эту проблематику. Основной его труд, в котором, по сути, полностью сложилась авторская концепция, – «Информационный век: экономика, общество и культура» (1996–1998 гг.) в трех томах, в котором, что понятно из названия, артикулируется авторская концепция информационного общества и дается более детальный анализ роли информационных технологий в глобализации и исчезновения феномена «масс». М. Кастельс считает своеобразным рубежом, после которого происходит окончательный распад «масс», переход к спутниковому вещанию и кабельному телевидению. «Но самым решающим событием стало увеличение числа телевизионных каналов, ведущее к их растущей диверсификации. Развитие кабельного телевидения, подталкиваемое в 1990-х годах волоконной оптикой и цифровой технологией, наряду с развитием прямого спутникового вещания необычайно расширили спектр передач и ограничили структуры власти по части государственного контроля коммуникаций вообще и телевидения в частности. За этим последовало взрывное увеличение числа кабельных телепрограмм в США и программ спутникового телевидения в Европе, Азии и Латинской Америке. Вскоре сформировались новые сети, бросившие вызов уже созданным, и европейские правительства потеряли контроль над большей частью телевещания» [4]. Интересно, что в данном аспекте его мысль пересекается с идеями Дэвида Хезмондалша, высказанными им во второй части монографии «Культурные индустрии» [7]. Д. Хезмондалш и М. Кастельс с разных позиций приходят к одинаковому выводу, что это был первый и самый важный шаг на пути ликвидации понятия «массовая культура» и самого феномена фордистских масс.
Культура шла по пути максимальной индивидуализации. М. Кастельс также, как и Фридман, указывает на ликвидацию барьеров благодаря сети Интернет. В своих рассуждениях он делает акцент на макси- мальной вариативности в удовлетворении потребностей общества, максимальной их индивидуализации, невозможности внедрения и проведения некой единой культурной стратегии. При этом слом барьеров и индивидуализация потребностей и путей их удовлетворения вовсе не вступают в конфликт с национальными особенностями. По сути для Кастельса речь идет в большей степени о глокализации. «Новые электронные средства не отделяются от традиционных культур, они их абсорбируют. Примером является японское изобретение караоке, в 1990-х годах быстро распространившееся по всей Азии, которое, вероятно, в ближайшем будущем проникнет и в остальной мир. В 1991 г. караоке в Японии охватили 100% курортных отелей и около 90% баров и клубов. К этому нужно добавить взрывное распространение специализированных залов караоке – от менее 2000 в 1989 г. до более 107 000 в 1992 г. В 1992 г. в караоке участвовали около 52% японцев, в том числе 79% всех девушек подросткового возраста» [4].
М. Кастельс не выходит за рамки анализа информационного аспекта и его влияния на глобальную трансформацию культуры, указывая лишь на изменение структуры занятости, в то время как Т. Фридман использует аспект формирования информационного общества для анализа социально-экономической ситуации в целом. Именно она оказывается для него основной. В частности, он уделяет колоссальное внимание глобальному аутсортингу, когда проживая в Индии, ты выполняешь заказы, поступающие из США и т.д. Больше нет барьеров – есть лишь твои умения и навыки. Теперь человек сам по себе, а не как часть некоей структуры, получил возможность вступать в глобальную конкуренцию, предлагая свои таланты и способности. Т. Фридман является одним из самых ярких теоретиков гиперглобализма, для которого стирание национальных границ – это абсолютное благо. Более того, если М. Кастельс еще указывает на возможность сохранения национальных культурных особенностей, то Фридман их фактически игнорирует. Он много пишет о движении капитала и информации, подчеркивая, что теперь у работника порой даже не возникает необходимости и потребности в перемещении, несмотря на наличие такой возможности: на месте он может получить все – и работу, и развлечения и т.д. Это и есть «выравнивание» мира. Фридман является фактическим продолжателем идей К. Омаи, Ф. Фукуямы и Р. Райха. Если Фукуяма впоследствии отошел от ряда свих идей и романтизации глобализации, то Т. Фридман остается верным сторонником гиперглобализации.
Общество
Общество. Среда. Развитие ¹ 4’2019
Книга З. Баумана «Текучая современность» является своего рода «агрегатором» всех гиперглобалистских идей, когда-либо высказанных. Именно он формулирует столь важную для нас идею «жидкого мира». Во многих своих тезисах автор и вовсе не отходит от идей Т.Фридмана и М.Кастельса, фактически пересказывая их своими словами. В частности, в аспекте ликвидации границ, «прозрачности» мира в его работах не содержится ничего нового. Впрочем, автор уделяет много внимания концепту «свобода» и «освобождение», задаваясь справедливым вопросом, а всегда ли освобождение – благо? Бауман выделяет две характеристики эпохи. Первая – это крушение веры в достижимость некоего блага, в конечность исторического пути, в достижение устойчивого равновесия. Вторая – «отмена государственного контроля и приватизация задач», максимальная индивидуализация деятельности, решений, выбора моделей и образа жизни. З. Бауман соглашается с тезисом Маргарет Тэтчер «Нет такой вещи, как общество» [3, с. 37]. Кроме того, он утверждает, что в наши дни нет наблюдающего за тобой Большого Брата, а в поисках ответов необходимо смотреть внутрь себя, ибо более нет образцов для подражания. Парадоксальным образом Бауман игнорирует абсолютно все каналы формирования идентичности и моделей поведения, не замечает их маркетинговую «заданность» и «отформатированность». Очень важно, что по З. Бауману, мир подобен жидкости – он меняется, обретая любую необходимую по случаю форму. Отсюда и «подвижность идентичности», которая преобразовалась «из „дано“ в „найти“» и возложении на отдельных людей ответственности за выполнение этой задачи и за последствия (а также побочные эффекты) их действия» [3, с. 39]. Одновременно это затрудняет процесс управления, даже делает его невозможным. З. Бауман проводит идею ликвидации не только границ, что естественно для информационного общества и глобализации, но и ликвидации гражданства как такового, т.е. «свободный индивидуум» побеждает «гражданина», ведь гражданин – это тот, кто добивается благополучия через благополучие «общины», а ее значение утрачено ныне навсегда [3, с. 44]. Так же как Фридман и Кастельс, Бауман указывает на невиданную ранее свободу индивида – как в передвижении, так и в любом ином аспекте своего бытия. Мы снова говорим о вариативности интересов человека и такой же вариативности способов их удовлетворения. Отдельно взятая страна попросту не способна эти интересы удовлетворить, если она к тому же проводит политику самоизоляции. Примечательно, что автор уравнивает «этнические чистки» (приводя в пример сербов, изгонявших «непокорных» албанцев), требования ужесточения миграционной политики и законов о предоставлении убежища в «благополучной Европе», да и вообще всякие стремления отгородиться от «нежелательных иностранцев».
Если мы говорим о «жидком мире», то тем самым подчеркиваем его главную особенность – «текучесть». А ведь эта характеристика сама по себе содержит идею максимальной степени свободы, ускользания от контроля. Таким образом, опираясь на тексты вышеозначенных авторов, мы можем прийти к нескольким важным для нас промежуточным выводам. Во-первых, в связи с переходом к информационному обществу, глобализация как таковая становится как неизбежна, так и неотвратима, несмотря на те или иные сложности, с которыми сталкивается. Даже проявляющиеся сегодня тенденции к протекционизму – не более чем временные отклонения, издержки и попросту новые способы адаптации рынка товаров и услуг. Во-вторых, новый этап глобализации («жидкий мир» Баумана) формирует совершенно иную личность, о чем мы будем подробно говорить далее. У этой личности возникает иллюзорное ощущение свободы (по утверждению вышеозначенных авторов – вовсе не «иллюзорное»), несмотря на все попытки поставить ее под контроль, она более не является частью масс, ее интересы принципиально индивидуализированы. При этом, мы наблюдаем два параллельных и взаимосвязанных процесса: нарастание контроля и процесс ускользания от него. Одновременно, «открытое глобализированное общество» информационной эпохи предоставляет определенный шанс преодоления травм модернизма посредством выработки гибкой индивидуальной поведенческой стратегии за счет свободного переформатирования идентичности в «жидком мире».
Преодолевая травму – I: через протест к новой чувственности
За последние тридцать лет наша культура совершила не просто полный переход к информационному и префегуративному обществу, но также и к обществу контроля, и к обществу переживания. Если с социальноэкономическими обстоятельствами все более или менее понятно – очевидно, что информационное общество меняет экономику, структуру занятости и т.д., т.е. все то, о чем выше шла речь, – то с духовными факторами все оказывается несколько сложнее.
Для понимания данного аспекта важно помнить, что вся эпоха постмодерна – это попытка через иронию преодолеть травмы эпохи модернизма с его бесконечными войнами, геноцидом, колониальной системой и всем прочим. Именно поэтому постмодернизм не отрицал и не отвергал прошлое – он пытается с ним примирится через ироническое прочтение и деконструкцию, ибо в полной мере воспринять его порой оказывается невозможно в силу личностного отношения к пережитым миром трагедий. Проект модернизма со всей очевидностью провалился, но что делать с оставшимися «руинами», было не вполне ясно.
Многие вопросы так и остались без ответа. В частности, провозглашенный переход к искусству ризомы, отказ от «вертикальности» так и не удалось реализовать в полной мере – философское концептуальное искусство если и пересекается с массовой культурой, то лишь в аспекте само-иронии. Эпоха постмодернизма закончилась трагедией, как и эпоха модернизма, возможно менее масштабной, но все же не менее знаковой. Именно это и подвигает нас к переосмыслению духовной составляющей и поиску новых ответов на вопрос: как преодолеть полученные культурно-исторические травмы в условиях информационного глобализированного мира?
Эти и похожие вопросы, как и сами условия существования человека, вызвали к жизни «теорию» метамодернизма, которая оперирует термином «колебание», позволяющее избегать конкретики и не прибегать к какой-либо нормализации. Именно колебание становится принципиально важной категорией, избавляющей нас о категоричности, необходимости выбора и принятия решения. Колебание гарантирует равновесие, как и избегание травмирующей определенности.
Вот некоторые основные тезисы из Манифеста Метамодернизма:
«3. Движение должно осуществляться посредством колебания между позициями с диаметрально противоположными идеями, подобно пульсирующим полярностям огромной электрической машины, приводя мир в действие.
-
5. Все явления находятся в процессе необратимого сползания к состоянию максимального энтропийного несходства. Художественное произведение возможно благодаря рождению или открытию этого различия. Кульминацией его воздействия является непосредственное ощущение различия в самом себе. Роль искусства являет собой исследование возможных результатов его парадоксальных амбиций, подталкивая лишнее к насущному.
-
6. Настоящее является признаком двойного рождения непосредственности
устаревания. Сегодня мы ностальгисты в той же мере, что и футуристы. Современные технологии позволяют одновременно и переживать, и осмыслять события с различных позиций» [5].
Таким образом, центральными категориями метамодернизма, помимо колебания, становятся «энтропия», «различия», «преодоление». Концепция метамодернизма формулирует идею новой чувственности, которая способна преодолеть травму истории. «Мы предлагаем прагматический романтизм, свободный от идеологического крепежа. Таким образом, метамодернизм означает подвижное состояние между и за пределами: иронии и искренности, наивности и понимания, релятивизма и истинности, оптимизма и сомнения, в погоне за множеством несоизмеримых и ускользающих горизонтов. Мы должны идти вперёд и осциллировать!» [5].
Именно в рамках метамодернизма происходит переход к обществу переживания, когда наблюдается отказ от статусного потребления и внешней мотивации в выборе товаров и услуг. Индивид концентрируется на внутренних («баумановское» смотреть в себя) потребностях и вопросах самореализации и творческой самопрезентации. Внешний вид, макияж, вещи, а подчас и продовольственные товары вписываются в стратегию самоконструирования, когда, например, то же веганство оказывается фактором подтверждения идентичности и выстраивания границ между собой и внешним миром. Отсюда и движение бодипозитива, когда принципиальный отказ от диет и демонстративное поедание кондитерских изделий также превращаются в персональный перформанс. Мы говорим о внутренней мотивации и интеллектуально-чувственном потреблении. Не случайно каждая вторая пачка мюсли или хлопьев содержит рассказ о странах, где это вырастили/упа-ковали/собрали, да еще и об истории семьи, основавшей это производство. Мы покупаем не мюсли – мы покупаем историю. А уж идеи гендерного равенства, экологизма и т.д. встречаются в каждой второй рекламе, подчас доходя до скандально известного «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Иными словами, мы ведем речь о позиции индивидуального выбора, идеологической позиции, чувственности и т.д., а не просто о покупке некоего товара или услуги. Сфера потребления напрямую обращается к аксиосфере личности.
Человек не свободен от влияния – маркетинговые стратегии не стоят на месте и обращаясь к сугубо личному точно успешно манипулируют нами. Однако, мы видим
Общество
очевидный отказ от репрессивных методов воздействия. Личность ориентирована на внутренние желания и собственную стратегию самопрезентации. Примечательно, что вроде бы позитивная тенденция – что может быть плохого в самореализации и продуманной самопрезентации? – на практике приводит к скрупулезному выстра- иванию и продумыванию новых границ, дальнейшей самоизоляции и появлению новых причин для конфронтации.
Метамодернизм – это еще даже не устоявшийся термин, это не концепт и не философская система. Тем не менее это «доминирующая логика современности» и вполне удачная попытка объяснить то, что происходит с человеком и обществом на данном этапе. Учитывая присущее метамодерну «колебание» и принципиальную включенность всех явлений культуры в одно пространство (хороший пример, это плейлист нашего современника, где Бах может идти сразу за Gre-gorians – ведь и там и здесь звучит орган, так почему бы это не объединить, а после поставить в плейлист кей-поп); становится понятной и популяризация в науке идеи тран-скультурализма, где все строится на взаимодействии и способности адаптироваться к разным культурам, соединять их в себе и самостоятельно выстраивать нужные тебе границы. И здесь мы переходим к другому аспекту этой проблемы – к «жидкой идентичности». На сегодняшний день концепция
Общество. Среда. Развитие ¹ 4’2019
метамодернизма делает лишь первые шаги, а потому у него нет научного определения. Мы видим, что идея достижения равновесия через колебание не реализуется в полной мере на практике: атомизация общества приводит в большей степени к нарастанию агрессии и нетерпимости к чужому мнению и альтернативному выбору. Это можно увидеть в ряде частных случаев. Например, тот же бодипозитив, который буквально навязывает себя обществу, отрицая как иные поведенческие стратегии, так и малейшую критику или указание на опасность ожирения для здоровья. Тезис «Мое тело – мое дело. Не мое тело – не мое дело» прочитывается лишь в первой части, вторая же вовсе отбрасывается. А неутихающий конфликт между радикал-феминизмом и трансгендерами и вовсе в фокусе внимания научной общественности: миноритарные культуры, призванные единым фронтом выступать против патриархальной гетеронорматив-ной власти занимаются уничтожением друг друга. Таким образом, мы сталкиваемся с ситуацией, когда глобализация стирает границы, предоставляет бесконечно широкий спектр поведенческих стратегий, интересов и способов их удовлетворения, но приводит к нарастающей самоизоляции. При этом количество конфликтных зон лишь нарастает. Парадоксальным образом стратегия метамодернизма при всей ее позитивной заря-женности способствует ускорению дефрагментации и атомизации общества, поддерживая иллюзию индивидуальной свободы и свободного же выбора.
Преодолевая травму – II: через насилие к «жидкой идентичности»
Переход к «жидкому миру», формирование «новой чувственности» и стратегии метамодернизма, акцент в научном и общественном дискурсе на транскультурализме – все это напрямую указывает на многократно высказанную идею трансформации идентичности и, конкретно, на концепт «текучей», «жидкой», множественной идентичности. В наши дни человек выбирает и формирует себя, а не получает нечто по наследству. Идентичность сегодня – это проект, призванный решить те или иные смысложизненные задачи, и – как любой проект – это временное состояние, которое обязательно изменится, когда изменятся задачи. В одной из своих работ З. Бауман дает краткий анализ эволюции идентичности, делая акцент на принудительном характере формируемой идентичности в эпоху модернизма (Бауман использует термин «модернити», который и остался в российских переизданиях монографии). В современную же эпоху она становится задачей, реализуя которую индивид берет на себя всю ответственность за последствия. «Место человека в обществе, определение его социального положения перестало быть понятием «в себе» и стало понятием «для нас». Оно уже не выступает в качестве некоего (желанного или нежеланного) подарка. … Необходимость стать тем, чем ты являешься, есть черта жизни в условиях модернити (не «индивидуализации, порождённой модер-нити»; такое выражение явно тавтологично, ведь говорить об индивидуализации и модернити – значит рассуждать об одной и той же общественной ситуации). Модернити заменяет предопределённость социального положения принудительным и обязательным самоопределением» [2, с. 182].
Отсюда и актуализация квир-дискур-са, который как раз и определяет сущность идентичности на современном этапе. Странный, экстравагантный – вот дословный перевод «queer», что и задает негативную коннотацию не только понятия, но и явления в целом. Долгое время само понятие было связано исключительно с гендерным дискурсом, но сегодня сформировался вполне самостоятельный квир-дискурс, вобравший гендерную тематику и вышедший далеко за ее пределы. Именно квир-дисурс акцентирует внимание исследователей на проблеме нормативности. Джудит Батлер писала, что идентичность – это не более, чем продукт политических практик, который используется для достижения тех или иных целей [1]. Разумеется, Д. Батлер имела в виду, прежде всего, гендерную идентичность, указывая, что гендер – это не нечто, обусловленное природой, некая присущая человеку характеристика, а нечто, рождаемое в процессе, перформативное. Это то, что не зависит от индивида, нередко навязано актуальной действительностью и чужим взглядом. Именно потому, что квир-дискурс вывел на совершенно новый уровень обсуждение проблемы навязанной нормативности, сегодня он вышел далеко за рамки обсуждения гендера как такового, и подвергает критике нормативность в целом. «В ситуации нестабильной повседневности трансмодерна, бесконечного расширения спектра личностных интересов в информационном обществе и новых форм властного контроля и самоконтроля, человек выстраивает свою идентичность, в том числе, исходя из собственной оценки степени опасности и в зависимости от сиюминутных вызовов агрессивной среды. Именно по этой причине идентичность также не может быть стабильной, как и само информационное постиндустриальное общество. На сегодняшний день только квир-теория в полной мере исключает идею стабильной идентичности, утверждает ее де/реконструкцию и отвергает любые бинарности и постоянство» [8].
Протест против навязанной идентичности громко звучит в художественной культуре. Этот протест хорошо показал культовый для любителей манга японский художник и режиссер Сатоси Кон. Речь о его анимационном игровом фильме «Идеальная Грусть» («Perfect Blue»). Мультфильм снят по мотивам романа Ёсикадзу Такеути «Истинная грусть: законченный извращенец». Слоган фильма «The color of illusion is Perfect Blue». Здесь мы видим игру слов, поскольку буквальный перевод «чистое голубое» и речь идет о чистом голубом небе над Токио, но если для романа это имело значение, то для фильма, сильно отошедшего от оригинала, утратило. От изначального текста Такеути при написании сценария по согласованию с автором осталось лишь две ключевые фигуры – поп-звезда и маньяк – все же остальное изменено и наполнено новыми смыслами. Перед нами история утраты/деконструкции/перформа-тирования идентичности Мимарин Кириго. Поп-дива решает попробовать себя в киноиндустрии, но насколько это желание исходит от нее самой, а насколько – это влияние агентов и продюсера? Мимарин постоянно совершает шаги под давлением окружения и публики, сама себе не принадлежит. Рубежная сцена, разделившая жизнь Мимы на до и после – это сцена изнасилования, в которой снимется начинающая актриса, после которой она уже не может вернуться на поп-сцену, где ее хотели видеть неким чистым идеалом – девочкой-женщиной. Мимарин постепенно погружается в безумие, сцена изнасилования привела фактически к раздвоению идентичности – появляется некая отдельно живущая от Мимарин Мима. Ситуация усугубляется, когда помешанный на ней маньяк присылает ей ссылку на интернет-дневник, который якобы ведет сама Ми-марин – «Комната Мимы». Подробное описание ее быта вперемешку с выдуманными событиями из жизни Мимы усугубляет нездоровое психическое состояние героини. Примечательно, что очередной рубежной точкой становится соприкосновение Мима-рин с информационными технологиями – до этой ссылки героиня вовсе не пользовалась компьютером. Потребовалась череда убийств на съемочной площадке, чтобы Ми-марин сбросила болезненное оцепенение и начала действовать. В конце фильма она смотрит в зеркало и говорит очень важную фразу: «Я знаю, кто я такая», таким образом полностью сбрасывая оковы зависимости. Становится очевидно, что мы живем лишь в иллюзии, что наши желания и стремления нам не подконтрольны.
Бауман указывает: «Таким образом «проблема идентичности», преследовавшая человека с самого начала эпохи модернити, изменила свой облик и содержание. Прежде это была разновидность проблемы, которая всегда стояла перед паломниками: «Как попасть туда-то?» Теперь она больше похожа на вопрос, с которым каждодневно сталкиваются бродяги без определённого места жительства и документов: «Куда мне идти? Куда заведёт меня дорога, по которой я иду?» Задача состоит уже не в том, чтобы найти достаточно сил и решимости через пробы и ошибки, победы и поражения идти вперёд по утоптанной тропе. Она заключается теперь в выборе наименее рискованного поворота на ближайшем перекрёстке, в изменении направления до того, как местность впереди окажется непроходимой, или изменится схема…» [2, с. 185].
Не случайно в наше время понятие «жидкая идентичность» оказалось в фокусе внимания художественной культуры. Это видно, в частности, по фестивалю ви-део-арта в Венеции, который в 2014 году прошел под названием «Гибридные идентичности», а в 2015 он становится частью фестиваля «Современная Венеция – Меж-
Общество
дународное шоу искусств: Это – жидкое». Идея жидких идентичностей оказалась невероятно востребована в дизайне.
Идея «жидкой идентичности» работает на поддержание иллюзии свободного выбора индивидуальной поведенческой стратегии. Сегодня как никогда индивид может поверить в наличие у него свободного выбора – образа жизни, стратегии потребления, конструирования социального тела т.д. – поскольку механизмы уп- равления не репрезентированы явно; они будто «вшиты» в предлагаемые механизмы и инструменты, присутствуют «по умолчанию», а потому не требуют вербализации и не фиксируют на себе внимания.
Общество. Среда. Развитие ¹ 4’2019
Выводы
Таким образом, мы говорим о завершившимся переходе к «жидкому» миру с его базовой составляющей – информационным обществом с его новой чувственностью – не оставляющим места стабильной идентичности. Этот переход оказался неизбежен в связи с процессами глобализации и развития информационного общества, без которого сама глобализация не достигла бы столь ощутимого прогресса. Самое же главное, мы наблюдаем попытку избегания конфликтов за счет гибкости личностных стратегий, максимальной открытости и ликвидации нормативности, т.е. формирование условий существования человека, максимально отличных от эпохи модернизма с ее бесконечными войнами, геноцидом, навязанной идентичностью и пр.
На этом этапе формируется новый тип личности. Это формирование включает два разнонаправленных процесса – усиление тотального контроля и естественное стремление ускользнуть от него. Именно эта разнонаправленность будет первым «локомотивом» социокультурной динамки в среднесрочной перспективе.
У новой личности в силу уровня технико-технологического развития общества присутствует явно выраженное иллюзор-
Список литературы "Жидкая идентичность" в контексте преодоления культурной травмы
- Батлер Дж. Психика власти: теории субъекции / Пер. с англ. З. Баблоян. - СПб.: Алетейя, 2002. - 160 с.
- Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. - М.: Логос, 2005. - 390 с.
- Бауман З. Текучая современность. / Пер. с англ. под ред. Ю.В. Асочакова. - СПб.: Питер, 2008. - 240 с.
- Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. - Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/index.php (28.10.2019)
- Манифест Метамодернизма // Метамодерн. Журнал о метамодернизме. - Интернет-ресурс. Режим доступа: http://metamodernizm.ru/manifesto/ (25.10.2019)
- Фридман Т. Плоский мир: Краткая история XXI века / Пер. с англ. М. Колопотина. - М.: АСТ, АСТ Москва, Хранитель, 2006. - 608 с.
- Хезмондалш Д. Культурные индустрии. / Пер. с англ. И. Кушнаревой. - М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. - 456 с.
- Чукуров А.Ю. Гендерная идентичность в контексте феминистской критики и квир-теории // Вестник психофизиологии. - 2016, № 3. - С. 23-29.