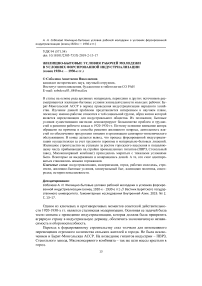Жилищно-бытовые условия рабочей молодежи в условиях форсированной индустриализации (конец 1920-х - 1930-е гг.)
Бесплатный доступ
В статье на основе ряда архивных материалов, периодики и других источников рассматриваются жилищно-бытовые условия жизнедеятельности молодых рабочих Бурят-Монгольской АССР в период проведения индустриализации народного хозяйства. Изучение данной проблемы представляется интересным в научном плане, поскольку именно рабочие относятся к той социальной группе, образ жизни которой является определяющим для индустриального общества. Их положение, бытовые условия существования наглядно демонстрируют большинство проблем и трудностей в развитии рабочего класса в 1920-1930 гг. Поэтому основное внимание автора обращено на причины и способы решения жилищного вопроса, деятельность властей по обеспечению продуктами питания и организации санитарно-гигиенического обслуживания. В конце делается вывод, что процесс форсированной индустриализации осуществлялся за счет трудового героизма и материально-бытовых лишений. Жилищное строительство не успевало за ростом городского населения и подавляющему числу прибывающих на стройки промышленных гигантов (ПВРЗ, Стекольный завод, Мясоконсервный комбинат) приходилось мириться с тяжелыми условиями быта. Некоторые не выдерживали и возвращались домой. А те, кто смог адаптироваться становились новыми горожанами.
Индустриализация, модернизация, город, рабочая молодежь, строители, жилищно-бытовые условия, коммунальный быт, жилищная политика, соцгородки, история повседневности
Короткий адрес: https://sciup.org/148315821
IDR: 148315821 | УДК: 94 | DOI: 10.18101/2305-753X-2019-2-13-17
Текст научной статьи Жилищно-бытовые условия рабочей молодежи в условиях форсированной индустриализации (конец 1920-х - 1930-е гг.)
Соболева А. Н. Жилищно-бытовые условия рабочей молодежи в условиях форсированной индустриализации (конец 1920-х - 1930-е гг.) // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2019. № 2. С. 13–17.
Одним из ключевых и противоречивых моментов советской действительности 1920-1930-х гг. является сталинская модернизация. Основная ее задачей была тесно связана с проведение индустриализации, которая должна была превратить аграрную страну в индустриальную державу, обеспечить экономическую независимость и обороноспособность.
Переход к форсированному строительству стал толчком для интенсивного перемещения огромного количества сельских жителей в города. Не была исключением и Бурят-Монгольская АССР. На возведение гигантов индустрии – ПВРЗ, Стекольного завода, Мясоконсервного комбината – так же шли массы крестьян в город.
За период с 1923 г. по 1939 г. численность городского населения республики увеличилась на 353,1%, что было выше общероссийских показателей, составлявших 208,7%. Так, если в 1923 г. городское население составляло 32,2 тыс. чел., то к 1939 г. этот показатель был равен уже 167,3 тыс. чел. Среди горожан высокой была доля представителей молодого поколения. В 1927 г. в общей численности городских жителей (45,8 тыс. чел.) насчитывалось 20,7 тыс. чел. в возрасте от 12 до 29 лет, а в 1933 г. – уже 24,9 тыс. чел. (60,7 тыс. чел.).
С таким наплывом вчерашних крестьян справиться было довольно тяжело. Да и сами приезжавшие в город молодые люди, многие из которых не знали русского языка, с трудом приобщались к реалиям городской жизни. Их переселению в город не сопутствовало развертывание социальной инфраструктуры. Жилищное строительство значительно отставало от темпов развития промышленности и заселения города. Хотя при крупных предприятиях формировались заводские поселки и городки, жилой площади было недостаточно.
В 1930-е гг. основным жильем рабочих стали бараки – временные пристанища вокруг возводимых фабрик и заводов. Например, на строящемся паровозовагоноремонтном заводе, в этих бараках проживали 4 тыс. чел., заводу не хватало 25 тыс. кв. метров жилой площади [4, с. 4].
Прибывавшие рабочие вынуждены были жить в палатках, оборудованных печами, некоторые из них строили себе землянки. «Земля была покрыта словно какими-то волдырями…это были сотни землянок» [10, с. 153]. Обогревались землянки обычно самодельной печкой, изготовленной из железной бочки. В сильные морозы в них было очень холодно, стены и углы затягивались инеем. Освещались землянки керосиновыми лампами или простыми лучинами.
Власть всеми способами пыталась решить две первостепенные задачи: во-первых, создать в городе привычные для сельчан традиционные основы культурно-бытового сосуществования, а во-вторых, найти пути разрешения жилищного вопроса. Временным выходом из сложившейся ситуации стало формирование трудо-бытовых коллективов – коммун, призванных стать образцом трудовой дисциплины. За счет единства коллективно-бытовых отношений в них должна была создаваться такая моральная обстановка, в которой хулиганы и прогульщики были бы осуждены своими товарищами, а передовики производства, благодаря всеобщему уважению, получали бы дополнительные стимулы к трудовым подвигам.
Однако жизнь в коммунах была далека от совершенства. Рабочие жаловались, что в занимаемом жилом помещении наблюдается постоянная сырость и холод. Скудной и часто убогой была обстановка в жилище: нары для сна, печь для обогрева, дефицит столов и стульев, нередко под нарами лежала одежда вместе с кирками и лопатами, а по углам был разбросан мусор. Ярким примером жизни в коммунах является письмо молодых рабочих ПВРЗ в областной комитет партии: «Нас 24 человека, а именно 6 семей, поместили в одну небольшую комнату в бараке № 16. Каждая семья поставила свои койки – остались узкие проходы посередине. В комнате один столик, из-за чего обедать приходится по очереди. Работать за одним столиком также неудобно, приходится это делать на койках, завернув постель. Так как нас в комнате 24 человека, и койки наши стоят вплотную – трудно соблюдать чистоту. У нас много клопов, блох и других насекомых» [5, с. 7].
С 1923 по 1936 гг. жилищный фонд города возрос на 60% (с 121,3 тыс. кв.м. до 190 тыс.). Но вследствие увеличения численности населения более чем в 3,5 раза, норма жилой площади упала до катастрофического минимума – 2,4 кв.м. на человека, а в новостройках и того ниже – 1,84 кв.м. (при санитарной норме 8 кв.м.) [2, с. 105].
Тяжелые жилищно-бытовые условия и моральная обстановка в них нередко приводили к хулиганству, пьянству и другим негативным явлениям. В связи со сложившейся ситуацией городские ячейки комсомола «повсеместно в бараках проводили воспитательные беседы о вреде алкоголя, об элементарных правилах санитарии и гигиены, таких, например, как стирка белья, чистота тела, мойка посуды и мытье жилищ и т. д.» [1, оп. 1., д. 460, л. 107]. Часто устраивались соревнования на присвоение звания: «Чистая рабочая комната», «Лучший барак», «Образцовое общежитие» и т. д.
В середине 1930-х гг. республиканскими властями был поддержан общесоюзный курс на строительство «соцгородков» для рабочих. Они были построены вокруг крупных промышленных предприятий, и значительно число рабочих получило новое жилье, перебравшись из общежитий, лачуг и бараков.
Говоря об условиях проживания рабочих, нельзя не затронуть вопрос об их питании. Питание было очень скудное, хлеб выдавался по карточкам. В список дефицитных товаров вошли мука, макаронные изделия, масло, чай. Нормы выдачи продуктов по картам и долгие часы стояния за ними в очередях вызывали раздражения у рабочих. «Порой сидишь по два-три дня без хлеба. Придешь с работы, его то в ларьке нет, то очереди за ним большие, что не дождешься их конца» [6, с. 3]. Особое положение занимали лишь стратегически значимые для страны промышленные предприятия. Получить дополнительные продуктовые пайки могли только принадлежавшие к категории «А» руководство и инженерный состав, рядовые рабочие относились к категории «Б» и никакими особыми льготами не обладали.
В 1928 — 1929 гг. властью были предприняты меры для расширения сети общественного питания. От рабочих поступали жалобы на то, что «во время перерыва чуть ли не за версту бегут домой пообедать на скорую руку, а потом опять бегут на работу. От такой беготни вместо отдыха получается переутомление» [7, с. 3]. В течение года в дополнение к шести существующим заведениям общепита было открыто еще три новых – две на предприятиях и одна сезонная, в районе Верхней Березовки. Количество отпущенных обедов по сравнению с предыдущим годом возросло на 63%.
Прибывшие в город молодые сельчане, с интересом посещали общественные столовые. «Я семейный, – говорит А. Брауер, стекольный мастер – а в столовую хожу с удовольствием. Не правда, что домашние обеды дешевле. Обед в столовой стоит не дороже, да и жене на кухне торчать не надо. Столовая ЦРК отпускает обеды рабочим по 30 коп., итого 9 руб. в месяц. Это удобнее, да и немного выгоднее, чем варить обед дома. На 9 руб. в месяц обед из 2-х блюд не приготовишь» [8, с. 3]. Городской актив комсомола также организовывал коллективные походы рабочих в заведения общепита. Подобные мероприятия были нацелены на формирование у вчерашних крестьян повседневных норм городской жизни.
Второй по значению расходной строкой бюджета рабочих было приобретение одежды, белья и обуви. Большинство прибывших строителей не могли в полной мере реализовать свои нужды в приобретении одежды. Например, приехавшие из улусов буряты донашивали бурятские национальные шапки и дэгэлы или ждали получения одежды через систему государственного распределения. Из воспоминаний одного молодого строителя тех лет «Жили мы бедно. Особенно нуждались в ботинках. У большинства из нас они были на деревянном ходу» [9, с. 3].
Среди необходимых условий быта одно из важных мест занимает обеспеченность рабочих жилищ коммунальными удобствами. Практически все они не имели необходимых санитарных зон. Например, в общежитии Стеклозавода не было ни умывальников, ни прачечной, ни отдельной кухни. Приготовление еды, водные процедуры и стирка белья производились в общей жилой комнате, где ютилось около 18 чел. Потребность людей в обеспечении личной гигиены власти пытались компенсировать развитием банно-прачечного хозяйства.
В 1932 г. в Верхнеудинске имелась лишь одна общественная баня. Желающим помыться приходилось часами простаивать в очереди, особенно в выходные, что приводило к низкому проценту их посещения. Рабочие ПВРЗ отмечали: «Мы часто получаем от нашего коменданта талоны в баню, с нами постоянно проводят простые беседы о необходимой гигиене тела. Но постояв час-другой в очереди на морозе, приходится уходить домой – нет воды, а работа у нас грязная» [3, с. 5]. Положение мало изменилось и к концу 1930-х гг. Появилась еще одна общественная баня, ряд частных и одна прачечная. Все они оставались одним из самых запущенных участков в коммунальном хозяйстве.
Таким образом, подавляющее большинство строителей промышленных гигантов первых пятилеток вынуждены были проживать и работать в тяжелых материально-бытовых условиях. Перебравшимся из села в город приходилось все делать сразу – рыть котлованы под новые заводы, работать со стройматериалами, ставить бараки для жилья, сооружать печи для обогрева. Бытовая неустроенность, тяжесть физического труда и постоянный недостаток продовольствия усугубляли и без того психологический дискомфорт, вызванный переменой места и образа жизни. Некоторые не выдерживали и возвращались домой. Те же, кто смог удержаться, адаптировались, становились новыми горожанами и могли воспользоваться системой социальных лифтов.
Статья подготовлена в рамках государственного задания Минобрнауки России (проект XII.191.1.1 «Трансграничье России, Монголии и Китая: история, культура, современное общество», № АААА-А17-117021310269-9)
Список литературы Жилищно-бытовые условия рабочей молодежи в условиях форсированной индустриализации (конец 1920-х - 1930-е гг.)
- Государственный архив Республики Бурятия. Ф.Р-196.
- Минерт Л.К. Архитектура Улан-Удэ. - Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1983. - 248 с.
- Не хватает общественных бань // Бурят-Монгольская правда. - 1935. - 6 декабря.
- Нехватка жилья // Гигант Бурятии. - 1933. - 3 августа.
- Открытое письмо рабочих // Гигант Бурятии. - 1934. - 11 ноября.
- Очереди за хлебом // Бурят-монгольская правда. - 1931. - 1 марта.
- Столовая нужна // Бурят-монгольская правда. - 1928. - 15 января. - № 12.
- Столовую стеклозаводцам // Бурят-монгольская правда. - 1927. - 9 октября.
- У стеклозаводских печей // Бурят-монгольская правда. - 1927. - 29 ноября.
- Эринбург И. Г. Собрание сочинений: В 9 т. - Т 3. - Москва: Гослитиздат, 1964. - 551 с.