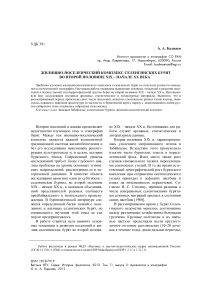Жилищно-поселенческий комплекс селенгинских бурят во второй половине XIX - начале XX века
Автор: Бадмаев Андрей Андреевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Этнография народов Евразии
Статья в выпуске: 3 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Проблема изучения жилищно-поселенческого комплекса селенгинских бурят не получила должного освещения в отечественной этнографии. Настоящая работа посвящена выявлению основных тенденций в развитии поселений и жилищ данной этнотерриториальной группы бурят во второй половине XIX - начале XX в. Источниковую базу исследования составили архивные, статистические и литературные материалы. Выяснено, что в рассматриваемый период происходил рост числа поселений, менялось соотношение разных типов жилищ, появлялись новации в народной архитектуре (в частности, в бревенчатой юрте), наряду с заимствованием домов русско-сибирского типа создавались гибридные типы жилищ.
Западное забайкалье, селенгинские буряты, жилищно-поселенческий комплекс
Короткий адрес: https://sciup.org/14737779
IDR: 14737779 | УДК: 391
Текст научной статьи Жилищно-поселенческий комплекс селенгинских бурят во второй половине XIX - начале XX века
История поселений и жилищ представляет недостаточно изученную тему в этнографии бурят. Между тем жилищно-поселенческий комплекс является важной компонентой традиционной системы жизнеобеспечения и без его исследования невозможна реконструкция культурогенеза и, в целом, истории бурятского этноса. Современный уровень исследований требует более глубокого анализа проблемы на уровне основных этнических подразделений, рассмотрения ее в исторической динамике. В качестве объекта исследования нами взят один из субэтносов – селенгинские буряты, во второй половине XIX – начале XX в., в основном объединявший представителей родовых сообществ предбайкальского и монгольского происхождения. В бурятоведческой литературе сложился определенный багаж знаний о поселениях и жилищах селенгинских бурят, но специального изучения этой темы до сих пор не предпринималось.
В работе ставится цель выявить основные тенденции в развитии поселений и жилищ селенгинских бурят во второй полови- не XIX – начале XX в. Источниками для работы служат архивные, статистические и литературные данные.
Вторая половина XIX в. характеризовалась усилением миграционного потока в Забайкалье. Вследствие этого происходило изъятие части бурятских земель в переселенческий фонд. Имел место также рост случаев самовольного захвата переселенцами сенокосных угодий. В то же время естественный демографический рост бурятского населения при сохранении скотоводческого уклада приводил к дефициту пастбищ и влиял на интенсивность перекочевок. Согласно Я. С. Смолеву, причина разницы в числе совершаемых селенгинскими бурятами сезонных миграций крылась в состоянии самих пастбищ [1900].
В рассматриваемое время у бурят Селен-гинского ведомства менялось соотношение между различными хозяйственно-бытовыми группами. Крупные скотоводы и их наемные пастухи продолжали вести круглогодичное отгонное скотоводство (10–20 кочевок в течение года), делая дальние переезды, иногда в Монголию; они представляли кочевое население. Владельцы средних по размеру стад, совмещавшие занятие скотоводством с луговодством, на летних и осенних пастбищах ведшие отгонное скотоводство, а зимой содержавшие лошадей и овец на подножном корму, крупный рогатый скот в стойле, являлись полукочевым населением (6–7 кочевок в течение года). Владельцы средних по размеру стад, оставаясь скотоводами, занимались луговодством и картофелеводством и практиковали 3–4-х разовые сезонные перекочевки; они принадлежали к полуоседлому населению. Владельцы небольших стад, делавшие две перекочевки (на летник и зимник) и уделявшие много времени земледелию, луговодству, огородничеству и картофелеводству, были также полуоседлыми. Оседлые буряты по характеру хозяйственной деятельности не отличались от основного русского сельского населения.
Динамическая пропорция среди обозначенных выше групп была таковой: первая и вторая группы постепенно сокращались, третья и четвертая – увеличивались, пятая группа также численно росла. В источниках прямо указывается на принадлежность основной массы бурят к четвертой группе: «…значительная часть их (селенгинских бурят. – А. Б .) кочуют лишь с летника на зимние стойбища» 1. Хотя под влиянием экономических и демографических процессов происходило размывание прежней структуры населения, географическая соотнесенность между доминированием тех или иных форм скотоводства и конкретными этническими группами селенгинских бурят, в целом, сохранялась. Например, кочевая и полукочевая формы скотоводства характеризовали большинство джидинских бурят, принадлежавших к монгольским родам, а полуоседлый быт был типичен для представителей эхирит-булагатских родов.
Нужно помнить, что представители первой и второй хозяйственно-бытовых групп, подобно третьей группе, могли иметь все виды сезонных стоянок [Петерсон, 1901. С. 32].
Архивные материалы убеждают в том, что удельный вес оседлых продолжал возрастать в течение второй половины XIX в. Если в начале 50-х гг. XIX в. представители этой хозяйственно-бытовой группы проживали в двух населенных пунктах (деревнях Зарубинское и Стрелочное), то по данным на 1859 г. оседлые буряты (1,5 % селенгин-ских бурят) населяли три деревни: Зарубин-ское (198 чел.) – 28 домов (в среднем число жильцов одного дома достигало 7,1 чел.), Стрелочное (136 чел.) – 39 домов (3,5 чел.), Холуйское – (42 чел.) – 5 домов (8,4 чел.) 2. Кроме жителей селения Стрелочного остальные оседлые находились в тяжелых жилищных условиях – один дом населяли примерно 7–8 чел. Наряду с наличием отдельных компактных поселений, для оседлых было характерно дисперсное проживание в улусах полукочевых и полуоседлых бурят. Так, оседлые упоминаются в составе Бабайхоромчиевского (4 чел.), 2-го Ченорутского (38 чел.) и Сартолова родов (7 чел.) 3.
К 1875 г. доля оседлых в структуре селенгинских бурят увеличилась – их численность составила 1 315 чел. (4 % селен-гинских бурят). В последующий период значение оседлого населения поступательно росло. По Первой всеобщей переписи 1897 г., оседлые компактно жили в 6 селениях, наиболее крупным из которых было Иннокен-тьевское село, насчитывавшее 42 хозяйства (220 чел.) [Патканов, 1912. С. 672–673]. Интересно, что число жителей сел Зарубинское и Стрелочное относительно конца 50-х гг. XIX в. почти не изменилось. Исчезает из списка населенных мест Холуйское селение. Общая численность оседлых бурят в упомянутых поселениях составляла 579 чел., а это означает, что большинство оседлых, как и прежде, проживало в улусах среди полу-оседлых и полукочевых бурят.
По документам Селенгинской степной думы 50–60-х гг. XIX в. выходит, что местная думская администрация под улусами понимала территориальные роды (в 1860 г. их было 20), приблизительно так же, как это было принято в монгольской традиции (улус – страна, народ). При этом ни слова не сообщается о существовании постоянных населенных пунктов у так называемых кочевых бурят. В источниках по этому поводу находим следующего рода пояснение: «...в сей ведомости число душ кочующих инородцев показано по родам, потому как ино- родцы кочуют не селением, а в рассеянности по разным местам и один с другим родом смешанно» 4. Места кочевания представителей тех или иных бурятских родов можно определить по архивным данным. Часть мест кочевок располагалась на открытых пространствах Селенгинской степи – на Гусином озере, Бараньем, Большом, Караульном, Шарашобоириском и Хонгорском лугах. Большинство же из них лежало в различных урочищах (межгорных падях): Адаке, (двум) Алцагатам, Алцагатуе, Алцаке, Ару, Аце, Ацуле, Билютае, Боргое, Бурга-стае, Бурголтае, Гезегете, Гильбире, Гыге-туе, Дабхуре, (Усть) Джиде, Дунжое, Дун-гуе, Дырестуе, Едуе, Енхоре, (Букун) Жергалантуе, Жергалантуе, Загустае, Заку-ят, Зуе, Иволге, Илигине, Инзагатуе, Иро, Ичатае, Килгантуе, Кирете, Киретуе, Куда-ре, Мангее, Мангиртуе, Мурочи, Муртое, Мухоре, Нарин Горихоне, Нарине, Няньге, (Нижнем и Верхнем) Оронгое, Соготу, Солдатскому урочищу, Субуктуе, Судутуе, (Усть) Судутуе, Сужее, Сутое, Табхаре, Та-галцаре, Тамчине, Тасурхае, Ташире, Темнике, Тоене, Торее, Торме, (Букун) Тохое, Тэле, (Хара) Убусу, Убуре, Удунге, Укер Чолутае, Улалзаю, (Улан) Ганге, (Улан) Ха-де, Улунтуе, Унагатуе, Ундур Добое, Унеге-туе, Урлуке, Урме, Халгату, Хамнигадае, Хангидае, Харанхое, (Букун) Харгане, Хар-луне, Харохое, Харьяском, Хилокском, Холуе, Хотхолдоче, Худаге, Хужиртуе, (Верхнем и Нижнем) Цагатуе, Цараме, Чи-койском, Шабартуе, Шазагае, (Верхнем, Среднем и Нижнем) Шергалжине, Шоно 5.
Как отмечалось ранее, к концу столетия функционировала преимущественно двухразовая система кочевок, поэтому следует допустить, что в каждом из мест, названных в выше приведенном перечне, имелись как зимники, так и летники со стационарными жилищами. Дело в том, что сложившаяся система землепользования, когда отдельная община булак (часть) владела несколькими близлежащими падями, в границах которых располагались ее покосы и выгоны, привела к распространенной практике, предполагавшей расположение зимников на выгонах, занимавших низину падей, а летников – на расположенных в верхней части падей по- косах [Материалы…, 1898. С. 11]. Покосы ограждались общественной поскотиной.
В материалах переписи 1897 г. вместо ожидаемого перечисления населенных пунктов полукочевых и полуоседлых бурят Селенгинского ведомства названы лишь урочища, в которых те кочевали. Только для части упоминаемых местностей, в основном заселенных представителями Селенгинско-Харанутского рода, сделано замечание о наличии улусов. Официально в Селенгин-ском ведомстве насчитывалось 13 улусов, причем в одном урочище могли сосуществовать сразу нескольких улусов, которые для простоты нумеровались. Например, в урочище Иволга располагалось 5 улусов, а в Оронгойском урочище – 3 [Патканов, 1912. С. 660]. Большинство из улусов относилось к средним по размерам поселениям, имевшим от 33 до 50 хозяйств. Наиболее населенными были улус № 2 из урочища Загус-тай (97 хозяйств, 535 чел.) и улус № 1 из урочища Иволга (75 хозяйств, 411 чел.). В других урочищах, вероятно, находились небольшие стационарные поселения, не считавшиеся властными структурами улусами в строгом смысле слова.
Процесс, когда роды превратились в экстерриториальные объединения и поселения формировались из представителей разных родовых сообществ, о чем сообщалось в ранее цитировавшемся источнике, прослеживается повсеместно.
Заметим, что тенденция, имевшая место у предбайкальских бурят, со всей очевидностью стала проявляться и у селенгинских бурят, когда сезонные перекочевки совершались только частью семьи, или наемными пастухами, следившими за хозяйским стадом, а владельцы крупных или средних стад постоянно жили в улусах [Осокин, 1906. С. 144]. Население улусов было неоднородно не только по причине его формирования из выходцев из различных родов, в том числе мигрантов из других бурятских ведомств, но и вследствие того, что его обитателями являлись представители различных хозяйственно-бытовых групп (полуоседлые, полукочевые, кочевые буряты). Не случайно поэтому в летний сезон некоторые поселения оказывались полностью опустевшими, а другие – лишь наполовину [Потанина, 1912. С. 43].
Численность иноэтничного населения, преимущественно русского, в бурятских поселениях была небольшой (в 1897 г. – 67 чел.). Например, среди представителей Селенгинско-Харанутского рода проживал 1 русский, Чернорудского – 3 чел., 2-го Сар-толового – 1 тунгус. В то же время в селениях оседлых бурят русские были более представлены – так, в Иннокентьевском имелось таковых 26 чел., а в Стрелочном – 13 чел. [Патканов, 1912. С. 672–673].
Расстояния между зимними и летними поселениями, в сравнении с первой половиной XIX в., уменьшились до 1–20 км из-за сокращения свободной земли.
Зимние улусы в основном представляли небольшие поселения в 5–20 разбросанных далеко друг от друга хозяйств. В каждой усадьбе имелся или дом с войлочной юртой, или войлочная и деревянная юрты, несколько невысоких стаек (для крупного и мелкого рогатого скота) и крытых дворов (для кормежки скота), амбар [Потанина, 1912. С. 182]. Могли быть также загородки для склада сена, гумна с «зародами» хлеба [Петерсон, 1901. С. 149]. В конце XIX в. в усадьбе состоятельных людей, кроме жилых зданий, было несколько амбаров, в том числе для хранения зерна, ледник, кузница и даже сарай для конных экипажей [Потанина, 1912. С. 48].
На большом расстоянии от жилых и хозяйственных построек усадьба по периметру ограждалась частоколом или пряслами, называемыми в народе телятниками.
Весенние и осенние поселения, по словам Н. Петерсона, мало отличались от зимников, но в сравнении с ними «постройки здесь (были. – А. Б .) не так многочисленны и менее солидны» [1901. С. 149].
Летние поселения, составленные также из войлочных и деревянных юрт, не ограждались и были более компактными, чем зимники. По Н. Петерсону, около деревянных юрт обыкновенно строились «амбары, сараи, загородки для рогатого скота и овец и т. п.» [Там же]. В отличие от зимников, в летних поселениях (особенно в тех, в которых были войлочные юрты) население было непостоянным и часто мигрировало.
Новые черты, отчетливо проявившиеся к концу XIX в. в жилищно-поселенческом комплексе предбайкальских бурят, выявляются, хотя и локально, у селенгинских бурят. Например, бывшие полуоседлые буряты, перешедшие к оседлому существованию, в частности, чикойско-харанутские буряты, не отказывались от привычки переселяться летом из дома в деревянную юрту, находившуюся здесь же в одной ограде с домом [Кроль, 1896. С. 11], а для бурятских поселений, размещавшихся поблизости от Верхнеудинска, стала характерна правильная уличная планировка.
В улусах, в которых размещались степная дума и родовые управления, строились соответствующие общественные здания. По данным 1859 г., в ведомстве имелись: здания степной думы и училища, тюремная изба, сарай для хранения пожарных инструментов, завозня для складирования овечьей шерсти, 48 экономических магазинов, выстроенных в улусах, и 2 магазина – в селениях оседлых 6. В ряде улусов и деревень работали кузницы (всего 10).
Поселениями также надлежит считать буддийские монастыри ( дацаны ), которых в ведомстве насчитывалось 13. Каждый из дацанов представлял собой отдельное поселение с множеством храмов (всего имелось 13 основных храмов хyрэ и 75 малых храмовых зданий дуганов ), жилых и хозяйственных построек. Здесь жили монахи, их ученики и лица обслуживавшего персонала. Кроме этого, через ведомство были проложены трактовые дороги, на местах остановок были обустроены 8 почтовых станций, находившихся на содержании степной думы. Небольшими поселениями также являлись мукомольные мельницы с усадьбами их владельцев. В 1860 г. в ведомстве было зафиксировано 12 мукомольных мельниц «об одной поставе, колесчатые, почвенные», выстроенные на речках Торей, Алцак, Бур-галтай, Нарын, Ичетой, Дунжой (Дунелой), Песчанка, Шергалжин 7.
В 1859 г. в Селенгинском ведомстве имелось 4 938 войлочных юрт (45,5 % частных жилищ), 4 409 деревянных юрт (40,6 %), 1 510 домов (13,9 %) 8. В следующем году было построено 245 войлочных (77,8 % жилых новостроек) и 56 деревянных юрт (17,8 %), 14 домов (4,4 %), что указывает на сохранение предпочтения основной массой бурят войлочных юрт. Согласно документа «Отчет о действиях ИРГО», в 1863 г. у забайкальских бурят в целом насчитывалось 20 тыс. войлочных юрт и ежегодно заводи- лось 300 новых юрт [Сгибнев, 1864. С. 46]. В 1886 г. пропорции между типами жилищ выглядели следующим образом: 5 216 войлочных юрт (34,5 % жилищ), деревянных юрт – 6 794 (45 %), домов – 3 096 (20,5 %). Безусловно, изменения коснулись, прежде всего, количества войлочных юрт и домов (падение числа первых было на 11 %, рост последних – на 6,6 %). Понятно, что выбор в пользу домов обуславливался процессом оседания селенгинских бурят, но, одновременно с этим, наблюдавшийся рост деревянных юрт следует связывать с тенденцией перехода к полуоседлому существованию. Сопоставимые темпы прироста войлочных и деревянных юрт в последующее десятилетие (число войлочных юрт к 1895 г. выросло на 127 ед., деревянных – на 153) позволяют утверждать привлекательность войлочной юрты для определенного круга селенгин-ских бурят (кочевых и полукочевых).
Зимними видами жилищ в 50-е гг. XIX в. у селенгинских бурят были войлочные и деревянные юрты, а также избы, сложенные, по Р. Мааку, из «легких, тонких, наскоро сложенных бревен и обложенных снаружи смесью из глины, навоза и земли» [1859. С. 16]. Войлочные юрты оставались жильем как для богатых, так и бедных скотоводов. Летними жилищами служили войлочные и 4-стенные, срубленные из тонких бревен, юрты, у которых обычно были земляные полы.
К началу XX в. перемены в использовании разных типов жилищ не произошло, в зависимости от локальной традиции существовали разные сочетания сезонных видов жилья. Так, боргойские буряты, зимой привычно жившие в войлочной юрте, лето проводили в бревенчатой юрте [Вяткина, 1969. С. 67]. Теперь эти в недавнем прошлом номады были вынуждены перейти к полукочевому скотоводству и обзаводились на летних пастбищах деревянными юртами.
В рассматриваемый период наблюдалась заметная трансформация в используемых домах русско-сибирского типа. В конце столетия многие дома у селенгинских бурят представляли собой сложенные из круглых бревен однокамерные постройки с сенями, поставленные на деревянные подушки. Стены таких домов достигали в длину 13–19 м и в высоту 3,6 м. Над дверным проемом делали козырек, к входу приставляли невысокую лестницу. Двускатная крыша была те- совая или сложенная из драницы. Два-три окна, затянутые бычьим пузырем, обычно смотрели на солнечную сторону. Внутри дом иногда имел внутренние перегородки.
В конце XIX в. состоятельная прослойка бурят начала застраиваться высокими просторными двухкамерными домами с несколькими остекленными окнами, имеющими декоративно оформленные наличники и крашеные ставни, с высоким крыльцом. В таких домах были 2 или 4 жилые комнаты, при этом внутреннее пространство жилища условно делилось на «черную» половину для прислуги и молодняка и «чистую» – для хозяйской семьи [Осокин, 1906. С. 182–183]. Дом отапливался кирпичной или глинобитной русской печью, часто с плитой, и совмещенной с голландской печью. Дома с русской или голландской печью локализовались у бурят, проживавших в долинах рек Оронгой, Иволга и по низовьям рек Чикой и Хилок [Кроль, 1896. С. 14].
Внутри дома простые буряты старались воссоздать привычную обстановку юрты. Для этого пол нередко оставляли земляным, почти беспрерывно топили печь, не давая домашнему огню погаснуть. Только богатые домовладельцы делали в доме деревянные полы и потолок, а щели проконопачивали [Там же. С. 183].
По-видимому, к началу XX в. прежний облик бревенчатых 4-стенных юрт несколько преобразовался так, что некоторые путешествующие иностранцы воспринимали его как особый бурятский дом: «По наружному виду бурятский дом отличается от русского менее толстыми бревнами, с меньшим числом или совершенным отсутствием окон, а часто и трубы. Дым выходит через открытую дверь или через отверстие в крыше. Весьма простое внутреннее устройство бурятских домов таково же, как и в юрте. Только пол в них четырехугольный и печь построена из кирпича» [Кейзерлинг, 1900]. Из приведенного описания можно вынести, что со временем юрта все более превращалась в некое гибридное жилье, в котором буряты стремились синтезировать достоинства двух разных прототипов – бурятской бревенчатой юрты и русского дома.
К концу XIX в. происходила замена 4-стенных юрт с 4-скатной крышей на переходные типы – юрты пираг с 2-скатной крышей, кровлей самцовой конструкции с выпуском бревен над входом, или, как ва- риант, без какого-либо козырька над входом, с небольшой лестницей. Юрта пираг имела сруб из 10–12 венцов, небольшие оконные проемы, обращенные на юг. Крыша обычно покрывалась дранкой. В таких юртах пол встречался как настеленный (дощатый), так и земляной. Для вентиляции помещения в задней стене оставлялся зазор, закрываемый свободно вынимающейся доской или ставнем. Юрта обогревалась закрытым очагом – четырехугольным невысоким срубом, набитым глиной, или же открытым очагом, на котором устанавливался таган для котла.
Наряду с 4-стенными бревенчатыми юртами получили распространение их дощатые аналоги, которые, конечно, были более пригодны для летнего и межсезонного проживания, чем в зимнюю пору.
Войлочная юрта по конструкции оставалась прежней – 6–8-стенной, решетчатой, монгольского типа. Вместе с развитием домостроительства этот тип жилья все более приобретал сугубо хозяйственную функцию. Подтверждение этому находим в документах степной думы: «…войлочные юрты как необходимая принадлежность разбивается зимою возле каждого дома для содержания в ней постоянного огня для варения пищи и чая и содержания в оных в большие морозы телят и ягнят» 9.
Зимнее содержание скота различалось у хозяйственно-бытовых групп селенгинских бурят. Кочевые и полукочевые буряты для ночевки скота готовили рядом с юртами очищенные от снега круглой или овальной формы площадки хоттоны , защищенные с северной стороны снежным валом и стеной из деревянных щитов хошонов [Петерсон, 1901. С. 203].
Полуоседлые и оседлые буряты держали домашний скот в загонах или хлевах, сложенных из плетня, обмазанного глиной и прикрытого соломой [Бюлер, 1859. С. 224]. Известны были также 3-стенные стайки-навесы для содержания крупного рогатого скота, открытые на юг. Для мелкого рогатого скота обычно плели «из тальника небольшие сараи, которые обмазывают кругом скотским пометом» [Там же. С. 22]. Стайки нередко были в виде низких 4-стенных бревенчатых построек, их также тщательно утепляли, используя в качестве шпаклевоч- ного материала навоз [Осокин, 1906. С. 185]. По сложившейся традиции, сруб стайки укладывали из тонких бревен, кровлю крыли дранкой или, иногда, листами лиственничной коры. Как отмечала А. В. Потанина, молодняк держали иногда в отдельных избах, где пекли домашний хлеб [1912. С. 48]. Чаще всего приплод находился под присмотром в доме или юрте.
По расчетам, которые сделал Н. Петерсон, оказалось, что предназначенные для содержания скота постройки, имевшиеся у бурят-скотоводов, были «более обширными и более дорогими помещениями», чем у бурят-земледельцев [1901. С. 16]. При этом он подчеркивает, что такие хозяйственные постройки были явлением редким и принадлежали только самым состоятельным хозяйствам. У оседлых бурят, кроме богатой их части, придавалось малое значение основательности и размерам дворов и стаек для скота.
Строительство домов русско-сибирского типа, как правило, велось наемными работниками из числа местных жителей – во второй половине XIX в. таким промыслом было охвачено немалое число бурят. Для примера, по данным на 1875 г., среди селенгин-ских бурят значилось 69 печников, 1 310 плотников, 50 кирпичников 10. Труд этих людей, как показывают архивные документы, был востребован также в городах и русских селениях соседних волостей Западного Забайкалья.
Подытоживая, можно констатировать, что в изучаемый период число поселений у селенгинских бурят возросло. Это было связано с воздействием ряда факторов экзогенного и эндогенного характера (в том числе по причине увеличения полуоседлого и оседлого населения в данной этнотеррито-риальной группе). В планировке некоторых поселений и в устройстве усадеб ощущались новации, связанные с влиянием русской традиции. Пропорции среди разных типов жилищ изменялись в пользу домов, в то же время войлочная юрта не утратила своего значения для части селенгинских бурят. Совершенствование бревенчатой юрты происходило в направлении создания гибридных форм, сочетавших элементы русского дома и традиционной юрты.
HOUSING AND SETTLEMENT COMPLEX SELENGA BURYATS IN THE SECOND HALF OF THE XIX – BEGINNING OF XX CENTURY