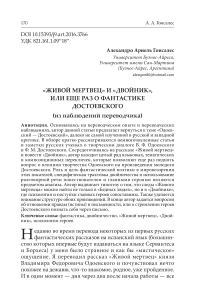"Живой мертвец" и "Двойник", или еще раз о фантастике Достоевского (из наблюдений переводчика)
Автор: Гонсалес Алехандро Ариель
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.4, 2016 года.
Бесплатный доступ
Основываясь на переводческом опыте и переводческих наблюдениях, автор данной статьи предлагает вернуться к теме «Одоевский - Достоевский», далеко не самой изученной в русской и западной критике. В обзоре кратко рассматриваются немногочисленные статьи и заметки русских ученых о творческом диалоге В. Ф. Одоевского и Ф. М. Достоевского. Сосредоточиваясь на рассказе «Живой мертвец» и повести «Двойник», автор находит целый ряд языковых, тематических и композиционных перекличек, которые позволяют еще раз поднять вопрос о влиянии творчества Одоевского на произведения молодого Достоевского. Роль и цель фантастической поэтики в мировоззрении этих писателей, специфическая трактовка двойничества и использование разговорной речи повествователем и главными героями являются предметом анализа. Автор выдвигает гипотезу о том, что следы «Живого мертвеца» можно найти не только в «Бедных людях», но и в «Двойнике», где психология и поступки главных героев сопоставимы. Также уделяется внимание структуре обоих произведений. В конце автор задается вопросом об отношении правды (истины) и письменности, или о стремлении героев Достоевского познать себя через письмо
Фантастика, двойничество, "живой мертвец", "двойник", психология герое
Короткий адрес: https://sciup.org/14748989
IDR: 14748989 | УДК: 821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2016.3766
Текст научной статьи "Живой мертвец" и "Двойник", или еще раз о фантастике Достоевского (из наблюдений переводчика)
Н едавно во время перевода некоторых из первых русских фантастических рассказов на испанский язык (большинство которых впервые будут издаваться на языке Сервантеса и Борхеса) у меня было странное и как бы «мистическое» ощущение. Я переводил рассказ «Живой мертвец» князя Владимира Федоровича Одоевского и почувствовал нечто похожее на дежавю, что-то знакомое, родное, уже пройденное. И в один момент — дня через два после начала работы — все
«Живой мертвец» и «Двойник», или еще раз о фантастике Достоевского 171 прояснилось: я понял, что снова перевожу похождения Голядкина, что опять погружаюсь в туманный мир человеческого сознания, в тьму совести, осознающей последствия своих слов и поступков, в особое употребление языка, в Петербург чиновников 40-х годов XIX века. Эта статья является результатом наблюдений и размышлений, вдохновленных переводческим опытом.
***
Проблема «Одоевский — Достоевский» не нова, но не исчерпана. Она занимает далеко не первое место в изучении творчества Ф. М. Достоевского. Насколько мы знаем, этой проблеме еще не были посвящены глубокие и подробные монографии. Первым ученым, который обратил внимание на возможный творческий диалог молодого (и не только молодого) Достоевского с фантастическими рассказами В. Ф. Одоевского, был Р. Г. Назиров [7]. В своей статье он представляет сравнительный анализ рассказа «Город без имени» (1839) и сна Раскольникова из «Преступления и наказания» (1866) и указывает на генетическую связь целого ряда общих мотивов в произведениях Одоевского и Достоевского. Назиров также обращает внимание на значение философского содержания рассказов Одоевского для Достоевского и останавливается, естественно, на «Живом мертвеце», послужившем эпиграфом к первому произведению Достоевского — «Бедные люди» (1845).
Вторым, кто писал об этих двух писателях, был Г. М. Фридлендер [13]. Он кратко рассматривает роль «Живого мертвеца» как для раннего творчества Достоевского («Бедные люди», «Двойник», 1846), так и для позднего («Бобок», 1879). В обоих случаях связь не только тематическая, но и, что главное, стилистическая и даже языковая. Фридлендер указывает, например, на употребление В. Одоевским разговорной речи, фамильярных оборотов и чиновничьего жаргона (выражение «кока с соком»).
Еще надо упомянуть статьи М. А. Турьян [11, 5–18, 124–133, 231–243], где очень подробно рассматривается творческая перекличка «Бедных людей» с «Живым мертвецом» и роль творчества Одоевского в становлении «психологической фантастики».
То, что нет глубоких монографий, посвященных этой проблеме, не значит, конечно, что исследователи не обращали внимания на «подтему» «Живой мертвец и Бедные люди». Почти во всех статьях и работах, связанных с первым романом Достоевского, авторы ссылаются на рассказ Одоевского. Это неизбежно: сам Достоевский, как известно, ссылался на него. Мы хотим коснуться другой «подтемы», а именно: «Живой мертвец и Двойник».
***
Р. Г. Назиров заканчивает вышеупомянутую статью следующими словами: «…значение Владимира Одоевского для Достоевского представляется гораздо бóльшим, чем до сих пор отмечалось исследователями. Владимир Одоевский — писатель, чье творчество “работало” на таких гигантов, как Гоголь, Лермонтов, Тургенев и Достоевский. Не сравнимый с ними по масштабам своего дарования, он тем не менее сослужил большую службу русской литературе <…> Во всяком случае, история литературы до сего дня далеко не исполнила свой долг по отношению к Владимиру Одоевскому» [7, 206].
На примере сравнения «Живого мертвеца» и «Двойника» мы попытаемся, исходя из переводческого опыта, пролить свет на творческое отношение обоих писателей, ограничиваясь, однако, тремя общими чертами.
Первая общая черта: как для Одоевского, так и для Достоевского, фантастика не является целью сама по себе, а средством для авторских изысканий. Для них главное не эстетическая сторона фантастической поэтики, а ее познавательный по-тенциал1. Об Одоевском говорили как о писателе-мыслителе, о писателе-философе, о писателе-мистике («русский Фауст»), что указывает на специфику его творчества, а также на особенность его понимания и трактовки фантастики, скажем, не по-гофмански. «Живой мертвец» исследует проблематику ответственности наших слов и поступков, как читаем в его эпиграфе: «Мне бы хотелось выразить буквами тот психологический закон, по которому ни одно слово, произнесенное человеком, ни один поступок не забываются, не пропадают в мире, но производят непременно какое-либо действие; так что ответственность соединена с каждым словом, с каждым, по-видимому, незначащим поступком, с каждым движением души человека»2. Здесь фантастика не что иное как инструмент, при помощи которого автор старается выразить именно этот психологический закон3. В «Живом мертвеце» присутствует фантастический элемент: Василий Кузьмич, чиновник, умер и, став призраком, видит себя чужими глазами; он может входить, куда ему хочется и слушать все, что о нем (и не только) говорят. Эта исходная ситуация позволяет рассматривать вопрос «круговой поруки», по выражению самого Одоевского. Потом, в самом конце, мы узнаем, что это был просто сон, но и без этого реалистического приема цель автора была уже достигнута. Нечто иное встречаем в «Двойнике», где появление Голядкина-младшего не самое важное, не говоря уже о психологической болезни, шизофрении, автоскопии, мании преследования, проекции и т. д. Голядкина-старшего. Кстати, это одержимое желание установить верный диагноз было и есть главное препятствие западной критики, которая, по большому счету, имеет под рукой только вторую редакцию произведения; здесь главное в другом: в вопросе сущности и ценности человеческой личности в таком социуме, в котором развивается трагедия Голядкина4.
Вторая общая черта: и в «Живом мертвеце» и в «Двойнике» раздвоение / удвоение героя совершается в обыденной жизни, фантастика находит место в самой банальной атмосфере контор, чиновников низкого ранга, служебных и любовных интриг5. Это продолжает ту традицию русской фантастики, основателем которой можно считать Антония Погорельского в «Лафертовской маковнице»6 и которой придерживается сам Пушкин в «Гробовщике» и «Пиковой даме»7. Принято считать, что фантастика Достоевского в большей степени пушкинская и гоголевская, но, если иметь в виду ту первую общую черту, о которой говорилось выше, можно задать себе вопрос о том, скольким обязана фантастика Достоевского Одоевскому. Современники именно так и почувствовали разницу между Гоголем и Достоевским, судя по словам самого Федора Михайловича в письме к своему брату от 1-го февраля 1846 года: «Во мне находят новую оригинальную струю (Белинский и прочие), состоящую в том, что я действую Анализом, а не
Синтезом, то есть иду в глубину, и разбирая по атомам, отыскиваю целое, Гоголь же берет прямо целое и оттого не так глубок как я»8. Почти ту же самую отличительную черту находит М. А. Турьян в «психологической фантастике» Одоевского9.
Третья общая черта: разговорная речь и психология героя. На то, что слова эпиграфа «Бедных людей» очень близки к стилю писем Макара Девушкина, обратили внимание многие10. Однако мало кто (кроме вышеупомянутых наблюдений Фридлендера) заметил, что «Живой мертвец» открывается словами, которые без всякого сомнения могут быть приписаны Голядкину-старшему. Посмотрим это подробнее в следующей таблице, где показываем начало обоих произведений и несколько отрывков. Здесь стоит остановиться и на первых движениях героев, и на тональности их речи, составленной из вопросов, ответов, утверждений, отрицаний (для этого воспроизводим длинные места, иначе этот момент не чувствуется):
«Живой мертвец» (1844)
«Двойник» (1846)
Что это? — никак, я умер?.. право! насилу отлегло… нечего сказать — плохая шутка … Ноги, руки холодеют, за горло хватает, душит, в голове трескотня, сердце замирает, словно душа с телом расстается… Да что же? ведь, никак, оно так и есть? Странно, очень странно — душа расстается с телом! — да где же у меня душа?.. да где же и тело? здесь! да где ж у меня руки, ноги?.. Батюшки-светы! вот оно — лежит себе как ни в чем не бывало на постели, только немножко рот покривился. Тьфу, пропасть! Да ведь это я лежу — нет! и не я! — нет! точно, я; словно на себя в зеркало смотрю; я — совсем другое: я — вот руки, ноги, голова — все там, здесь ничего, ровно ничего, а все слышу и вижу… Вот моя спальня; солнце светит в окошко; вот мой стол; на столе часы, и вижу на них девять часов с половиною; вот племянница в обмороке, сыновья в слезах — все по порядку; да полно… что вы плачете? — что? — Не слышат! Да и я своего
Было безъ малаго восемь часовъ утра, когда титулярный совѣтникъ Яковъ Петровичъ Голядкинъ очнулся послѣ долгаго сна, зѣвнулъ, потянулся и открылъ наконецъ совершенно глаза свои. Минуты съ двѣ, впрочемъ, лежалъ онъ неподвижно на своей постели, какъ человѣкъ, не вполнѣ еще увѣренный, проснулся ли онъ совершенно или все еще спитъ, на яву ли, и въ дѣйствительности ли все то, чтò около него теперь совершается, или продолженiе его безпо-рядочныхъ сонныхъ грезъ. <…> Знакомо глянули на него зелено-грязно-ватыя, закоптѣлыя, пыльныя стѣны его маленькой комнатки, его коммодъ краснаго дерева, стулья подъ красное дерево, столъ, окрашенный красною краскою, клеенчатый турецкiй диванъ красноватаго цвѣта, съ зелененькими цвѣточками и наконецъ вчера впо-пыхахъ снятое платье и брошенное комкомъ на диванѣ. Наконецъ, сѣрый осеннiй день, мутный и грязный, такъ сердито и съ такой кислой гримасою голоса не слышу, а, кажется, говорю очень вразумительно. Дай-ка еще погромче — ничего! только как будто легкий ветерок подувает, — чудеса! право, чудеса! Да уж не сон ли это? Помню: вчера я был очень здоров и весел и в вист играл, и очень счастливо; вот вижу, куда и деньги положил, — и поужинал с аппетитом, и поболтал с приятелями о том о сем, и почитал на сон грядущий, и заснул крепко, — как вдруг ни с того ни с сего тяжко, тяжко… хочу вскрикнуть — не могу; хочу пошевельнуться — не могу… Потом ничего не помню — да вдруг и проснулся… то есть какое проснулся? то есть очутился здесь… Где здесь?.. И слов не приберешь! Ну, право, это сон. Не верите? — Постой, сделаю опыт: ущипну себя за палец, да нет пальца, право нет… Постой, что бы выдумать? дай посмотрюсь в зеркало — уж оно никак не обманет; вот мое зеркало — тьфу, пропасть! и в нем ничего нет, а все другое в нем вижу: всю комнату, детей, постелю, на постели лежит… кто? я? — ничего не бывало! я перед зеркалом, — а нет меня в зеркале… Поди, пожалуй, какие чудеса! Вот призвал бы сюда господ философов, ученых: извольте-ка, господа, растолковать: и здесь я, и не здесь, и живу я, и не живу, и двигаюсь, и не движусь <…> Впрочем, правду сказать, награды я не ждал, — не за что; да и наказывать меня не за что; были кое-какие грешки… ну, да у кого их нет? Я истинно скажу: ни добра, да и ни зла без нужды я никому не делал — право… вы знаете: я человек откровенный; ну, разумеется, когда ждешь беды, то иногда, так сказать, и подставишь ногу ближнему… да что ж тут делать? человек на тебя лезет с ножом, неужели же ему шею подставить? Жил я умненько, учился на железные гроши, в наследство получил медные, а детям оставил коку-с-соком, даже ни в какое заведение не отдавал их, чтоб лучше за заглянулъ къ нему сквозь тусклое окно въ комнату <…> Выпрыгнувъ изъ постели, онъ тотчасъ же подбѣжалъ къ небольшому кругленькому зеркальцу, стоявшему на коммодѣ. Хотя отразившаяся въ зеркалѣ заспанная, подслѣповатая и довольно-оплѣшивѣвшая фигура была именно такого незначительна-го свойства, что съ перваго взгляда не останавливала на себѣ рѣшительно ничьего исключительнаго вниманiя, но по-видимому обладатель ея остался совершенно доволенъ всѣмъ тѣмъ, чтó увидѣлъ въ зеркалѣ. «Вотъ бы штука была», сказалъ господинъ Го-лядкинъ въ-полголоса: «вотъ бы штука была, еслибъ я сегодня ман-кировалъ въ чемъ-нибудь, еслибъ вышло, на-прим<ѣръ>, что-нибудь да не такъ, — прыщикъ тамъ какой-нибудь вскочилъ постороннiй, или произошла бы другая какая-нибудь непрiятность; впрочемъ, покамѣстъ не дурно; покамѣстъ все идет хорошо.» <…> «Поклониться иль нѣтъ? Отозваться иль нѣтъ? Признаться иль нѣтъ?» думалъ въ неописанной тоскѣ нашъ герой, «или прикинуться, что не я, а что кто-то другой, разительно схожiй со мною, и смотрѣть какъ ни въ чемъ не бывало? Именно не я, не я да и только!» говорилъ господинъ Голядкинъ, снимая шляпу предъ Ан-дреемъ Филипповичемъ и не сводя съ него глазъ. «Я, я ничего», шепталъ онъ черезъ силу, «я совсѣмъ ничего, это вовсе не я, Андрей Филипповичъ, это вовсе не я, не я да и только.» <…>
— Я, Крестьянъ Ивановичъ, сталъ продолжать господинъ Голядкинъ все въ прежнемъ тонѣ, немного-раздраженный и озадаченный крайнимъ упорствомъ Крестьяна Ивановича: — я, Крестьянъ Ивановичъ, люблю спокойствiе, а не свѣтскiй шумъ. Тамъ у нихъ, я говорю, въ большомъ свѣтѣ, Крестьянъ Ивановичъ, нужно умѣть паркеты лощить сапогами… (тутъ господинъ Голядкинъ немного их нравственностию наблюсти, сам воспитал их, научил важнейшему — как жить в свете, и если моих уроков послушают, далеко пойдут; правду скажу: душой, так сказать, почти не кривил, разумеется, иногда, смотря по обстоятельствам, понатяги-вал… да! как подумаешь, понатяги-вал — но только когда можно было натянуть… кто ж себе враг? Да как бы то ни было — от всех почтен, от всех уважен, из ничего вышел в люди, и все сам собою… дай Бог всякому так сводить свои дела <…> Странно! ведь, кажется, что я такое на свете был? ведь если судить с благоразумной точки зрения, я не был выскочкою, не умничал, не лез из кожи, и ровно ничего не делал, — а посмотришь, какие следы оставил по себе! и как чудно все это зацепляется одно за другое! Смотришь, в тюрьме сидит человек, и в глаза его не видал, — пойдешь добираться и доберешься, что все по моей милости! Иного за тридевять земель занесло — и опять по моей милости. Тут и вдовы, и сироты, и должники, и кредиторы, и старый, и малый — все меня поминает, и отчего? все от безделицы, право от безделицы: уверяю вас, я человек прямой и откровенный… (416—418, 438) (курсив мой. — А. Г.).
пришаркнулъ по полу ножкой), тамъ это спрашиваютъ-съ, и каламбуръ тоже спрашиваютъ… комплиментъ раздушенный нужно умѣть составлять-съ… вотъ чтò тамъ спрашиваютъ. А я этому не учился, Крестьянъ Ива-новичъ, — хитростямъ этимъ всѣмъ я не учился; нèкогда было, Крестьянъ Ивановичъ. Я человѣкъ простой , незатѣйливый, и блеска наружнаго нѣтъ во мнѣ. Въ этомъ, Крестьянъ Ивановичъ, я полагаю оружiе; я кладу его, говоря въ этомъ смыслѣ <…>
— Крестьянъ Ивановичъ! на-чалъ опять господинъ Голядкинъ тихимъ, но многозначащимъ го-лосомъ, отчасти въ торжествен-номъ родѣ и останавливаясь на каждомъ пунктѣ: — Крестьянъ Ивановичъ! вошедши сюда, я на-чалъ извиненiями. Теперь повторяю прежнее, и опять прошу вашего снисхожденiя на время. Мнѣ, Крестьянъ Ивановичъ, отъ васъ скрывать нèчего. Человѣкъ я маленькiй, сами вы знаете ; но, къ счастiю моему, не жалѣю о томъ, что я маленькiй человѣкъ. Даже напротивъ, Крестьянъ Ивано-вичъ; и, чтобъ все сказать, я даже горжусь тѣмъ, что небольшой человѣкъ, а маленькiй. Не интри-гантъ, — а этимъ тоже горжусь. Дѣйствую не втихомолку, а открыто, безъ хитростей, и хотя бы могъ вредить въ свою очередь и очень бы могъ, и даже знаю надъ кѣмъ и какъ это сдѣлать <…> А вотъ я самъ-по-себѣ да и только, и знать никого не хочу, и въ невинности моей врага презираю . Не интригантъ и этимъ горжусь. Чистъ, прямодушенъ, опря-тенъ, прiятенъ, незлобивъ …11 (курсив мой. — А. Г. ).
В обоих случаях встречаем похожие обороты, похожий ритм. И главное, речь обоих героев является составной частью их особой психологической динамики, которая требует оправдываться перед другими; эти другие, однако, почти никогда не присутствуют, что придает их речи диалогический характер: сознание Василия Кузьмича и Голядкина расколото между тем, что есть, и тем, что должно быть. Оба предвосхищают реплику потенциального собеседника, оба крайне восприимчивы к чужому мнению, оба подозрительны.
Что касается структуры, мы наблюдаем некую зеркальность между «Живым мертвецом» и «Двойником». Рассказ Одоевского начинается сном и заканчивается возвращением сознания (Василий Кузьмич просыпается). Повесть Достоевского начинается пробуждением Голядкина и заканчивается потерей сознания. Более того, «Двойника» можно рассматривать как продолжение «Живого мертвеца», особенно когда читаем последние слова этого рассказа, идущие сразу после тех, которые Достоевский взял для эпиграфа «Бедных людей»: «На что это похоже? Порядочному человеку даже уснуть не дадут спокойно!.. Ух! до сих пор еще мороз подирает по коже… А уж двенадцать часов за полдень; эк я вчерась засиделся; теперь уж никуда не поспеешь! Надо, однако ж, чем-нибудь развлечься. К кому бы поехать? к Каролине Ивановне или к Наталье Казимировне?» (442)12. Как раз Каролина Ивановна появляется в «Двойнике»13, и Голядкин упоминает ее имя на первой его встрече с Крестьяном Ивановичем во второй главе.
Зеркальность отражается также в композиционном плане: сознание Василия Кузьмича во время сна очень похоже на сознание Голядкина-старшего, а поступки Василия Кузьмича наяву напоминают хитрые и бесстыдные поступки Голядкина-младшего.
Достоевский был гениальным читателем, самым «интертекстуальным» среди своих современников, и трудно представить, что это не более чем совпадение. Присутствие «Живого мертвеца» сильно сказывается в двух его первых произведениях (и не только) и является отличным примером для более глубокого исследования творческого влияния Одоевского на Достоевского.
***
Еще одно наблюдение, косвенно связанное с «Двойником». Достоевский назвал Голядкина «своим главнейшим подпольным типом». Вернемся к «Живому мертвецу». Если обратить внимание на повествование от первого лица, то найдем еще близость между речью Василия Кузьмича и «парадоксалиста» из «Записок из подполья» (повесть, которую я тоже перевел на испанский язык). «Подпольная психология» уже чувствуется в «Живом мертвеце»: «Я истинно скажу: ни добра, да и ни зла без нужды я никому не делал — право… вы знаете: я человек откровенный; ну, разумеется, когда ждешь беды, то иногда, так сказать, и подставишь ногу ближнему…» (418). Сравните со словами «парадоксалиста»: «Я не только злымъ, но даже и ничѣмъ не съумѣлъ сдѣлаться: ни злымъ, ни добрымъ, ни подлецомъ, ни честнымъ, ни героемъ, ни насѣкомымъ»14. Уже в эпиграфе к «Бедным людям» находим очень интересную мысль, которая, в свете нашего анализа, приобретает особое значение (первые слова принадлежат Василию Кузьмичу после того, как он проснулся):
«Живой мертвец»
«Ох, уж мне эти сказочники! Нет чтоб написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное! а то всю подноготную 15 из земли вырывают! Вот уж запретил бы им писать ! Ну, на что это похоже! читаешь и невольно задумываешься — а там всякая дребедень и пойдет в голову; право бы, запретить им писать , так-таки просто вовсе бы запретить… На что это похоже? Порядочному человеку даже уснуть не дадут спокойно!..» (442) (курсив мой. — А. Г. )
«Записки из подполья»
Есть въ воспоминанiяхъ всякаго человѣка такiя вещи, которыя онъ открываетъ не всѣмъ, а развѣ только друзьямъ. Есть и такiя, которыя онъ и друзьямъ не откроетъ, а развѣ только себѣ самому, да и то подъ секре-томъ. Но есть, наконецъ, и такiя, которыя даже и себѣ человѣкъ открывать боится и такихъ вещей у вся-каго порядочнаго человѣка довольно-таки накопится. То есть даже такъ: чѣмъ болѣе онъ порядочный человѣкъ , тѣмъ болѣе у него ихъ и есть <…> Теперь же, когда я не только припоминаю, но даже рѣшился записывать , теперь я именно хочу испытать: можно ли хоть съ самимъ собой совершенно быть откровеннымъ и не побояться всей правды ?16 (курсив мой. — А. Г. )
«Письменность — правда», или «к правде через письменность», или «о возможности достичь правды (истины) посредством письменности»: с самого начала творческого пути Достоевского присутствует это напряжение, это искание, эта тайна.
Примечания
-
1 Подробнее об этом см.: [12, 15] и далее.
-
2 Одоевский В. Живой мертвец // Одоевский В. Русские ночи. М.: Эксмо, 2007. С. 416. Далее текст цитируется по этому изданию с указанием страницы в круглых скобках.
-
3 Это напоминает слова Г. В. Бамбуляка по поводу «Двойника»: «Достоевский вплотную подошел к той сфере человеческого бытия, которая не может быть объяснима не логикой, ни психологией, не политикой, не этикой, ни социологией. Эта сфера не может стать предметом названных способов познания, потому что главное ее свойство — принципиальная смысловая непроясненность <…> Достоевский, как никто другой из русских писателей, столкнулся с таким человеческим материалом, какой может быть “обработан” и отражен только средствами искусства» [2, 81–82].
-
4 В. Н. Захаров пишет по этому поводу: «Традиционные рассуждения о “двойничестве” Голядкина, его внутреннем раздвоении, вполне обычном у любого из “подпольных” героев Достоевского, а тем более — у “главнейшего”, во многом справедливы, но недостаточны в анализе коллизии “Голядкин — двойник”. Создание этой коллизии — выход в иную художественную сферу. Двойник имеет прямое отношение не к “двойничеству” героя (это “двойничество” без двойника), а к социальной действительности России 40-х годов ХIХ в. Художественный мир повести — не опосредованная сознанием “безумца”, а реальная историческая среда императорской столицы.
Появление двойника расширяет “пространство трагедии” повести Достоевского — выводит ее из узкого круга личности господина Голядкина. То, что двойник действует в реальных условиях петербургской жизни 40-х годов, а не в опосредованных болезненным сознанием Голядкина обстоятельствах, позволяло перевести художественный анализ с одного уровня (личность господина Голядкина в первых главах) на другой (Россия, Петербург, сороковые годы — “наше время”).
Создание коллизии “Голядкин-двойник” — постановка Достоевским проблемы ценности человеческой личности в исторических судьбах России» [5, 86–87]. Еще об этом см.: [6].
-
5 Неслучайно В. Б. Шкловский писал: «Двойник Достоевского — самый простой, печальный и безнадежный вариант двойника.
Два героя ничем друг от друга не отличаются.
Чиновник-неудачник вымыслил самого себя такого же, какой он есть, с теми же целями, но удачника.
Это отсутствие идеала, отказ в движении вперед означают кончен-ность данного героя: автор его уже и не жалеет, хотя отмечает в нем черты человеческого страдания» [14, 57].
-
6 Как установил Е. М. Неёлов, русская фантастика берет свои корни в фольклорной сказке: «В русской литературе процесс роста фантастики уже отчетливо заметен на рубеже ХVII–ХVIII вв., и связан он как раз с активным взаимодействием фольклорной сказки с различными повествовательными структурами. Жанрово же обусловленная
фантастика впервые появляется, когда литературная сказка в 30 г. ХIХ в. приобретает в творчестве Пушкина статус жанра, после чего, так сказать, задним числом, довольно многочисленные сказочные тексты ХVIII в. тоже получают соответствующую жанровую дефиницию. Вслед за литературной сказкой (и отчасти одновременно с процессом ее жанрового становления) в ХIХ в. начинают появляться и научно-фантастические произведения, однако как особый жанр научная фантастика в России оформится только в первой половине ХХ в., и лишь после такого оформления произведения, скажем, В. Одоевского, М. Михайлова, К. Случевского, В. Брюсова будут осознаны как входящие в состав русской научной фантастики» [8, 16–17].
-
7 В письме к Ю. Ф. Абаза от 15-го июня 1880 года Достоевский, ссылаясь как раз на Пушкина, определяет специфику фантастического жанра почти в тех же самых терминах, в которых это сделает Цветан Тодоров в XX веке [10]: «Пусть это фантастическая сказка, но ведь фантастическое в искусстве имеет предел и правила. Фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что Вы должны почти поверить ему. Пушкин, давший нам почти все формы искусства, написал «Пиковую даму» — верх искусства фантастического. И вы верите, что Германн действительно имел видение, и именно сообразное с его мировоззрением, а между тем, в конце повести, то есть прочтя ее, Вы не знаете, как решить: вышло ли это видение из природы Германа, или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром, злых и враждебных человечеству духов (NB. Спиритизм и учения его). Вот это искусство!» (курсив Ф. М. Достоевского. — А. Г. ) (Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990. Т. 30. Кн. 1. С. 192).
-
8 Там же. Том 28. Кн. 1. С. 118.
-
9 «(В 1830-х гг. — А. Г. ) Начинают дифференцироваться и художественные принципы фантастического повествования. Скажем, в “Гробовщике” (1831) Пушкина очевидны сложно-психологические функции фантастического. “Легкость”, существование фантастического в атмосфере бытового правдоподобия — эстетический принцип, которому он следует и в “Пиковой даме”. Фантастические же произведения Одоевского сразу обнаруживают качественно иную, рациональную природу, философскую, научно-аналитическую первооснову. Не случайно всем известные отзывы Пушкина о фантастических произведениях Одоевского, достаточно ему чуждых, отмечены нескрываемым скепсисом» [11, 8]. На то, что русская фантастика отличается от западной, намекает итальянский исследователь Стефано Алоэ: «Одновременно один из первых в русской литературе Кюхельбекер полемизирует с западной фантастикой, считая ее слишком невероятной и пустой; если западная фантастика заменяет во многом религиозную и магическую сферу, для Кюхельбекера фантастика должна служить именно как средство философских и религиозных размышлений, не возбуждать в читателях суеверный страх, а служить им орудием для узнавания глубокой, душевной основы реальности (подобные претензии заметны и у Погорельского, и у Одоевского)» [1, 275–276].
-
10 Среди них, например, В. Е. Ветловская [4, 55–56] и К. А. Баршт [3, 538].
-
11 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: канонические тексты. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1995. Т. 1. С. 139–140, 144–145, 149, 150, 198.
-
12 Если, конечно, считать опечаткой отчество «Карловна», которая появляется в данной фразе. Дело в том, что в «Живом мертвеце» Каролина Ивановна печатается два раза как Каролина Карловна. На это указал А. Б. Пеньковский в своей книге [9].
-
13 И в конце «Шинели» Гоголя: «…он (значительное лицо. — А. Г. ) решил не ехать еще домой, а заехать к одной знакомой даме, Каролине Ивановне, даме, кажется, немецкого происхождения, к которой он чувствовал совершенно приятельские отношения» (Гоголь Н. В. Собрание сочинений: в 9 т. М.: Русская книга, 1994. Т. 3: Повести. С. 134).
-
14 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: канонические тексты. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005. Т. VI. С. 9.
-
15 Слово «подноготная» Достоевский прямо вкладывает в уста князя Вал-ковского в «Униженных и оскорбленных», где этот последний говорит то же самое, что позже скажет парадоксалист: «Но вотъ что я вамъ скажу! Еслибъ только могло быть (чего впрочемъ по человѣческой натурѣ никогда быть не можетъ), еслибъ могло быть, чтобъ каждый изъ насъ описалъ всю свою подноготную (курсив мой. — А. Г. ), но такъ, чтобъ не побоялся изложить не только то, что онъ боится сказать и ни за что не скажетъ людямъ, не только то, что онъ боится сказать своимъ лучшимъ друзьямъ, но даже и то, въ чемъ боится подчасъ признаться самому себѣ, — то вѣдь на свѣтѣ поднялся бы тогда такой смрадъ, что намъ бы всѣмъ надо было задохнуться. Вотъ почему, говоря въ скобкахъ, такъ хороши наши свѣтскія условія и приличія» (Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: канонические тексты. Т. IV. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2000. С. 298). Безусловно, князя Валковского можно считать звеном в эволюции подпольного типа.
-
16 Там же. С. 36.
Список литературы "Живой мертвец" и "Двойник", или еще раз о фантастике Достоевского (из наблюдений переводчика)
- Алоэ Стефано. Фантастика как средство для философских размышлений: Вечный Жид в творчестве В. К. Кюхельбекера//Contributi italiani al. XIII Congresso Internazionale degli Slavisti (Ljubljana, 15-21 agosto 2003). -Флоренция, Firenze University Press, 2014. -Pp. 261-282.
- Бамбуляк Г. В. Идея человека в раннем творчестве Достоевского//Литература и время. -Кишинев: Штиинца, 1987. -С. 80-91.
- Баршт К. А. Примечания//Достоевский Ф. М. Бедные люди. -М.: Ладомир: Наука, 2015. -С. 515-791.
- Ветловская В. Е. Роман Ф. М. Достоевского «Бедные люди». -Л.: Худож. лит., 1988. -208 с.
- Захаров В. Н. Система жанров Достоевского: типология и поэтика. -Л.: ЛГУ, 1985. -209 с.
- Захаров В. Н. Имя автора -Достоевский. Очерк творчества. -М.: Индрик, 2013. -455 с.
- Назиров Р. Г. Владимир Одоевский и Достоевский//Русская литература. -1974. -№ 3. -С. 203-206.
- Неёлов Е. М. Фольклорный интертекст русской фантастики. -Петрозаводск: ПетрГУ, 2002. -124 с.
- Пеньковский А. Б. Очерки по русской семантике. -М.: Изд-во Языки славянской культуры, 2004. -464 с.
- Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. -М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. -144 с.
- Турьян М. А. Русский «фантастический реализм». -СПб.: Изд-во Росток, 2013. -448 с.
- Фокин П. Е. Достоевский. Перепрочтение. -СПб.: Амфора, 2013. -287 с.
- Фридлендер Г. М. О некоторых очередных задачах и проблемах изучения Достоевского//Достоевский. Материалы и исследования. -Л.: Наука, 1980. -T. 4. -С. 7-26.
- Шкловский В. Б. За и против. Заметки о Достоевском. -М.: Советский писатель, 1957. -260 с.