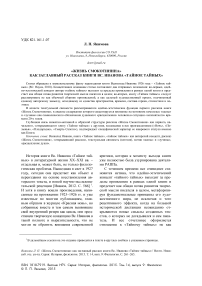"Жизнь Смокотинина" как заглавный рассказ книги Вс. Иванова "Тайное тайных"
Автор: Якимова Людмила Павловна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья обращена к знаменательному факту переиздания книги Всеволода Иванова 1926 года - «Тайное тайных» (М.: Наука, 2010). Концептивное основание статьи составляют два отправных положения: во-первых, идейно-эстетический концепт автора «тайное тайных» выходит за пределы проявления в рамках одной книги и предстает как общая почва развития творческой мысли писателя в целом; во-вторых, книгу «Тайное тайных» следует рассматривать не как обычный сборник произведений, а как цельный художественный проект, подчиненный единому авторскому замыслу, исходящему из единства пространства, времени, состава героев, стилистики и поэтики. В аспекте текстуальной связности рассматриваются идейно-эстетические функции первого рассказа книги «Жизнь Смокотинина», в анализе содержания которого акцентируется внимание на мотивном комплексе «щепы» и «лучины» как символического обозначения душевного «расщепления» человека в ситуации «непонятного» времени 20-хгодов. Глубинная связь сюжетно-мотивной и образной структуры рассказа «Жизнь Смокотинина» как первого, начального, «открывающего» книгу «Тайное тайных» с другими, входящими в нее произведениями («Ночь», «Полынья», «Плодородие», «Смерть Сапеги»), подтверждает специфический характер ее жанрового статуса именно как Книги.
Всеволод иванов, книга "тайное тайных", "тайное тайных" как авторский концепт, рассказ "жизнь смокотинина", "открывающий рассказ", текстуальная связность (когезия), мотив "щепы" и "лучины", "расщепление души"
Короткий адрес: https://sciup.org/147219459
IDR: 147219459 | УДК: 821.161.1.07
Текст научной статьи "Жизнь Смокотинина" как заглавный рассказ книги Вс. Иванова "Тайное тайных"
История книги Вс. Иванова «Тайное тайных» в литературной жизни ХХ–ХХI вв. – отдельная и, может быть, не только филологическая проблема. Вышедшая в свет в 1927 году, сегодня она предстает как объект и переиздания на основе восстановления авторского текста, и новой научно-исследовательской рецепции [Иванов, 2012. С. 566] 1. И хотя в книгу вошли произведения, написанные на протяжении 1925–1926 гг. и уже известные по многим публикациям, главным образом в журнале «Красная новь», но собранные вместе и тем самым выявившие свой внутренний резерв как цикла, они представили творческую концепцию Вс. Иванова в такой полноте и выразительности, что не могли не обратить внимания современной критики, которая к моменту выхода книги уже полностью была узурпирована деятелями РАППа.
С течением времени все очевиднее становится истина, что идейно-эстетический концепт «тайного тайных» выходит за пределы проявления в рамках одной книги и предстает как общая почва развития творческой мысли писателя в целом, метафоризи-руя фундаментальные принципы его художественного мира, не исключая и того рецептивного эффекта, когда на большой исторической дистанции неожиданно открываются новые смыслы созданных текстов, о которых не догадывался и сам писатель. И все отчетливее оформляется отношение к «Тайному тайных» не как сборнику рассказов, а именно как цельной книге, выстроенной по хорошо продуманному художественному проекту, где сыграл свою роль фактор циклообразования, где просматривается внутренняя творческая задача, восходящая к единому ощущению пространства, времени, состава героев, стилистики и поэтики. В аспекте выявления циклообразующих начал книги «Тайное тайных» как единого поэтико-смыслового проекта особый интерес безусловно представляет открывающий ее рассказ «Жизнь Смокотинина».
Как заглавие произведения предстает одним из важнейших факторов внутренней связности художественного текста (когезии), так и заглавный рассказ цикла (сборника, книги) берет на себя те же идейно-эстетические функции. Обстоятельно исследовавшая творческую историю книги Е. А. Папко-ва сообщает, что «открывающий» рассказ «Жизнь Смокотинина» в первых публикациях печатался под названиями «Тайное тайных», «Жизнь Тимофея Смокотинина, сына подрядчика» и «Щепа» (Пламя. 1926. № 3) [2012. С. 443], но затем название одного рассказа было возведено в степень названия всей книги, сам же рассказ, пройдя через номинативную инвариантность, вошел в нее как «Жизнь Смокотинина».
Многогранность понятия «тайное тайных», охватывающая и непознанную сферу человеческой души, и сокровенное отношение писателя к миру в целом и вновь созданному в частности, и органическую не-проявленность бытия как такового, придали книге «Тайное тайных» поэтико-смысловую и философскую глубину, неразрывную с понятием подтекста. Вплотную соприкоснувшись с деструктивной волей войн и революций, герои рассказов с наступлением мирной жизни удивляют своей неспособностью жить «по-человечески», выстраивать нормальные отношения как с сельчанами, так и в семье, невольно вызывают неприязнь к себе, превращаются в изгоев, становятся возбудителями неразрешимых конфликтов. Поистине ключевой, задающей эмоционально-смысловой тон всей книге «Тайное тайных» является начальная фраза ее первого рассказа «Жизнь Смокотинина»: «Когда, впервые после долгих войн, пришли в деревню плотники рубить богатому мужику Афиногенову вместо сгоревшей новую избу, – насмешек над ними было много. То кричали, что топоры за революцию иступились, – голов много порубили ими, то – осины им теперь, разучившись, не отличить от сосны» (С. 7).
Главное слово здесь – «разучившись». Многолетняя невостребованность привычных в мирной жизни чувств любви, отзывчивости, милосердия и пропагандистская установка на злость, ненависть, возмездие, тотальная порушенность вековечных ценностей – веры в Бога и святости семейных уз – отозвались в национальном характере утратой духовных ориентиров, обернулись угрозой «расщепления» души. Привычные житейские понятия и нормы оказались вывернутыми наизнанку, как знаменитые златоустовские топоры, долгие годы служившие тому, чтобы рубить не избы, а человеческие головы.
Принципиальное значение для понимания особенностей творческого поведения Вс. Иванова в годы, сопутствующие вызреванию замысла книги «Тайное тайных», было то, что художественная картина русской действительности, развернутая в ней, была следствием и результатом глубоко внутреннего, духовно-душевного переживания ее писателем, что находит документальное подтверждение в переписке тех лет, в частности, с А. М. Горьким. Показательно письмо от 25 сентября 1926 г., где живущий в мире жестоких реалий российской действительности 20-х гг. писатель вступает в полемический диалог с живым русским классиком, несколько отвлеченно рассуждающим о российских проблемах, воспринимая их из прекрасного далека солнечного Сорренто: «Вот вы, Алексей Максимович, пишете, что спокойствие вредно для людей. Вредно ли оно для нас русских, сейчас? Очень не вредно <…> люди исковерканы, все внутри их изломано, свершать преступление сейчас ничего не стоит – да вот, кстати, и в тюрьмах у нас перенаселение. Людей сейчас жестко карают за растрату или хулиганство, а их, право, карать не за что, их надо лечить» (С. 331).
Письмо воспринимается как автокомментарий не только к рассказам книги «Тайное тайных», но и к другим, сопутствующим ей, произведениям. Именно таким внутренне разрушенным, «исковерканным» и «изломанным», отвыкшим от терпеливо-кропотливого ежедневного труда, срывающимся на злость и раздражение при первой же неуда- че, предстает в рассказе Тимофей Смокоти-нин. Особенности его характера, испорченного в ходе «непонятного времени», оттеняет образ Катерины Шепеловой, в которой акцентирован мотив сохранности типичных черт русской женщины, как отстоялись они в глубинах национальной литературы. Она подошла к рубившим избу плотникам, чтобы по обычаю спокойно, не спрашиваясь, взять щепу, но, натолкнувшись на окрик и грубые ухватки Тимофея, который успел забыть старые обычаи, выпустила ее, промолвив: «Полно». Привыкшего к легким победам Тимофея («с бабами он был боек») пронзили несуетность ее поведения, отсутствие жеманства («не так, как иные бабы, не завизжала, не заерзала»), и нечто непривычно женственное, сокровенное («прижала щепу к груди, словно ребенка»); зацепило это снисходительно-умиротворяющее «темное слово» ее: «Полно». И от всего этого «словно что-то зарябило внутри Тимофея» и «вместе со щепой скользнуло так же его сердце» (С. 8).
За «долгие войны» люди «разучились» не только творить, созидать и строить, но и любить, непривычными стали такие тонкие душевные движения, как нежность, теплота, сочувствие; ушел из народного обихода обычай ухаживания. Потому и не дано Тимофею в нахлынувшем на него чувстве, что не излечивается знахаркой, не поддается обмену на посулы шерстяной юбки или даже настоящих ботинок, распознать любовь, потому и воспринимает ее герой как злое колдовство, вражью напасть и воюет с ней привычным на войне способом: из того же ружья, из которого только что убил волка, стреляет в Катерину. И если у старика Смо-котинина, отца Тимофея, подрядчика, сохраняются внутренние силы противостоять «непонятному времени» – он верит в Бога, необходимость труда при любых порядках, незыблемость семейных уз, – то у Тимофея такой внутренней опоры уже нет, по наклонной плоскости жизни он катится легко и беспрепятственно. «Тимофей ничего не смог объяснить суду – о колдовстве ему было стыдно говорить, хотя и хотелось. “Как щепа за сердцем”, – сказал он и развел руками» (С. 11). Отсидев год, в деревню он уже не вернулся, «начал шляться с новыми знакомыми по ярмаркам, с цыганами сидеть в трактире» (С. 11–12). Был жестоко бит за конокрадство, легко согласился на заказное убийство. «Румяный, ясный, звонкоголосый» (C. 7) в начале рассказа, в конце его он неузнаваем: «У него вытек глаз, он начал хромать» (С. 12). Только смерть привела его к согласию с вековечными законами, нормами и правилами жизни. «И вот Тимофей последний раз лежал дома, под образами, в горнице… Пришла и Катерина. Перекрестилась, оправила медяки, сползавшие с глаз Тимофея, поцеловала в лоб… “Полно”, – сказала Катерина и еще раз перекрестилась» (С. 13).
Небольшим рассказом о несложившейся, несостоявшейся, загубленной «непонятным» временем любви Вс. Иванов много способствовал тому, чтобы реставрировать потускневший в ходе революции идеал русской женщины. Катерина верна Божьим заповедям, хранит «обет» погибшему на войне мужу; с благодарностью принимая «тайную милостыню», тем же «темным словом “Полно”» решительно отклоняет богатые посулы Тимофея; внутренняя красота ее пребывает в гармонии с внешним обликом. Есть в ней и нечто некрасовское: «Собой она была высокая, здоровая, молчаливая» (С. 7), но слышится что-то и бунинское: это «легкие руки ее», неповторимо «единственным» движением скрывающиеся под платком; «походка ее … единственная, тоскливая» (С. 10), «и казалось – мели землю длинные каштановые ее ресницы» (С. 7). Неслучайно в своих письмах Вс. Иванову Горький постоянно отмечал их поэтикосмысловую близость: «…Но мне уже кажется, что в пластике письма Вы шагнули дальше Бунина, да и язык у Вас красочнее его, не говоря о том, что у Вас совершенно отсутствует бунинский холодок и нет намерения щегольнуть холодком этим» (С. 516).
Высокую степень эмоционально-смыслового воздействия рассказа определили не только острота заряженности его актуальными проблемами времени, но и тот уровень художественного мастерства писателя, который позволил Горькому на его примере обратиться к феноменологии искусства, т. е. к таким сторонам его, которые сохраняют значимость всегда и всюду. Отмеченная А. М. Горьким «пластика письма» в рассказе «Жизнь Смокотинина» достигается посредством высокой меры его текстуальной связности – когезийности, важнейшим началом которой является мотивная концентрация.
Вспомним, что один из первоначальных вариантов названия рассказа – «Щепа», «щепа» и является мотивным словом рассказа «Жизнь Смокотинина»: оно проходит через весь текст, будучи упомянутым не менее 15 раз, и его инвариантом в рассказе является «лучина». Известно, что с литературной юности не расставался Вс. Иванов с «Толковым словарем» Даля и, конечно же, знал значение слова «щепа» в его многочисленных народных истолкованиях – были среди них и «как щепа за сердцем», и «по ком этот вздох, тот бы в щепку иссох». Известно, какие глубинные ассоциации с революционной эпохой рождала пословица «лес рубят – щепки летят», и исследователи творчества Вс. Иванова задаются вопросом, знал ли писатель о «Щепке» В. Зазубрина: «Неизвестно, читал ли Вс. Иванов повесть» (С. 446).
Но «читал» и «знал» разные вещи: предположить, что «не читал» – реально, а что «не знал» – невозможно, особенно при той глубине и органичности связи с сибирскими литераторами, которая отличала Вс. Иванова на протяжении всей жизни, и при учете того, что «Щепка» в советской литературе – явление резонансное. Обстоятельно исследовав творческую историю повести Зазубрина, В. Н. Яранцев пишет: «Она не отпускала его, как минимум, десятилетие. Он переписывал ее несколько раз, предлагал и в СО и в КН, давал читать чуть ли не каждому известному литератору и даже, как говорят, Дзержинскому» [2012. С. 62]. Судьбой «Щепки» был озабочен В. Правдухин – по признанию В. Зазубрина, он и «запалил ее в Москву» [Там же. С. 65], где ее читал и отклонил А. Воронский, где мог узнать о ней и Вс. Иванов. Но мотив щепки вошел в литературу 20-х гг. и помимо одноименной повести – через текст другой повести В. Зазубрина «Бледная правда»: «Революция – мощный, мутный, разрушительный и творящий поток. Человек – щепка. Люди – щепки. Но разве человек-щепка конечная цель Революции?» [Зазубрин, 1990. С. 136].
О том, как глубок был интерес Вс. Иванова к семантической неисчерпаемости этого образа, свидетельствуют воспоминания его литературных коллег. Вспоминая о неизменной тяге писателя к яркому, живому, незатасканному и незатертому слову, извлеченному из самых глубин народного словоупотребления, писатель Ф. Малов неожиданно касается неостывшего за многие годы интереса писателя к этимологическому богатству слова и образа «щепы». «Однажды я, – вспоминает Ф. И. Малов, – рассказывал на даче в Переделкине, как на редкость нелюдимый, мрачный наш лесной старик, Фотиевич, затянувший свару с сердобольной, неизбывно хнычущей Харламихой, пристукнул ложкой о залавошник и желчно скривил губы: “Суешься ты, щепеня, мне разум, щепетуха отпетая!” И, завлеченный мужицким разгоряченным речением, Всеволод Вячеславович впопыхах обшаривал веранду, похлопывал по скатерти, по стульям, книгам, обескураженно отыскивал закатившийся карандаш. Хотелось под живую руку записать и дедушкину щепетуху и ущепе-ляемый старухой разум (курсив мой. – Л. Я.)» [Малов, 1975. С. 119].
Степень идейно-эстетической функциональности образов Тимофея и Катерины равнозначна, их нарративная равноценность безусловна. Суровым обвинением «непонятному» времени, наступившему в результате долгих лет войн и революций, служит не только напрасная гибель Тимофея, «разучившегося» опираться на «обычаи» жизни, но и печальная участь Катерины, претворенная во внутреннюю повесть о напрасно гибнущей красоте, незамеченной, невостребованной, «необрамленной». И как темной, глухой непредсказуемостью обернулась в судьбе Тимофея унесенная со стройки щепа, так отзывается в судьбе Катерины образ лучины на мотив известной песни «Лучинушка»: «Катерина стояла к нему боком и тянула с печи лучины. Печка, видимо, слабо разгоралась, и она хотела дожечь лучины» (С. 11). Однажды оба мотивных знака мужской и женской судьбы сольются в единый образ душевного расщепления героя, в восприятии которого «лучина» явится в своем реальном значении «щепы», «щепок», пригодных для разжигания печки: увидел «ее, стоявшую неподвижно со щепами… даже какое-то умиление почувствовал Тимофей» (С. 11), однако, устыдившись невольного проявления этого исконно человеческого, но забытого чувства, «достал патрон».
Мотивная акцентированность как один из поэтико-стилистических приемов «пластики письма» чрезвычайно важна и в создании образа Катерины: дважды упомянуты ее «легкие руки», при этом однажды в инверсированном варианте – «увидел ее руки легкие». В отличие от Тимофея она не наделена в рассказе ни речью, ни внутренней мыслью, лишь «темное слово “Полно”» произносит дважды при встрече с Тимофеем – сначала с живым, а потом с мертвым, и «знахарной бабке Катерина ответила тем же темным словом “Полно”» (С. 9), и Тимофей потому страшится новой встречи с ней, что «ждал опять этого слова “Полно”» (С. 11). И как «темные аллеи» служат сокрытию тайны человеческих отношений у Бунина, так «темное слово» Катерины скрывает «тайное тайных» ее души.
Составляющие книгу «Тайное тайных» рассказы пронизаны всепроникающим восприятием революционного времени, осмысление и постижение которого требует исторической дистанции, ибо восходит к самой сути понимания революции как альтернативного пути изменения человеческого бытия. Процесс их осмысления нельзя считать завершенным и сегодня, когда сама неисчислимость вариантов их прочтения служит подтверждением истины о том, что каждому времени художественное произведение поворачивается новыми сторонами и у каждого смысла есть свое время пробуждения. Сегодня все очевидней становится, что в призме авторской концепции мира проступают типологические стороны революции, и прежде всего то, что фактор разрушения, расщепления, порчи человека – ее внутренний закон.
Подвергшаяся идеологическому остракизму и почти на девять десятилетий преданная забвению, книга «Тайное тайных» увидела свет, когда, сделав исторический виток, российское общество вновь оказалось на пороге «непонятного» времени, связанного с Перестройкой, то ли аналогом, то ли синонимом еще одной русской революции, и когда вновь явственно проступили типологические черты ее как «шокового» метода общественного переустройства. В этой ситуации авторский концепт «тайное тайных» обнаружил скрытые глубины новой актуальности, и не только филологического смысла, подтвердив мысль о вечных и непознанных тайнах поведения человека в аспекте как несводимости его к предлагаемым обстоятельствам, так и непреходящей силы их.
«SMOKOTININ'S LIFE» AS A TITLE STORY OF VSEVOLOD IVANOV’S BOOK «THE SECRET OF THE SECRET ONES»
Список литературы "Жизнь Смокотинина" как заглавный рассказ книги Вс. Иванова "Тайное тайных"
- Зазубрин В. Бледная правда//Зазубрин В. Общежитие. Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1990. 413 с.
- Папкова Е. А. Книга Всеволода Иванова «Тайное тайных». М.: ИМЛИ РАН, 2012. 566 с.
- Малов Ф. «Витязь соловьиного слова»//Всеволод Иванов -писатель и человек. М.: Сов. писатель, 1975. С. 118-140.
- Яранцев В. Н. Зазубрин: человек, который написал «Щепку». Новосибирск: РИЦ НП Союза писателей России, 2012. 751 с.