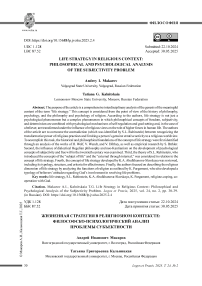Жизненная стратегия в религиозном контексте: философско-психологический анализ проблемы субъектности
Автор: Макаров А.И., Кальницкая Т.Г.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 т.24, 2025 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи – комплексный междисциплинарный анализ содержательного наполнения понятия «жизненная стратегия». Это понятие рассматривается с точки зрения истории философии, психологии, философии и психологии религии. По мнению авторов, жизненная стратегия представляет собой не просто психологический феномен, но комплексное явление, в котором философские представления о свободе, субъектности и детерминизме соединяются с психологическими механизмами саморегуляции и целеполагания, а в случае верующего человека – трансформируются под влиянием религиозных взглядов на роль высших сил в человеческой жизни. Задача авторов статьи – преодолеть противоречие (которое было обозначено С.Л. Рубинштейном) между признанием трансформирующей силы религиозных практик и ограничением подлинной творческой активности человека религиозным мировоззрением. Для выполнения поставленной задачи, во-первых, были определены историко-философские основания концепции жизненной стратегии, что было сделано с помощью анализа работ Х. Вольфа, В. Вундта и В. Дильтея и данных эмпирических исследований Ш. Бюлера; во-вторых, было выявлено влияние диалектической гегелевской философии и неокантианства на формирование психологических концепций субъектности и свободы воли в ХХ в.; в-третьих, рассмотрена в аспекте концепции жизненной стратегии теория С.Л. Рубинштейна, который ввел понятие «субъект жизни» и принцип «внешнее через внутреннее»; в-четвертых, была рассмотрена концепция жизненной стратегии, развитая К.А. Абульхановой-Славской; и наконец авторы подробно остановились на описании религиозного измерения жизненной стратегии с привлечением анализа функций религии, проведенном К. Паргаментом, который также построил типологию установок верующих относительно участия Бога в разрешении жизненных проблем.
Жизненная стратегия, С.Л. Рубинштейн, K.A. Абульханова-Славская, К. Паргамент, религиозное совладание, со-работничество с Богом
Короткий адрес: https://sciup.org/149149468
IDR: 149149468 | УДК: 1.128 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2025.2.4
Текст научной статьи Жизненная стратегия в религиозном контексте: философско-психологический анализ проблемы субъектности
DOI:
Цитирование. Макаров А. И., Кальницкая Т. Г. Жизненная стратегия в религиозном контексте: философско-психологический анализ проблемы субъектности // Logos et Praxis. – 2025. – Т. 24, № 2. – С. 30–39. – DOI:
В современной психологии концепция жизненных стратегий представляет собой одно из наиболее перспективных исследовательских направлений, позволяющих интегрировать философские, психологические и социальные аспекты человеческого бытия. Однако в контексте религиозного мировоззрения данная концепция обретает особую сложность и противоречивость, которую С.Л. Рубинштейн, один из основоположников субъектного подхода в отечественной психологии, обозначил еще в середине ХХ века. В труде «Человек и мир» он сформулировал принципиальное противоречие, с которым сталкивается религиозное понимание человеческой субъектности: с одной стороны, религиозные практики обладают значительной трансформирующей силой, влияющей на личность и ее отношение к миру, с другой – религиозное мировоззрение ограничивает подлинную творческую активность человека, перенося источник инициативы и ответственности в трансцендентную сферу. В современной психологии религии, особенно в работах американского исследователя религиозного совладания К. Паргамен-та, исследуются различные способы интеграции религиозных представлений и практик в процессы жизненного планирования и преодоления трудностей. На наш взгляд, его типология религиозных копинг-стратегий и моделей взаимодействия с Богом (полная самостоятельность, полное делегирование ответственности и сотрудничество) позволяет по-новому взглянуть на сформулированную Рубинштейном проблему междисциплинарного исследования понятия жизненной стратегии через призму религиозности человека. Мы исходим из предположения, что жизненная стратегия представляет собой не просто психологический феномен, но и комплексное явление, в котором философские представления о свободе, субъектности и детерминизме соединяются с психологическими механизмами саморегуляции и целеполагания, а в случае верующего человека – трансформируются под влиянием религиозных взглядов на роль высших сил в человеческой жизни.
Идея о том, что человек может и должен быть творцом своего жизненного пути, проделала долгий путь от философских размышлений до конкретных психологических концепций. Философские предпосылки для понимания человека как стратега своей жизни можно найти в античности. В диалоге
«Федр» (246b) Платон уподобляет душу колеснице, где возница – разум управляет двумя конями – благородным (символизирующим часть души, в которой преобладают рассудительность, совестливость и которая есть «друг истинного мнения» (253d)) и необузданным (символизирующим часть души, в которой преобладают неукротимость, своеволие и с которой нужно обходиться со всей строгостью), стремясь направить всю упряжку по верному пути [Платон 1993, 155, 164]. В Новое время эта идея обрела новое звучание. Значительное влияние на развитие представлений о взаимосвязи души и тела оказал Б. Спиноза. Рассматривая аффекты как изменения в способности тела к действию, он предвосхитил современные теории эмоций, подчеркивающие их адаптивную функцию. Его акцент на детерминированности психических процессов и стремление к рациональному пониманию человеческой природы повлияли на развитие научного подхода к психологии, основанного на принципах причинности и объективности. В то же время он писал, что человек, правильно пользующийся своим разумом, не может впасть в печаль, поскольку он познал Бога и в этом познании «пребывает в благе, которое представляет собой совокупность всех благ и в котором заключается вся полнота радости и наслаждения» [Спиноза 1957, 126]. Дж. Локк и его единомышленники подчеркивали важность опыта и чувственного восприятия в формировании знаний. Появляются первые идеи о важности воспитания детей, а также о возможности саморазвития и самовоспитания. Он пишет: «Девять десятых тех людей, с которыми мы встречаемся, являются тем, чем они есть, – добрыми или злыми, полезными или бесполезными, – благодаря своему воспитанию» [Локк 1987, 145].
В первой половине XIX в. произошло дальнейшее развитие эмпирической традиции в изучении психических процессов благодаря прогрессу физиологии. Исследования И. Мюллера, сформулировавшего закон специфической энергии органов чувств, а также работы Э. Вебера и Г. Фехнера, заложившие основы психофизики, создали важный методологический мост между философскими размышлениями и экспериментальным изучением психических процессов. Это развитие привело к возникновению физиологической психологии, предшествовавшей экспериментальной психологии В. Вундта.
Вторая половина XIX в. ознаменовалась становлением научной психологии. В. Вундт, основав в 1879 г. первую психологическую лабораторию в Лейпциге, осуществил переход от философской психологии к эксперименталь- ной науке. Однако сам Вундт сохранял связь с философской традицией, разделяя психологию на физиологическую, изучающую элементарные процессы сознания методом интроспекции, и «психологию народов» (Völkerpsychologie), исследующую высшие психические процессы через анализ продуктов культуры. Этот дуализм отражал более глубокое методологическое разделение, которое впоследствии оформилось в противопоставление естественнонаучного и гуманитарного подходов в психологии.
Критическая реакция на психологический атомизм Вундта привела к формированию альтернативных подходов, среди которых особое место занимает «понимающая психология» В. Дильтея. Представитель неокантианской традиции, он противопоставил объяснительной (естественно-научной) психологии описательную, утверждая, что психическая жизнь должна изучаться не через разложение на элементы, а в ее целостности и исторической обусловленности. Дильтей оперировал понятием «жизненного пути» (Lebenslauf) и подчеркивал значимость биографического метода в психологии, что стало важным шагом к формированию представлений о человеке как субъекте жизни [Дильтей 2004, 248].
Параллельно развивалась философская традиция немецкого идеализма (И.Г. Фихте, Й. Шеллинг, Г.В.Ф. Гегель), уделявшая особое внимание проблемам самопознания, свободы воли и диалектике субъект-объектных отношений. Эта традиция, особенно гегелевская диалектика с ее акцентом на деятельности и самореализации духа, стала впоследствии одним из источников формирования субъектного подхода в психологии, в том числе в работах С.Л. Рубинштейна.
Неокантианство, представленное работами В. Виндельбанда и Г. Риккерта, развивало идеи о методологическом различии между науками о природе и науками о культуре (или науками номотетическими и идиографи-ческими). Эта дискуссия сыграла ключевую роль в становлении гуманитарного направления в психологии, акцентируя внимание на индивидуальности и своеобразии человеческой личности. С формированием гуманитарной парадигмы в психологии на рубеже XIX–XX вв. произошел переворот в понимании человека как активного творца своей судьбы. Концепция «жизненной стратегии» и «стратегии поведения» формировалась не напрямую из философских идей, а через сложное взаимодействие различных психологических школ ХХ века.
На протяжении своей истории философия оперировала такими метафизическими категориями, как «свобода воли», «сущность человека», «смысл жизни». Прагматизм в лице У. Джеймса, Дж. Дьюи и феноменология в лице Э. Гуссерля предложили более операциональный подход к этим категориям, рассматривая их через призму конкретного опыта и интенциональности сознания. Работы немецкой исследовательницы Ш. Бюлер сыграли ключевую роль в переходе от философских концепций жизненного пути к их психологическому исследованию. В 1933 г. Бюлер опубликовала труд «Жизненный путь человека как психологическая проблема», в котором систематически исследовала жизненные истории людей, используя биографический метод, а также предложила рассматривать жизненный путь в единстве биологического, психологического и социального аспектов. Н.А. Логинова отмечает: «На большом эмпирическом материале ею было установлено, что, несмотря на индивидуальное своеобразие, существуют закономерности (“регулярности”) в сроках наступления оптимумов жизни в зависимости от соотношения духовных, “ментальных”, и биологических, “витальных”, тенденций. Были обнаружены также различные типы жизненного развития личности, а также была разработана концепция развития человека как процесса постепенного становления и изменения духовных целевых структур самосознания» [Логинова 1985, 104]. При этом самоопределение рассматривается как центральный механизм построения жизненного пути.
Теоретические наработки Ш. Бюлер были позитивно восприняты психологом, философом, впоследствии академиком АН СССР С.Л. Рубинштейном. В 1909–1913 гг. он получал образование в университетах Берлина, Марбурга (учился у Г. Когена, П. Наторпа) и Фрайбурга, в 1914 г. в Марбурге защитил диссертацию по философии «К проблеме метода», в которой подвергал критическому рассмотрению рационализм Г.В.Ф. Гегеля. В то же время, как отмечает К.А. Абульханова-Слав-ская, «гегелевская категория субъекта как источника активности, самодвижения и саморазвития сознания из гносеологической была преобразована С.Л. Рубинштейном в онтологическую путем раскрытия сознания как высшего, совершенного качества человека, занимающего центральное место в мире» [Абуль-ханова 2005, 4]. Рубинштейн видел своей задачей поиск иного пути философии, который не впадал бы в крайности материализма и идеализма, и на этом пути обратился к феномену деятельности человека, его философским, психологическим и педагогическим аспектам. В небольшой работе «Принцип творческой самодеятельности» (1922) он критикует традиционное понимание объективности как независимости от познающего субъекта, показывая, что оно приводит либо к догматическому объективизму, либо к субъективному идеализму. Рубинштейн предлагает понимать объективность как внутреннюю завершенность системы знания, где все элементы определены через их взаимоотношения внутри этой системы. Конфликт между объективностью и конструктивной активностью познающего субъекта преодолевается, по мнению Рубинштейна, признанием того, что объективность включает творческую самодеятельность: «Субъект в своих деяниях, в актах своей творческой самодеятельности не только обнаруживается и проявляется; он в них созидается и определяется. Поэтому тем, что он делает, можно определять то, что он есть; направлением его деятельности можно определять и формировать его самого» [Рубинштейн 1986, 106]. Для нас, однако, крайне интересна следующая интуиция Рубинштейна относительно религии, сформулированная там же: задолго до современной педагогики мировые религии придерживались принципа «действия формируют сознание». Религиозные практики (ритуалы, молитвы, посты) были спроектированы не просто как внешнее исполнение обрядов, но как система действий, призванная трансформировать внутренний мир верующего, «породить соответствующее умонастроение» [Рубинштейн 1986, 106]. Однако Рубинштейн указывает на фундаментальное противоречие в религиозном мировоззрении. С одной стороны, религии стремились изме- нить человека через его действия. С другой стороны, понимание Бога как абсолютного творца всего сущего не позволяло признать истинно творческую, преобразующую природу человеческой деятельности. Поэтому, полагает Рубинштейн, «действия, которые должны были служить проводниками божественного воздействия на человека, могли быть лишь символическими актами: как деяния они были чисто фиктивны» [Рубинштейн 1986, 106]. Верующий в такой системе остается пассивным «получателем божественной благодати», а не активным со-творцом реальности. В этом контексте творческая свобода создания личных ритуальных практик, ответственность за которую принимает на себя человек, способна, на наш взгляд, объяснить их развитие и популярность.
В посмертно изданной работе «Человек и мир» Рубинштейн вводит понятие «субъекта жизни». Он пишет: «Человек не только находится в определенном отношении к миру и определяется им, но и относится к миру и сам определяет это свое отношение, в чем и заключается сознательное самоопределение человека. Важна не только его обусловленность объективными условиями, но и различие позиции субъекта, понятой не субъективистически (то есть субъект против объекта), а как объективное ее изменение, как выражение изменения ситуации» [Рубинштейн 2003, 371]. Это понятие стало ключевым для понимания жизненной стратегии, поскольку связало философскую идею свободы с психологическими механизмами саморегуляции. Опираясь на Гегеля, Рубинштейн предложил диалектическое решение философской проблемы детерминизма и свободы воли, сформулировав принцип «внешнее через внутреннее», согласно которому внешние причины действуют через внутренние условия. Он пишет: «Сознательная регуляция, включающая и осознание окружающего, и действия, направленные на его изменения, – важное звено в развитии бытия. Отличительная особенность человека – “детерминированность через сознание”, иными словами, преломление мира и собственного действия через сознание, – вот основное для понимания проблемы свободы человека и детерминации бытия» [Рубинштейн 2003, 371].
К.А. Абульханова-Славская, ученица Л.С. Рубинштейна, в своих трудах завершила концептуальный переход от философии к психологии жизненного пути, сформулировав собственно понятие жизненной стратегии как «принципиальную, реализуемую в различных жизненных условиях, обстоятельствах способность личности к соединению своей индивидуальности с условиями жизни, к ее воспроизводству и развитию» [Абульханова-Славс-кая 1991, 245]. Другими словами, это умение выстраивать свою жизненную стратегию, опираясь на личностные особенности и характер, а также находить баланс между внутренними потребностями и внешними обстоятельствами, преобразуя жизненные условия в соответствии с собственными ценностными ориентирами. При этом акцентируется взаимосвязь мышления и действий как интеграция внутреннего мира и внешней активности человека, тогда как «внутреннюю жизнь следует рассматривать как психологическую составляющую жизненного пути. Она не только отражает реальные события, но и сама является субъективной реальностью – жизнью» [Логинова 1985, 105].
Абульханова-Славская выделяет три основных типа жизненных стратегий: 1) стратегия благополучия (ориентация на удобство и комфорт, эвдемонизм); 2) стратегия достижения (ориентация на успех и признание, прагматизм); 3) стратегия самореализации (ориентация на творчество и развитие, перфекционизм). По мнению Абульхановой-Славской, «основную жизненную стратегию личность осуществляет только в качестве субъекта своей жизни» [Абульханова-Славская 1991, 129], и она представляет собой стратегию «поиска, обоснования и реализации своей личности в жизни путем соотнесения жизненных требований с личностной активностью, ее ценностями и способом самоутверждения» [Абульханова-Славская 1991, 129–130]. Стратегия жизни – это «принципиальная, реализуемая в различных жизненных условиях, обстоятельствах способность личности к соединению своей индивидуальности с условиями жизни, к ее воспроизводству и развитию» [Абульханова-Славская 1991, 130]. Через проживание жизненных стратегий происходит разрешение внутренних конфликтов. Человек определяет сферы применения своих способностей и формы самовыражения, а также находит пути преодоления возникающих трудностей, благодаря которым выстраивает маршруты самореализации. При этом наличие жизненной стратегии личности свидетельствует о ее социально-психологической зрелости и способности решать жизненные противоречия [Абульханова-Славская 1991, 67].
Как отмечает Н.А. Логинова, «принцип жизнедеятельности, разрабатываемый К.А. Абульхановой-Славской, конкретизирует применительно к личности более общий принцип единства сознания и деятельности. Соответственно тому, как сознание формируется и проявляется в деятельности, в жизнедеятельности формируются и проявляются в качестве ее субъективных регуляторов интегральные, “вершинные” структуры личности – характер и талант, жизненная направленность и жизненный опыт» [Логинова 1985, 105]. Каждый индивид выстраивает свою уникальную модель взаимодействия с социальной средой, опираясь на понимание как открытых правил игры, так и неписаных законов общественного устройства. Процесс самоопределения включает в себя глубокую внутреннюю работу по осмыслению личных ресурсов и качеств, что в итоге определяет уникальное социальное положение человека. К.А. Абульха-нова-Славская подчеркивает, что центральная задача личностного развития заключается в создании собственной модели существования в социальном контексте, которая представляет собой динамичный процесс согласования внутренних потребностей с внешними условиями, результатом чего и становится индивидуальный стиль жизни.
Обращаясь к религиозному измерению жизненных стратегий, мы сталкиваемся с необходимостью методологического перехода от классических психологических концепций к современным подходам в психологии религии, осуществленного, в частности в работах американского исследователя религиозного совладания К. Паргамента. В работах Абуль-хановой-Славской жизненная стратегия представлена как способ разрешения фундаментального противоречия между социальными требованиями и индивидуальными потребностями личности. В дальнейших разработках представителей школы Рубинштейна мы можем найти такое определение веры: «Вера – наиболее близкий оптимизму личностный конструкт, имеющий не только выраженную эмоционально-чувственную, но и мировоззренческую основу и наделенный способностью выходить за пределы данного, “наличного бытия” (С.Л. Рубинштейн) в пространство будущего как желаемого, оправданного и одновременно реально возможного» [Воловикова, Джидарьян 2018, 27]. На наш взгляд, исследования Паргамента органично дополняют эту концепцию, демонстрируя, как религия участвует в разрешении экзистенциальных противоречий человеческого бытия. Религиозное мировоззрение предлагает уникальные способы сопряжения метафизического и психологического измерений жизни, позволяя верующему интегрировать трансцендентное в повседневное. Когда мы рассматриваем эту концепцию в контексте религиозной жизни, мы обнаруживаем, что верующие люди опираются на дополнительные ресурсы при формировании своих жизненных стратегий. Переживая жизненные трудности, решая насущные проблемы, верующий человек обращается не только к религии, но и к группе единоверцев в поисках социальной поддержки. Поэтому жизненные стратегии будут определяться, во-первых, собственной системой ценностей, убеждений, намерений и действий, через призму которых рассматриваются проблемы; во-вторых, связью между людьми с общей идентичностью в общине единоверцев и социальной поддержкой в ней; в-третьих, представлениями о нормативном поведении, обусловленном вероучительными истинами о правильных отношениях между человеком и Творцом (высшим существом, вселенским разумом и т. п.). Паргамент описывает пять ключевых функций религиозного копинга: 1) поиск смысла травмирующих событий в более широком религиозном контексте; 2) возвращение себе контроля над ситуацией через религиозные практики; 3) обретение психологического комфорта посредством ощущения близости к Богу или высшим силам; 4) обоснование необходимости перемен в жизни, личностной трансформации; 5) стремление к близости с другими верующими и участию в религиозной общине [Pargament 1997, 181].
Религиозные жизненные стратегии носят конструктивный характер, проявляясь через духовное единение с принадлежащими той же вере, позитивную религиозную интерпретацию жизненных событий, обращение к духовным ресурсам для получения поддержки и др. Как отмечает отечественный исследователь духовного совладания Ф.М. Шаньков, в таком случае они приводят к повышению удовлетворенности жизнью, улучшению физического и психологического благополучия, уменьшают проявление депрессии [Шаньков 2016, 134]. В то же время необходимо отметить и деструктивный аспект религиозных жизненных стратегий, который может выражаться в гипертрофированном чувстве собственной греховности, восприятии Божества как карающей инстанции, объяснении трудных жизненных ситуаций воздействием демонических сил и т. п. При доминировании подобных установок в кризисных ситуациях наблюдаются усиление депрессивных и тревожных состояний, снижение физиологического благополучия, эмоциональное выгорание.
Немаловажной в контексте жизненных стратегий является типология установок верующего человека относительно участия Бога (высших сил) в его жизни, предложенная Пар-гаментом и его коллегами [Pargament et al. 2013]. Она включает три основные модели:
-
1. Ответственность за разрешение ситуации полностью перекладывается на высшие силы, Бога. Такая модель характеризуется подчиненностью, пассивностью, предоставлением решения проблем воле Бога. Эта установка, на наш взгляд, соответствует тому ограничению субъектности, которое отмечал С.Л. Рубинштейн.
-
2. Полная самостоятельность: согласно этой модели, Бог предоставил человеку все необходимое для разрешения проблемы, к Его помощи взывать излишне. Такая стратегия характеризуется стремлением решать проблемы собственными силами, сохраняя автономию даже в контексте религиозного мировоззрения.
-
3. Со-работничество: совместное с Богом решение проблемы. Эта модель представляет собой диалектический синтез, сочетающий идеи личной ответственности и божественного участия в человеческой жизни.
Именно третья модель, на наш взгляд, предлагает продуктивное разрешение противоречия, обозначенного Рубинштейном. В этой модели религиозность не ограничивает субъектность, но трансформирует ее, переводя в иное качественное состояние, где личная ответственность и инициатива соединяются с доверием высшим силам и ощущением поддержки со стороны трансцендентного. Субъектность человека, таким образом, претерпевает качественное преобразование, расширяющее возможности личностного развития.
Религиозное измерение жизненных стратегий не только не противоречит идее человека как субъекта жизни, развитой в отечественной психологической традиции, но при определенных условиях может способствовать более полной реализации этой субъектности.
Подведем краткие итоги нашего исследования. Анализ исторического развития представлений о субъектности – от рационализма Вольфа и критической философии Канта до неокантианства и гуманистической психологии – свидетельствует о глубинной связи между философскими концепциями свободы воли, автономии личности и психологическими моделями жизненных стратегий. Концепция субъекта жизни, разработанная С.Л. Рубинштейном и получившая дальнейшее развитие в трудах К.А. Абульхановой-Славской, создала теоретико-методологический фундамент для понимания человека как активного деятеля, способного к осознанному построению своего жизненного пути. Однако вопрос о реализации этой субъектности в контексте религиозного мировоззрения требовал дополнительного рассмотрения. Современные исследования в области психологии религии, в частности работы К. Паргамента, позволяют дифференцированно подходить к пониманию религиозности и ее влияния на жизненные стратегии. Религиозные жизненные стратегии могут быть позитивными – и в таком случае они приводят к повышению удовлетворенности жизнью, улучшению физического и психологического благополучия; могут быть негативными, приводя к возникновению тревоги, ухудшению здоровья, эмоциональному выгоранию. На наш взгляд, дальнейшие исследования в этой области могут быть связаны с более детальным изучением конкретных механизмов формирования и реализации религиозных жизненных стратегий, их культурной и конфессиональной специфики, однако особенно важным представляется изучение возможности интеграции религиозных и психологических подходов к пониманию и развитию личностного потенциала человека. Продуктивное взаимодействие философских, психологических и религиоведческих подходов к изучению жизненных стратегий не только обогащает наше понимание человеческой личности, но и открывает новые возможности для междисциплинарных исследований в области гуманитарного знания, соответствуя глубинным традициям отечественной психологической школы, стремившейся к целостному пониманию человека в единстве его телесного, душевного и духовного бытия.