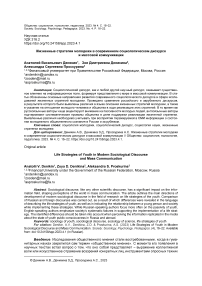Жизненные стратегии молодежи в современном социологическом дискурсе и массовой коммуникации
Автор: Деникин Анатолий Васильевич, Деникина Зоя Дмитриевна, Проскурина Александра Сергеевна
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 4, 2023 года.
Бесплатный доступ
Социологический дискурс, как и любой другой научный дискурс, оказывает существенное влияние на информационное поле, формируя представления о мире в массовой коммуникации. В статье обозначены основные направления развития современного социологического дискурса в сфере исследований жизненных стратегий молодежи. Проведено сравнение российского и зарубежного дискурсов, в результате которого были выявлены различия в языке описания жизненных стратегий молодежи, а также в указании на отношения молодого человека и общества в ходе реализации этих стратегий. В то время как русскоязычные авторы чаще акцентируют внимание на пассивности молодых людей, англоязычные авторы подчеркивают систематические провалы общества в деле поддержки реализации жизненной стратегии. Выявленные различия необходимо учитывать при восприятии тиражируемой в СМИ информации о состоянии молодежного общественного сознания в России и за рубежом.
Социология молодежи, социологический дискурс, социология науки, жизненные стратегии молодежи
Короткий адрес: https://sciup.org/149142994
IDR: 149142994 | УДК: 316.2 | DOI: 10.24158/spp.2023.4.1
Текст научной статьи Жизненные стратегии молодежи в современном социологическом дискурсе и массовой коммуникации
(Левада, 2010: 151). Одной из ключевых работ по этой проблеме является текст П. Бурдье «Общественное мнение не существует», в котором он характеризует его именно как результат работы социологов (Бурдье, 1993: 159). П. Бурдье приводит аргументы в пользу того, что не все люди имеют сформированное мнение, не все мнения делают одинаковый вклад в итоговую оценку, равно как и не все предлагаемые к обсуждению вопросы необходимо обсуждать. Эти тезисы – финальный этап рассмотрения сущности общественного мнения. Начальным этапом было понимание общества как «неразумного большинства», на смену которому пришел интерес к «просвещенной публике», чье мнение имеет вес и имеет смысл быть исследованным. Такая позиция была свойственна, например, Ж.-Ж. Руссо, понимавшему под общественным мнением мнение той части общества, которая создает и поддерживает нравственный, моральный кодекс общества, а также имеет социальные полномочия осуществлять контроль за его соблюдением (Руссо, 2018: 54). Общественное мнение XX–XXI вв. изучается уже в политологической перспективе и с точки зрения влияния массмедиа, стартом чего стала электоральная исследовательская работа Дж. Гэллапа.
Сегодня речь идет о том, что новые форматы массовой коммуникации трансформируют многие сферы общественной жизни и создают новые социальные прецеденты. Однако существует научная дискуссия о том, следует ли рассматривать влияние цифровизации и квантификации на общественные отношения как радикально новый эффект или происходит интенсификация существующих тенденций (Prat, Strömberg, 2013: 159). В любом случае сложно отрицать наблюдаемые характеристики коммуникации цифровой эпохи, в которой быстрее происходит легитимизация идей, решений, взглядов, а сама коммуникация зачастую имеет цель демонстрации публичной поддержки. В современных массовых коммуникациях формируются комплексные картины мира с опорой на визуальность передачи информации, и простота формирования картин мира позволяет сосуществовать большому количеству равноправных точек зрения.
Эта множественность свойственна и общественным практикам, и научному дискурсу. Изучение различий в дискурсах исследователей дает возможность сформулировать типовые характеристики молодежных стратегий в России и за рубежом, предположить влияние массовой коммуникации этих дискурсов на молодых людей и принимаемые ими решения, а также на общественную оценку их жизненных стратегий.
Дискурс как часть коммуникативных практик . Изучение дискурсов и дискурсивных практик – часть структурного исследовательского подхода. Дискурс – это пример структуры, способствующей адаптации индивида к изменениям и одновременно генерирующей такие изменения. Дискурс относится к терминам из сферы лингвистики, однако используется и нелингвистическими науками, в которых он чаще всего определяется как образ мышления и его словесные проявления1.
Говоря о современных дискурсах, следует заметить, что сегодня наблюдается количественная оценка ранее неоценимых реалий (любви, вдохновения, творчества, отношений) со стороны как общества, так и исследователей. И речь идет не о применении классических количественных методов, а о самом взгляде на эти реалии как на изначально измеримые в капиталистической культуре. Возникает рынок физически неощутимых товаров и услуг, что в сочетании с Интернетом и анонимностью в нем формирует культуру этической амбивалентности и свободы выбора ценностных оснований. Нормы и ценности находятся в состоянии потокового «становления» (becoming), не получая завершенной формы, в связи с чем возможен только срезовый метод анализа дискурсов в традиции М. Фуко и феноменологии. Коммуникация насыщается логикой квантификации, из-за чего массовая коммуникация зачастую поддерживает состояние «моральной слепоты» – неспособности оценивать реалии эмпатически из-за опоры в оценках и аргументации на рыночные, рациональные, прогностически выгодные положения (Bauman, Donskis, 2013: 11). Так и проявляется изменение «окраски» аргументов через коммуникативные практики.
Культуральная парадигма в социологической теории предлагает альтернативный взгляд на аргументационные дискурсы. В этой парадигме акцент сделан на конкретные характеристики процессов формирования дискурсов и коммуникативных практик, а также принципов их воздействия на общество. Данный подход похож на взгляд Ю. Хабермаса, который разбирал речевые практики и строение состояния «обиды», чтобы уловить его переход в состояние непринятия ценностей. Однако в рамках культуральной парадигмы идет обращение не столько к самой коммуникации, сколько к ее контексту и культурно-историческим истокам этой коммуникации. Для культуральной парадигмы при анализе дискурсивной этики существен термин «спираль означения» – конструирование системы культурной классификации событий и ценностей (Александер, 2012), среди которых и особенности аргументации в дискурсе.
Современные дискурсы реализуются через визуальные средства, что позволяет отследить процессы оборота общественных капиталов. Особую роль начинает играть капитал визуальноинформационный (Бодрийяр, 2009: 36–37), который становится неотъемлемой частью любой коммуникации вне зависимости от среды реализации коммуникативной практики (Бодрийяр, 2015: 46–47). Этот капитал, если трактовать его с позиции П. Бурдье, гибок и легко адаптируется к самым разным состояниям обществ. К подобным практикам капиталооборота в дискурсах можно применить подход суперсистемных флуктуаций П. Сорокина. В чувственной сверхсистеме формируется ориентация на потребление развлекательной, упрощенной информации, а не на производство смыслов. Общение в Интернете строится на общности потребностей и способов их удовлетворения. Преимущество имеют производители символического ресурса и те, кто освоил навык его накопления и преумножения, – инфлюенсеры в социальных сетях, крупные информационные агентства, как официальные, так и неформальные. В идеациональной сверхсистеме ценными становятся дискурсы, которые демонстрируют идеологическую принадлежность различной степени яркости. Главной ценностью становится способность выразить точку зрения и защитить ее. Имидж известного «борца за правду» – наиболее значимый ресурс в таком типе общественных отношений. В идеалистической сверхсистеме информационные ресурсы – отражение ресурсов, с информацией не связанных, так как информационная среда становится скорее инструментом достижения целей, базирующихся в офлайн- и детехнологизированном мире.
Данные примеры демонстрируют приведенный тезис о стирании коммуникативной грани между средами распространения сообщений. Реализующие коммуникативные практики пользователи сохраняют связи с себе подобными и чутко распознают различия в сверхсистемных тонах в ходе общения. Понимание коммуникативного аспекта способствует пониманию иерархии, ценностей, характера отношений между людьми (Горбачева, 2014). Так как коммуникация осуществляется не только непосредственно между фактическими биологическими организмами, но и между разумами путем интернет-коммуникации, преодолевающей расстояние и время, сама коммуникация усложняется, наполняется дополнительными измерениями. Такой формат, с одной стороны, позволяет получить еще более многомерное представление об общественных отношениях, с другой – оказывает воздействие на содержание коммуникации, ее формы и поведение индивидов до нее, во время нее и после нее. Большая откровенность в новых дискурсах, большая таргетированность, большая персонализация способствуют трансформации ценностей на самом глубоком уровне через изменение установок и норм целых общественных групп.
Анализ жизненных стратегий молодежи: российские и зарубежные научные дискурсы . Для анализа было отобрано 10 русскоязычных (Акулич, Пить, 2011; Волокитина, 2010; Ефимова, 2014; Маршак, Рожкова, 2015; Мехришвили и др., 2017; Основные подходы к исследованию жизненных стратегий личности …, 2010; и др.) и 10 англоязычных (Brietzke, Perreira, 2017; Graham et al., 2015; Holt et al., 2020; Peou, Zinn, 2014; King et al., 2016; Sanchez et al., 2013; Juárez et al., 2013; и др.) статей. Ключевыми словами для поиска были «жизненные стратегии молодежи» и youth life strategies. Анализ осуществлялся по трем направлениям: терминологические характеристики названия и ключевых слов; содержание понятия «жизненные стратегии молодежи»; представление связи молодежных стратегий с другими общественными системами, отношениями и механизмами.
На основе названий и ключевых слов сформированы облака слов для русско- и англоязычных публикаций по теме жизненных стратегий молодежи (рис. 1). Слова приведены в нейтральную общую форму для удобства подсчета частоты употребления.
социокультурный план поддержка студенческий
учащийся направление протестный недоброе о вестность
архетип
исследование , . - биографическим подход _ „ настроения психология Основной жизнедеятельность будущее профессиональный ^ формирование профе.СС1М " ' успех Идентичность анализ самоччтовие
противодействие ценность
общество языковой фактор
высший модернизация образ
Влияние социализация современный перспективы студент Группа российский
МОЛОДЁЖЬ взрослость социологический
учебный иждивенчество
кластерный
студенчество
жизненным
реализация межэтнический молодой культура поколение
инновационный гражданский этнический
стратегия
зрелость
СОЦИОЛОГИЯ карьера личность инфашилизм
саморегуляция стратегий представления отношения
самоопределение смысл чувства
Социальный
ответственность
образование
выбор Россия „ г множественный ожидания роль акпвность детерминанта условия
акме-собыпшный заведение достижение
индивидуальный
готовность
модальный представление опыт акмеологический - смысложизненныи
Рисунок 1 – Облако слов для названий и ключевых слов высокоцитируемых русскоязычных публикаций на тему жизненных стратегий молодежи
Помимо очевидного преобладания словосочетания «жизненные стратегии» и «молодежь», можно выделить несколько смысловых групп: прилагательные (26 слов), научные термины (17), субъекты в сфере жизненных стратегий (11), индивидуальные (17) и социальные (18 слов) детерминанты жизненных стратегий. Прилагательные демонстрируют связь жизненных стратегий молодежи с обществом (социальный, гражданский); характеристиками субъектов реализации стратегий (студенческий, биографический); культурой (российский, межэтнический) и рядом иных характеристик, относящихся в основном к группе трудовых отношений и их качеству (профессиональный, современный, инновационный). К индивидуальным детерминантам жизненных стратегий относятся главным образом личные ощущения молодых людей (ожидания, самочувствие, настроения, представления); их понимание принципов построения стратегии (смысл, опыт, недобросовестность, саморегуляция). В российских академических текстах об этих принципах говорят часто с позиции неготовности молодежи к взрослой жизни и нестабильности, переходности их положения, его транзитивности (Зубок, Чупров, 2020). Социальные детерминанты жизненных стратегий – это механизмы социальной мобильности (карьера, социализация, образование); общественные ценности (успех, ответственность, плагиат); воздействие общества на молодого человека (формирование, перспективы, поддержка).
Аналогичный анализ англоязычных публикаций позволил составить облако слов, представленное на рис. 2. Название и ключевые слова разделяются на схожие с российскими группы: прилагательные (18 слов), научные термины (18), субъекты (8), индивидуальные (10) и социальные (15 слов) детерминанты. К этим группам добавляются обозначения практик, влияющих на жизненные стратегии (10 слов), обозначение активной позиции субъекта (18), а также культурно-исторические условия (10 слов).
mental adolescence influences leaders Latinos expectations
rural
prototype leadership Cambodian
citizenship substance management transitioning
. harsh foster African evolutionary’ .. ,. , paradigm adult . . 10grap cal adulthood Latino theorv student conlmunitv " strategY
experience study program
behavior risky adjustment social relationship
predictor
grounded structural adults Oregon
skills age sex
youth
uncertainty sport transition American
internalizing opportunity
emerging coping
longitudinal development
developing disability ^ residential
participation areas
willingness posjtiv, equation pilot emancipation modeling immersive adolescents
■e
model "«“S urban violence adverse . _ environment coming
engagement health stress qualities destination
externalizing intervention
outcome
independence
capital
physical maltreatment responsibility
migration
typology immigration managing
issues
Рисунок 2 – Облако слов для названий и ключевых слов высокоцитируемых англоязычных публикаций на тему жизненных стратегий молодежи
Прилагательные характеризуют индивидуальное восприятие (adverse, positive); динамическую природу жизненных стратегий (emerging, early); их расположение в социофизическом пространстве (urban, structural, student). Группа слов, обозначающих культурно-исторические условия, не имеет форму прилагательных, как в русском языке, однако по смыслу может быть отнесена к описательным характеристикам – в этой группе даются указания на страну, штат или национальность, а также на степень урбанизации изучаемой территории. Субъект наделяется большей агентностью, так как не только дается характеристика индивидуальных детерминант построения жизненной стратегии (disability, experience, stress, mental health), но и используются слова для указания на активную позицию субъекта: он планирует (strategy, development), осознает (adjustment, coping), взаимодействует с другими (leadership, participation). Жизненная стратегия является результатом активного подхода молодого человека к своей судьбе, проявляющегося в повседневных практиках (sport, sex, immigration). Среди социальных детерминант упоминаются общая атмосфера (uncertainty, change); общественные институты (school, coming of age); механизмы общественных взаимодействий (community, citizenship).
Само понятие жизненной стратегии молодежи определяется русскоязычными авторами как принимаемая стратегия по проявлению собственной личности одновременно с адаптацией к общественным запросам, обстоятельствам, ценностям и ограничениям. В отобранных статьях подчеркивается, что молодые люди находятся в переходном нестабильном состоянии, когда формируются собственные установки и устремления, которые должны не только соответствовать внутренним убеждениям, но и выдерживать давление коллективного интереса (Лунина, 2008: 35). Как это и отражено в названиях и выбранных ключевых словах, молодой человек видится скорее пассивным и малорезультативным для общества, даже когда стремится достичь социальной значимости и сформировать собственную конкурентоспособность в условиях высокого предложения на рынке труда (Осипова, Энвери, 2016: 120). Также особенностью русскоязычного дискурса является стремление продемонстрировать региональную специфику, знание о которой востребовано управленцами и другими исследователями, поскольку эмпирически значимые различия между регионами подтверждаются (Тишков и др., 2017).
Англоязычные авторы анализируют жизненную стратегию как эффекты среды, находящие отражение в индивидуальном поведении, – о таком взгляде свидетельствует, например, применение методологии LHS (life history strategies, стратегии истории жизни) (Hampson et al., 2016: 120) или указание на значимость не только целей, но и адаптации к изменениям и соответствия условиям проживания индивида (Mayordomo-Rodríguezet al., 2015: 479–480). Упоминаемые практики и характеристики, которые относятся к индивиду, формирующему жизненную стратегию, демонстрируют равную степень ответственности для человека и общества. Даже когда молодой человек вовлекается в опасные для здоровья практики (наркомания, беспорядочные половые связи, преступность) или не имеет привилегированного бэкграунда (ограниченные возможности здоровья, взросление в детском доме, жизнь в неблагополучных районах), в тексте идет речь об эффективности общественных механизмов, структур и институтов в деле помощи такому человеку, а не о его пассивности и нежелании преодолевать сложности. Интересно также отметить, что практически все отобранные статьи имеют целью продемонстрировать упорство молодых людей и силу их стратегий перед лицом глобальных тенденций, которые зачастую характеризуются в современной социологии и других науках как бесчеловечные и лишающие человека базовых смыслов (Bauman, 2011).
Сравнение современного русско- и англоязычного научного дискурса в сфере жизненных стратегий молодежи позволяет сделать следующие выводы.
-
1. Сопоставление терминологических характеристик названий и ключевых слов указывает на различное видение современной молодежи. Русскоязычной среде свойствен фокус на критике молодых людей, их пассивности и отказе от опоры на общественные механизмы, которые должны способствовать достижению ими успеха. В англоязычной литературе формулировки названий и ключевых слов демонстрируют активность молодежи в преодолении объективных и субъективных трудностей.
-
2. Русскоязычные авторы определяют жизненные стратегии молодежи как стратегию проявления личности одновременно с адаптацией к общественным запросам, обстоятельствам, ценностям и ограничениям. Англоязычные авторы под такими стратегиями понимают вариации слова resilience – упорная работа молодого человека по стабилизации своего положения в глобализирующемся и одновременно локализирующемся обществе.
-
3. Согласно видению русскоязычных авторов, молодежные жизненные стратегии связаны с попыткой удержать фокус в условиях личностной и социальной нестабильности. Выбираемые стратегии характеризуются как пассивные и оторванные от общественных механизмов, однако природа данной оторванности скорее в политических и экономических глобальных трендах, чем в самих молодых россиянах. В англоязычной академической среде речь идет о том, что жизненные стратегии молодежи, имеющие ту же цель (развитие в условиях нестабильности), находятся в тесной связи с общественными механизмами, которые обязаны оказывать молодому человеку поддержку. Наблюдаются анализ причин неуспешности такой поддержки и поиск новых способов создать гармоничные условия равноправного развития для молодых людей самого разного происхождения и с самыми разными стартовыми условиями.
Сравнение научных дискурсов указывает на то, что исследование современности неизбежно имеет «окраску локального», т. е. рассматривается влияние культуры и истории региона как на практики, так и на то, как эти практики описываются в научном мире. Способы описания мира и его социологические оценки оказывают значимое воздействие на то, как этот мир видят и воспринимают представители других сфер жизни, и понимание природы различий в этих описаниях позволит делать более осознанные выводы об информации, представленной в массовой коммуникации.
Список литературы Жизненные стратегии молодежи в современном социологическом дискурсе и массовой коммуникации
- Акулич М.М., Пить В.В. Жизненные стратегии современной молодежи // Вестник Тюменского государственного университета. 2011. № 8. С. 34-43.
- Александер Дж. Культурная травма и коллективная идентичность // Социологический журнал. 2012. № 3. С. 5-40.
- Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М., 2009. 260 с.
- Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции. М., 2015. 320 с.
- Бурдье П. Общественное мнение не существует // Социология политики. М., 1993. С. 159-178.
- Волокитина А.А. Жизненные стратегии молодежи в условиях профессионального выбора // Знание. Понимание. Умение. 2010. № 4. С. 216-221.
- Горбачева Н.Б. Сущность и содержание коммуникации как социокультурного явления // Концепт. 2014. № 7. С. 36-40.
- Ефимова Г.З. Социальный инфантилизм студенческой молодежи как фактор противодействия модернизации современного российского общества // Науковедение. 2014. № 6 (25). С. 1-13.
- Зубок Ю.А., Чупров В.И. Жизненные стратегии молодежи: реализация ожиданий и социальные настроения // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 3 (157). С. 13-41. https://doi.org/10.14515/monitor-ing.2020.3.1602.
- Левада Ю.А. Что может и чего не может социология // Социологический журнал. 2010. № 1. С. 149-165.
- Лунина Ю.В. Жизненные стратегии молодежи: основные направления социальной поддержки // Вестник Оренбургского государственного университета. 2008. № 1. С. 34-38.
- Маршак А.Л., Рожкова Л.В. Жизненный успех в представлениях российской молодежи // Социологические исследования. 2015. № 8. С. 157-160.
- Мехришвили Л.Л., Гаврилюк В.В., Гаврилюк Т.В. Влияние образа будущего на жизненный успех и стратегии его достижения современной российской молодежи // Россия реформирующаяся. 2017. № 15. С. 369-394.
- Осипова Л.Б., Энвери Л.А. Жизненные стратегии молодежи: опыт социологического исследования // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2016. № 4 (46). С. 108-129. https://doi.org/10.15838/esc/2016.4.46.6.
- Основные подходы к исследованию жизненных стратегий личности / Ю.В. Синягин [и др.] // Акмеология. 2010. № 1. С. 27-35.
- Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или принципы политического права. М., 2018. 146 с.
- Тишков В.А., Бараш Р.Э., Степанов В.В. Идентичность и жизненные стратегии студенчества в России // Социологические исследования. 2017. № 8. С. 81-87. https://doi.org/10.7868/S0132162517080098.
- Bauman Z. Collateral Damage: Social Inequalities in a Global Age. Cambridge, 2011. 182 р.
- Bauman Z., Donskis L. Moral Blindness: The Loss of Sensitivity in Liquid Modernity. Cambridge, 2013. 224 р.
- Brietzke M., Perreira K. Stress and Coping: Latino Youth Coming of Age in a New Latino Destination // Journal of Adolescent Research. 2017. Vol. 32, iss. 4. P. 407-432. https://doi.org/10.1177/0743558416637915.
- Graham K.E., Schellinger A.R., Vaughn L.M. Developing Strategies for Positive Change: Transitioning Foster Youth to Adulthood // Children and Youth Services Review. 2015. Vol. 54. P. 71-79. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2015.04.014.
- Hampson S., Andrews J., Barckley M., Gerrard M., Gibbons F. Harsh Environments, Life History Strategies, and Adjustment: A Longitudinal Study of Oregon Youth // Personality and Individual Differences. 2016. Vol. 88. P. 120-124. https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.08.052.
- Holt N.L., Deal C.J., Pankow K. Positive Youth Development through Sport // Handbook of Sport Psychology. Hoboken, 2020. P. 429-446. https://doi.org/10.1002/9781119568124.ch20.
- Juárez F., Legrand T., Lloyd C.B., Singh S., Hertrich V. Youth Migration and Transitions to Adulthood in Developing Countries // The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 2013. Vol. 648, iss. 1. P. 6-15. https://doi.org/10.1177/0002716213485052.
- King G., Kingsnorth S., McPherson A.C., Jones-Galley K., Pinto M., Fellin M., Timbrell N., Savage D. Residential Immersive Life Skills Programs for youth with Physical Disabilities: A Pilot Study of Program Opportunities, Intervention Strategies, and Youth Experiences // Research in Developmental Disabilities. 2016. Vol. 55. P. 242-255. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2016.04.014.
- Mayordomo-Rodríguez T., Melendez J., Viguer P., Sales-Galán A. Coping Strategies as Predictors of Well-Being in Youth Adult // Social Indicators Research. 2015. Vol. 122, iss. 2. P. 479-489. https://doi.org/10.1007/s11205-014-0689-4.
- Peou C., Zinn J. Cambodian Youth Managing Expectations and Uncertainties of the Life Course - a Typology of Biographical Management // Journal of Youth Studies. 2014. Vol. 18, iss. 6. P. 726-742. https://doi.org/10.1080/13676261.2014.992328.
- Prat A., Stromberg D. The Political Economy of Mass Media // Advances in Economics and Econometrics. Vol. 2. Cambridge, 2013. P. 135-187. https://doi.org/10.1017/CB09781139060028.004.
- Sanchez Y.M., Lambert S.F., Cooley-Strickland M. Adverse Life Events, Coping and Internalizing and Externalizing Behaviors in Urban African American Youth // Journal of Child and Family Studies. 2013. Vol. 22, iss. 1. P. 38-47. https://doi.org/10.1007/s10826-012-9590-4.