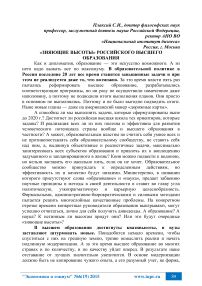«Зияющие высоты» российского высшего образования
Автор: Плаксий С.И.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Современные науки и образование
Статья в выпуске: 6-1 (19), 2015 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140114933
IDR: 140114933
Текст статьи «Зияющие высоты» российского высшего образования
Основные идеи изменений в своей основе пришли к нам из США и настойчиво были предложены зарубежными специалистами. Мало того, на разработку этих реформ и внедрений выделялись кредиты международными банками во много десятков миллионов долларов, которые в значительной мере и тратились на большое число зарубежных, а также некоторых российских консультантов. Еще в ноябре 1994 г. под эгидой и при финансировании Всемирного банка коллективом экспертов, подавляющее большинство которых иностранцы, был подготовлен документ. Он назывался «Россия: образование в переходный период». На первой странице присутствуют надписи: «конфиденциально», «только для служебного пользования», «его содержание не может быть раскрыто без разрешения Всемирного банка». Документ был подготовлен при поддержке Фонда Сороса и правительств ряда стран. Тесное сотрудничество авторов было с Министерством образования и Комитетом по высшему образованию Российской Федерации. Если там все разумно и полезно для граждан России, то зачем его было скрывать? «Бойся данайцев, дары приносящих».
Прошло 20 лет, и надо сказать, что многие предложения иностранных экспертов о преобразованиях российского образования реализуются, и доводы наиболее рьяных «реформаторов» довольно часто берутся еще оттуда.
В документе есть немало и полезного, но основной вектор предложений вредоносен для России, поскольку связан с сокращением ряда секторов образования, сроков обучения, специализаций, лекционных часов и т. д., а также с заимствований рецептов реформирования на Западе, и прежде всего в США.
Там и ЕГЭ (называется иначе), а также экзамен после получения диплома о высшем образовании, закрытие неэффективных и педагогических вузов, «осуществление контроля по результатам путем тестирования». Там не рекомендуется повышение расходов на высшее и профессиональнотехническое образование, «сокращение профессионального образования», отмечается консерватизм кадров высшей школы. Это все реализуется.
К «учебной цели» предлагается отнести «способность правильного чтения карт, объяснение на иностранном языке, правильное заполнение налоговых деклараций; кроме того, к этому можно отнести любовь к российскому искусству и литературе, а также терпимость к другим социальным группам». Не зря один из нынешних главных руководителей образования предлагает воспитывать не творцов, а «грамотных потребителей». А творить может небольшой слой элиты, выращиваемый в десятке элитных вузов.
В документе предлагается «схема практических действий», которая «может быть использована в качестве отправной точки в обсуждениях проблем образования России с международным сообществом». «Первоочередной задачей является установление партнерских отношений и ведение необходимого диалога между Российской Федерацией и международными финансовыми организациями для продвижения хода реформ». Ибо в России «недостаточная способность формулировать, контролировать и оценивать стратегию». Нас признавали неполноценными, и власти должны были обсуждать проблемы нашего образования и идти на поклон к международному сообществу и финансовым организациям. И большие руководители от образования шли, кланялись, брали кредиты и делили их с международными экспертами и между собой. А потом государство многие десятки миллионов долларов кредитов отдавало.
Однако нечего кивать на иностранцев. Мы сами виноваты в проблемах своего образования. Это наши, отечественные образовательные власти вырыли «ров реформ» и продолжают его углублять, энергично принуждая образовательное сообщество участвовать в этом. Нынешняя «эклектическая стратегия» Минобрнауки соединяет в себе «хождение в Европу и за океан», пренебрегая основными демократическими и гуманистическими ценностями и игнорируя «российскую почву» и российскую идентичность. Как справедливо пишет ректор Московского гуманитарного университета И. М. Ильинский, «в конечном итоге изменить систему образования — значит изменить поведение тех, кто учит и кто учится… Но это означает перемены в культурном коде нации… Любые декларации, постановления и законы бессильны перед национальным чувством» [3; С.743]. При этом «проблемы модернизации системы российского образования заключаются в том, что на 90% развитие образования и его качество зависят от принятия разного рода решений и законов. И это главная ошибка. На 90% все зависит от их восприятия образовательным сообществом, от реализации предполагаемых мер… Какая философия образования владеет умами наших властей и законодателей? Какой стратегии в развитии образования они следуют? Неужели они не знают, что подавляющее большинство образовательного сообщества и населения не приемлют их новаций? Неужели не слышат буквально стонов, которые вызывает продавливание силой многих из производимых ими перемен? Неужели не видят скепсиса и иронии, с которой они воспринимаются?.. Неужели наши власти предержащие думают, что те, кто молчит, ничего не видят и не понимают? Или понимают меньше их? Меньше болеют за отечественное образование?..
Чтобы выбраться из такого состояния, существует единственный способ — поставить на первое место в проводимой модернизации Истину и Пользу» [3; С.766-767].
Что же изменилось в системе высшего образования за последние 10–15 лет, какие тенденции и процессы стали главенствующими?
Во-первых, утвердилась жесткая властная вертикаль в образовании, администрирование и бюрократизация превзошли разумные пределы, в подавляющем большинстве вузов ректоры не избираются и назначаются сверху, образовательные власти перестали слышать мнения образовательной общественности и экспертов, уверовали в то, что их позиция единственно правильная. Уровень демократии и автономии опустился ниже советского уровня. В результате министерство было бы радо, если бы не было «отсталых» и «непонимающих» преподавателей, а преподаватели — министерства, которое не дает нормально и спокойно работать. Во-вторых, созданы мегауниверситеты и так называемые исследовательские университеты, в которых в основном имитируется большая наука, зато много неразберихи, бюрократии и неэффективного использования финансов. В-третьих, благодаря беспрецедентному давлению властей окончательно утвердился Единый государственный экзамен, в котором больше минусов, чем плюсов. В-четвертых, бакалавризация стала всеобщей (а точнее, сокращение высшего образования до четырех лет), но Болонский процесс в целом внедряется в квазиварианте. Одно реализуется с перегибами, а другое предается забвению. Например, и в помине нет свободного перемещения студентов и преподавателей, а также реальной автономии и вузовской демократичности. В-пятых, финансирование высшего образования значительно увеличилось, но с диспропорциями, выделением «любимчиков» в системе в целом и конкретно в вузах. Основные выгоды получают вузовские управленцы. Зарплата преподавателей не росла пропорционально возможностям. Во многих государственных вузах разница в зарплате профессора и ректора достигает 15–20 раз, а на управленческий персонал уходит столько же средств, что и на весь профессорско-преподавательский состав. В-шестых, усилилась стандартизация учебных программ, бакалавриат стал урезанным специалитетом, о плюрализме стали забывать, а до педагогики сотрудничества «руки не доходят». Вместо планомерной, повседневной, вдумчивой, содержательной работы со студентами в первую очередь — планы, описание процедур, отчетность. В-седьмых, относительная терпимость к негосударственному образованию сменилась созданием условий неблагоприятствования, которое, накладываясь на сложную демографическую ситуацию, приводит к их «схлопыванию». Через три-четыре года в стране останется несколько десятков негосударственных вузов и в ряде регионов усилится монополизм в сфере высшего образования.
Все, что перечислено выше, Министерство образования и науки в основном рассматривает и подает обществу в позитивном свете (за исключением разницы в зарплатах), как свой успех. Но почти все это квазиуспехи, потому что к реальной эффективности и к реальному качеству все происходящее не приводит. Поэтому мы и говорим о квазивысотах высшего образования. Выдающий российский философ А. А. Зиновьев называл такие явления «зияющими высотами».
Конечно, есть и реальные успехи. За десять лет примерно вдвое увеличилось государственное финансирование высшей школы, постепенно крепнет (хотя и не без противоречий и своих квазивысот) вузовская наука. Ряд вузов встали на современный, очень приличный уровень. Как действительно явный успех последних десяти лет можно назвать компьютеризацию, информатизацию, которые стали всеобщими. Наметилась и позитивная тенденция к информационной открытости вузов, которая вместе с тем не перешла в открытость учебного процесса, мобильность.
Однако отдельные ростки позитивного, идущего и от Минобрнауки, и из отдельных вузов, забивается бездумным копированием и желанием «все переделать». В России решили советское образование разрушить «до основания, а затем» копировать США: увидели бакалавриат, магистратуру, тестирование — и давай экспериментировать и насаждать. Причем делается это по хорошо известному в России принципу: «Заставь дурака креститься — он и лоб расшибет». В нашей стране это было уже много-много раз.
В знаменитой книге «Зияющие высоты», написанной в далеком 1976 г., Александр Александрович Зиновьев изобразил ситуацию с экспериментами в образовании в городе Ибанске, которая очень похожа на ту, которую мы наблюдаем сейчас в России. Учитель рассказывает: «Я покажу… два любопытных явления. Первое — лаборатория от Академии педагогики. Изыскивает новые методы обучения. Экспериментирует… Наблюдает. И каковы результаты? Блестящие. Трубят на весь мир… Ищут панацею, а ее нет. И в принципе быть не может. Может быть лишь липа, удобная для отчетов и трескотни пропаганды. Нечто вроде педагогической кукурузы».
В образовательной политике и реальной практике четко просматривается «сдвиг мотива с целей на средства». «На вопрос «Зачем?» нам отвечают: «Так надо!». На вопрос «Почему так надо?» говорят: «Мы государевы люди и поэтому лучше знаем, что делать, а вы не рассуждайте!»
Реформы в высшем образовании, а также взаимоотношение властей с основными действующими лицами в вузах строятся по известным принципам взаимодействия в городе Ибанске. Там «испытываемые руководствовались такими принципами: 1) а что поделаешь; 2) а что изменится; 3) наплевать; 4) все равно этого не избежать; 5) в конце концов пора; 6) пусть они катятся в… Испытывающие, напротив, придерживались таких принципов: 1) все равно никуда не денутся; 2) сами все выложат; 3) сами все прикончат; 4) сами во всем сознаются… Благодаря изложенным принципам удалось увеличить приток ненужной информации и сократить сроки… Как всякое хорошо задуманное и последовательно проведенное, мероприятие кончилось ничем» [2; С.30].
Ну и что изменилось в российской образовательной сфере в образовательной политике, в действиях властей? Все указанные подходы сейчас поднялись даже на гораздо большую высоту, чем в советский период. При этом старательно искореняем лучшее в советском образовании, считая его и реальных людей из той эпохи устаревшими, препятствием на пути реформ. В действиях Минобрнауки и его руководителей четко просматривается позиция: «лучше знаем, что делать» и «никуда не денутся». В поведении сотрудников и преподавателей вузов преобладает такое настроение: «что поделаешь», «наплевать», «пусть они катятся»…
Происходящие ряд лет в России кардинальные изменения можно назвать пролонгированной революцией. В ее основе смесь зарубежных заимствований с российской неумеренностью, редким умением довести все до крайности и абсурда, то есть потеря чувства меры. Она включает в себя всеобщую ЕГЭзацию и бакалавризацию (сокращение сроков обучения для существенного большинства и урезание специальных знаний), создание, во чтобы это ни стало, мегауниверситетов, резкое усиление роли и господства государственных структур, бюрократических методов и процедур, насаждение формализма, «силовых методов», «отбрасывание» мнения образовательного сообщества, пренебрежение потенциалом реальных преподавателей вузов, творческой, содержательной стороной образования. Все это ведет к крутому повороту в жизни высшей школы, подчинению ее логике чиновников, а не логике жизни и перспектив XXI века.
По существу, мы наблюдаем смену тренда в высшем образовании России. И этот тренд при всех заклинаниях о «Болонском процессе» на деле противоречит ему, а во многом даже противоположен. Потому что из «Болонского процесса» и его документов выхватываются и насаждаются отдельные элементы, и при этом наблюдается пренебрежение его сутью. «Сверху» законодательно и административно отменяются «вариативность», «свобода и плюрализм», «автономность образовательных учреждений», провозглашенные в действовавшем до сентября 2013 г. Законе «Об образовании».
В новом Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», принятом в декабре 2012 г., урезаны, если совсем не обрезаны, автономия образовательных организаций, права и свободы педагогических работников. «Демократический характер управления образованием», «недопустимость ограничения или устранения конкуренции», как и многие другие требования современного образования, лишь декларируются и механизм их реализации никак не прописан. Но зато максимально в новом законе прописаны надзор, контроль Министерства и его структур, их права, а также необходимость огромного объема отчетности. Образовательные власти идут по пути установления полного контроля над вузами: через финансирование, назначение ректоров, жесткие стандарты на содержание обучения, жесткие правила приема в вузы, пренебрежение мнением образовательного сообщества, принуждение к единообразию, полное подчинение и бездумье.
Образовательное сообщество начиная с уровня вузов, регионов и до страны в целом лишено возможности реально оказывать влияние на процесс принятия государственных решений в сфере образования. Это отчетливо проявляется при разработке и приеме изменений в законодательство. Автору довелось многократно и активно участвовать в обсуждении проектов (их было несколько) Закона «Об образовании в Российской Федерации». Во время обсуждения их в Думе и Совете Федерации подавляющим большинством участников высказывалось много разумных критических замечаний и дельных предложений. Представители Минобрнауки их слушали и почти ничего не использовали. Так же было и на официальных заседаниях Думы. В результате принят закон, удобный чиновникам и в их интересах.
Современный тренд, который закрепил новый Закон «Об образовании в Российской Федерации», — это тоталитарный подход к образованию. Тотально всех под ЕГЭ, тотально всех под бакалавриат, тотально всех под единые образовательные стандарты («всех под одну гребенку»). А в стандартах закладываются структура учебного процесса и его содержание (какие предметы, какие темы, сколько часов и т. д.). В высшей школе под флагом реформ утверждаются принципы единообразия и подчинения. Никакой вариативности. Сплошное однообразие. Это прямо противоречит прогрессивным мировым тенденциям. ЮНЕСКО не раз подчеркивала необходимость вариативности, плюрализма, автономности в высшей школе.
Нынешние революционные изменения в высшем образовании не дадут необходимого и возможного движения с вектором вверх. Потому что задуманные на основе предложенного англо-американского опыта «вверху» реформы — не продуманные, формальные, подражательские, технократичные, удобные бюрократии. Они не учитывают сложной сути объекта и его субъектов. Потому что через колено ломается все образовательное сообщество. Образовательные власти не хотят считаться с основным его мнением. Но и само образовательное сообщество, ощущая грубое и упрямое принуждение, пассивно сопротивляется, не хочет слышать власти, поскольку значительную часть их решений в сфере образования просто не приемлет.
Мы наблюдаем нечто похожее на «забастовку по-итальянски». Если добросовестно выполнять все нынешние требования Минобрнауки, то на собственно образование как таковое, действительное, а не формальное повышение эффективности и качества времени, сил и ресурсов остается мало. Заполнение форм, таблиц, планов, составление отчетов и т. д. «съедают» массу времени, и становится не до студентов.
Вектор движения в образовании властями выбран. Он, с нашей точки зрения, ошибочен. Но пока его можно еще изменить. Сейчас можно еще направить реформы образования в оптимальное русло, опираясь на образовательное сообщество, а не ломая его через колено. «Переломы», «разломы», «революции» высшей школы не способны ее оздоровить, модернизировать, вывести на траекторию обновления и устойчивого развития, набора нового качества, а могут лишь усугубить прежние проблемы и создать новые, довести всю систему высшего образования до инвалидности. Мы говорим о системе высшего образования, а не об отдельных вузах, которые имеют привилегии.
Российское образование измордовано бесконечными реформами и засыпано лавиной нововведений. Его лечение оказывается хуже болезни. Это происходит хотя бы потому, что подлинные болезни и их причины загоняются внутрь, их просто некогда лечить, надо демонстрировать активность... Все усилия направляются на борьбу с тем, с чем легче бороться и проще отчитаться. Власти напрочь, с ходу отбрасывают любые критические аргументы по данному вопросу, даже не задумываясь об их сути. «Зачем думать? Надо трясти». И трясут, трясут, трясут. Заставляют замолчать думающих критиков.
Реальные позитивные изменения в образовании преимущественно носили и носят эволюционный характер и требуют перспективного подхода, глубокого осмысления, десятикратного отмеривания, просчета всех последствий, долгосрочных мер. Образование не терпит суеты. Чтобы достичь успеха в преобразовании высшего образования, нужна не его тряска с позиции желания получить некие быстрые результаты, а вдумчивая повседневная работа всех субъектов, понимающих, принимающих и сознательно реализующих необходимые установки, цели и задачи.
Реформаторский порыв, желания российских властей, образовательного сообщества и граждан в области высшего образования, по крайней мере, в лозунгах ныне в целом совпадают и формулируются в самом общем виде так: «доступность — качество — эффективность». Кто против? Все за!!! Но дальше встают вопросы: «Что делать?», «Как?», «За счет чего?», «Кто?», «Что понимать под доступностью, качеством, эффективностью?» И здесь уже согласия нет. А по многим вопросам мнения даже прямо противоположны. Власти в основном гнут свою линию, которая далеко не во всем соответствует реализации основных целей, научному подходу и здравому смыслу. Сплошные «эксцессы исполнителей» от властей. Так, провозглашаемая и сегодняшняя достаточно высокая «доступность» высшего образования многим чиновникам и идеологам реформ не нравится. Они считают, что в России слишком много вузов, преподавателей и студентов. Поэтому выдвигаются идеи о «перепроизводстве специалистов с высшим образованием», ставится вопрос о целесообразности резкого сокращения вузов, и прежде всего негосударственных. От теории перешли к практике. Закрывают, сокращают, урезают.
Но цифры — упрямая вещь. Они важнее и ценнее слов, если объективно отражают и характеризуют процессы и тенденции. Что касается уровня образования в России, то цифры просто начинают вопить: «Что вы делаете? Посмотрите на нас, подумайте, прежде чем говорить и делать…» Россия в 2011 г. заняла 49-е место в мире по индексу образования… Это цифра бедствия. Она подает сигнал SOS… Ведь в 2005 г. мы были на 31м месте по доступности начального, среднего и высшего образования и на 10-м месте по доле грамотного населения в возрасте 15 лет и старше.
По индексу образования Россию уже опережают большинство наших соседей: Эстония (13-е место), Латвия (19)-е, Литва (25-е), Украина (31-е), Казахстан (35-е), Польша (37-е), Болгария (42-е место). Население даже таких экзотических стран, как Тонга и Фиджи, оказывается более образованно, чем россияне.
По охвату населения в возрасте 25–64 лет высшим образованием в 2002 г. Россия была на 6-м месте, в 2005 г. (с 7065 тыс. студентов) на 10-м, а в 2012 г. уже сползла на 13-е место (с 6074 тыс. студентов). Максимальное за всю историю количество студентов в России было в 2008 г. (7513 тыс. и 526 на 10 тыс. населения) [4; С.157].
Мы не должны ни преуменьшать, ни преувеличивать реальный уровень образованности россиян. В середине второго десятилетия XXI века мы среднеобразованная страна. Более двух третей населения страны имеют образование не выше среднего профессионального. По индексу человеческого развития в 2013 г. Россия оказалась на 55-м месте из 186 стран, а по индексу образования (средняя продолжительность 11,7) — на 49м месте (в 2007 г. была на 27–30-м месте). При этом наш показатель — 0,78, а у первой десятки от 1 до 0,92. Развитые страны должны иметь минимум 0,8. Значит, по образованию мы уже не относимся к развитым странам [4].
Общество знаний неизбежно ставит на повестку дня необходимость массового высшего образования при одновременном развитии и элитного, то есть обучения углубленного, фундаментального, более связанного с самой передовой наукой для наиболее способных. Спрос на высокое образование и квалификацию будет возрастать быстрее, чем их предложение со стороны учебных заведений. Естественно, о стопроцентной корреляции уровня образования населения и успехах в экономике, устойчивом развитии страны утверждать опрометчиво. Параллельно должны идти обновление технологий и модернизация всей экономики, увеличивающие спрос на высококвалифицированный труд, реальные действия по повышению качества высшего образования, его адекватности вызовам времени. Мировая тенденция такова: от века в век увеличивалось количество лет обучения, и общество шагало от элементарной грамотности некоторых к начальному образованию большинства, далее — к среднему образованию и в конечном счете — к широкому распространению высшего образования при его всеобщем распространении в наиболее развитых странах. Логично считать, что эта многовековая тенденция продолжится, и высшее образование станет потребностью большинства людей и общественной необходимостью. Полноценная жизнь людей в XXI веке будет требовать от них все большей и всесторонней образованности, далеко выходящей за пределы возможностей средней школы. И не рынок труда должен диктовать масштабы, разнообразие, качество и эффективность образования. Они определяются всей логикой необходимости наращивания человеческого потенциала, самореализации людей в качестве граждан, родителей, субъектов культуры, разносторонней жизни, а не только экономики.
Конечно, дело не только в количественных показателях. Сейчас много рассуждений о качестве высшего образования, и чаще всего сетуют на понижение его уровня в России. Кто, как, на основании какой информации оценивает? В этом царят вкусовщина, субъективизм и спекуляции. Все относительно. Разве это проблема только нашей страны? Многие американцы критически относятся к качеству высшего образования и перспективам его улучшения. Так, опросы, проведенные в 2012 г., показали, что 5–7% американцев считают, что существующая в США система высшего образования не в состоянии дать студентам хороших знаний. А что ждать в будущем? На этот вопрос 39% ответили пессимистически и считают, что и к 2020 г. не будет существенных позитивных перемен. Остальные уверены в существенном прогрессе в высшем образовании. При этом 75% заявляют о слишком большой стоимости обучения [7].
Качество в такой сфере, как образование, — это предмет договоренностей, так как объективных критериев просто-напросто вообще не существует. Идеальное качество как горизонт — его никто и никогда не достигнет. К нему стремятся, приближаются, а оно удаляется. Так было и будет всегда.
Сокращение вузов, преподавателей, студентов осуществляется под флагом борьбы за качество. Якобы чем меньше количество, тем выше будет качество. Однако декларируемое стремление к «качеству» входит в вопиющее противоречие с общим сокращением количества лет обучения (бакалавриат), пренебрежительным отношением к преподавателям, слабым их стимулированием, небывалой бюрократизацией вместо содержательной работы, начетничеством при проверке знаний студентов через тестирование, которое при нынешней его абсолютизации и перегибах ведет к натаскиванию старшеклассников и студентов в ущерб развитию творческих способностей и других личностных качеств. Делая упор на администрирование сверху донизу и вал бумаготворчества, реального качества образования добиться нельзя. Можно лишь получить «бумажного тигра». Провозглашаемое повышение эффективности на деле сопровождается резким увеличением финансирования управленческих структур и процедур, узким ее пониманием, когда во главу угла ставятся оценки бюрократов, поставленные по критериям и показателям «с потолка», а также удовлетворенность работодателей (которые в большинстве своем смотрят «из своего окопа» и на короткое расстояние) в ущерб более широкому контексту формирования гражданских, социальных и профессиональных компетенций.
Есть и другая крайность, когда уверены, что с качеством в традиционных и давно существующих российских вузах все хорошо, а проблемы связаны лишь с негосударственными новичками. Но разве частные вузы мешают привилегированным государственным университетам попадать в первую сотню мировых рейтингов?
Те, кто бездоказательно (а где достаточные данные, факты?) говорят о низком качестве высшего образования, вольно или невольно создают стереотип негатива, который затем превращается в аксиому и в итоге «накрывает» всю систему российской высшей школы, подрывает ее мировой престиж. Между тем нет никаких реальных, по крайней мере достаточно обоснованных, доказательств низкого и снижающегося качества российского высшего образования. Точно так же крайне мало фактов и демонстраций действительно высоких качественных результатов деятельности отечественных вузов. Есть лишь мнения отдельных лиц. Однако по косвенным данным можно утверждать, что российское высшее образование ничуть не ниже среднемирового уровня и вряд ли уступит уровню подготовки в подавляющем большинстве вузов США (если исключить там небольшое число университетов, имеющих многомиллиардные долларовые бюджеты) и других развитых стран. А места в рейтингах? Да многие зарубежные вузы занимают в рейтингах высокие места благодаря искусственной «накачке» показателей (известен китайский подход), да и гигантскому по сравнению с Россией финансированию в университетах США и некоторых других странах.
Видимо, при определении стратегии высшего образования, в «верхах» сделан выбор в пользу качества элитарного сегмента. Это видно как из уже предпринимаемых действий Минобрнауки, так и из планов на будущее в виде «дорожной карты» до 2018 г., лейтмотивом которой является сокращение… сокращение… сокращение, которое выдается за повышение эффективности и качества. Многие думающие авторы отмечают, что это как в спорте: развивать массовость, чтобы многие были здоровее, или сосредоточиваться на тех, кто будет демонстрировать лучшие достижения для престижа страны, поскольку последнее легче, проще и быстрее виден результат, то на этом варианте в России и останавливаются. Наверное, в высшем образовании мы пойдем по пути отечественного футбола: массовое конкурентоспособное образование забудем; сначала будем покупать зарубежных ученых и преподавателей, а затем и студентов, которые нам обеспечат хорошие показатели.
Наши образовательные власти очередной раз впадают в крайность. Ведь, если смотреть с позиции интересов страны, ее перспектив в XXI веке, то нам нужно качественное высшее образование критической массы специалистов, повышение человеческого потенциала всей нации, а не только избранных. Иначе возрастают риски для перспектив устойчивого развития, политической стабильности, духовно-нравственного состояния общества.
Элиту нужно образовывать, создавать условия для ее формирования и развития. Но если эти процессы носят искусственный характер и они идут в противофазе с образованием подавляющего большинства, то это неизбежно приводит к однобокому развитию самих элит, их противопоставлению себя обществу, нарастанию разрыва с основной массой населения. Разрыв в качестве элитарного и массового образования — это вернейший путь к одностороннему развитию экономики, к социальному взрыву и политической нестабильности [1].
Проблемы качества высшего образования остро стоят во всем мире, в том числе и в России, поскольку необходим принципиально новый его уровень. И связаны эти проблемы преимущественно с финансами, кадрами и содержанием образования, но еще больше с актуальностью поиска новых подходов. Прежде всего есть необходимость обновления адекватно вызовам времени самих парадигм высшего образования. Иначе говоря, главная проблема качества высшего образования, неудовлетворенности им во всех странах мира — это обостряющийся дефицит интеллектуального потенциала, сильных и разумных идей, способных поднять его на уровень XXI века .
Список литературы «Зияющие высоты» российского высшего образования
- Алексеенко В. А. Система управления качеством образовательной деятельности вузов Российской Федерации: содержание, моделирование, оптимизация (социально-философский анализ). М., 2008.
- Зиновьев А. А. Собрание сочинений. М., 2001. Том 1. С. 30.
- Ильинский И. М. Прошлое в настоящем. М., 2011. С. 743.
- Индекс человеческого развития в странах мира 2013 года. М., 2013.
- Плаксий С.И. Высшее образование: вызовы и ответы. М., 2014. С. 3-52.
- Россия в цифрах. 2013. Краткий стат. сб./Росстат. М., 2013. С. 157.
- Флеганов Л. Будущее высшего образования по-американски. Web in Learnibg//Blog spot.ru