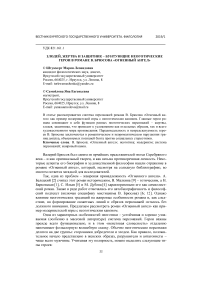Злодей, жертва и защитник - бунтующие неоготические герои в романе В. Брюсова "Огненный ангел"
Автор: Штуккерт Мария Леонидовна, Самойлова Яна Евгеньевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается система персонажей романа В. Брюсова «Огненный ангел» как пример модернистской игры с неоготическим каноном. Главные герои романа совмещают в себе функции разных неоготических персонажей - жертвы, злодея, защитника, что приводит к усложнению как отдельных образов, так и всего художественного мира произведения. Парадоксальность и непредсказуемость героев В. Брюсова заключаются в романтическом и неоромантическом нарушении границ амплуа, объясняемых позицией бунта против социальных стереотипов
В. Брюсов, огненный ангел, неоготика, модернизм, система персонажей, жанровый канон
Короткий адрес: https://sciup.org/148317727
IDR: 148317727 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Злодей, жертва и защитник - бунтующие неоготические герои в романе В. Брюсова "Огненный ангел"
Валерий Брюсов был одним из ярчайших представителей эпохи Серебряного века – и как оригинальный творец, и как весьма противоречивая личность. Некоторые аспекты его биографии и художественной философии нашли отражение в романе «Огненный ангел», который, несмотря на солидную библиографию, во многом остается загадкой для исследователей.
Так, одна из проблем – жанровая принадлежность «Огненного ангела». А. Белецкий [2] считал этот роман историческим, В. Малкина [9] – готическим, а Н. Барковская [1], С. Ильев [5] и М. Дубова [4] характеризовали его как символистский роман. Также в ряде работ отмечались его автобиографичность и философский подтекст (включая специфику мистицизма В. Брюсова) [6; 12]. Однако влияние неоготических традиций на жанровые особенности романа и, как следствие, на формирование сюжетных линий и образов персонажей осталось без должного внимания. Предлагаем рассмотреть роман «Огненный ангел» как пример модернистской игры с неоготическим каноном.
Одна из характерных особенностей неоготики – устойчивая и хорошо узнаваемая (особенно в массовой литературе) система персонажей. Герои важны прежде всего функционально, и в этом «неистовая словесность» отдаленно напоминает фольклорную волшебную сказку. Обычно неоготические персонажи делятся на две группы: сторонники добродетели и злодеи. Как правило, положительное начало представлено в женских образах, разрушители и антагонисты – чаще всего мужчины. Учитывая эту полярность, можно выделить следующие типы героев:
-
1. Жертва. Поскольку читатель обычно видит все события от лица жертвы, то она наделяется богатым воображением и чувствительностью, вследствие чего образ обладает богатыми возможностями суггестии. Традиционно в этой роли выступает одинокая и беззащитная девушка, являющаяся воплощением всех женских добродетелей.
-
2. Злодей. Коварные замыслы, роковые страсти, ужасающая порочность и таинственное прошлое – благодаря этой бурной смеси демонический злодей выходит на первый план и занимает активную позицию в сюжете, в то время как положительные герои, чьи характеры вылеплены по канонам, доставшимся еще от просветительской прозы, блекнут рядом с ним.
-
3. Защитник. Еще одним ключевым персонажем является защитник, оберегающий девушку от притязаний демонического злодея. Этот благородный, добродетельный и мужественный герой, как правило, лишенный дружественной и/или родственной поддержки, противостоит своенравному, безнравственному и жестокому тирану.
Главные герои романа Брюсова – Рупрехт и Рената – представлены, как кажется, сначала, в традиционных неоготических образах: девушка-жертва и герой-защитник. В таком виде система персонажей неустойчива: жертве и защитнику для полноценного раскрытия необходимо зло. Однако этот полюс в романе изначально определен размыто: речь идет о неких темных силах, с которыми сталкивается Рената и от которых ее должен спасти Рупрехт. По мере развития действия антагонист уточняется, однако так и не формируется окончательно в отдельный самостоятельный образ. Это приводит к парадоксальным сочетаниям: жертва Рената становится одновременно антагонистом, выполняя функции «роковой женщины», а Рупрехт превращается в героя-жертву, параллельно совершая ряд злодейств.
Будучи «роковой женщиной» ∗ , Рената обладает такими характерными чертами, как: 1) непреодолимая притягательность; 2) использование собственной привлекательности как оружия для управления мужчинами; 3) неприятие традиционных ценностей; 4) превалирование собственных интересов над интересами других людей. Жизнь Ренаты, как и жизнь большинства «роковых женщин», полна драматических поворотов и заканчивается трагически.
Нередко в неоготике «роковые женщины» наделялись мистическими способностями. Например, в новелле Джозефа Шеридана Ле Фаню «Кармилла» (1872) Кармилла выступает в образе кровожадного вампира [7], а в романе Мэтью Грегори Льюиса «Амбросио, или Монах» (1796) Матильда является коварным суккубом, толкнувшим Амбросио на греховный путь [8].
Рената не является исключением, однако ее сверхъестественная сущность постоянно подвергается сомнению – появляется версия, что Рената на самом деле больна: «Теперь мы знаем, что существует особая болезнь, которую нельзя признать помешательством, но которая близка к нему и может быть названа старым именем – меланхолия» [3, с. 649]. При этом она сохраняет ряд черт добро-
∗ Подробнее образ «роковой женщины» разбирается в работах Е. Д. Новиковой [10] и О. О. Хлопониной [13].
детельной жертвы: 1) отчаянно сопротивляется попыткам Рупрехта склонить ее к греховной близости: «Я так сжимал ее пальцы, что они хрустели, а она била и царапала меня ожесточённо» [3, с. 580]; 2) пытается отговорить Рупрехта от продажи души Дьяволу: «Если есть в тебе хотя капля колебания, оставь это предприятие: я отказываюсь от своих просьб и возвращаю тебе твои клятвы»; однако она же подталкивала Рупрехта к этой сделке [3, с. 609]; 3) осознает свою вину, испытывает раскаяние и поэтому запрещает Рупрехту убивать графа Генриха: «Я перед ним виновата, - не он предо мною. Я была как лезвие, перерезавшее все его надежды» [3, с. 679].
Иными словами, образ Ренаты крайне противоречив: выполняя функции дьявола, соблазнителя, она одновременно заставляет Рупрехта помнить о чистоте любви и самоотречения; она является движущей силой сюжета, поскольку в действительности угроза исходит не от Дьявола-Мадиэля, а от нее самой. Ее страстность и непоколебимость несут угрозу не только для Рупрехта, чьей жизнью и душой она пренебрегает ради своих интересов, но и для самой Ренаты.
Можно прийти к выводу, что, будучи носительницей дьявольского начала, она оказывает непреодолимое влияние на Рупрехта. На противоестественность их взаимоотношений указывают рассуждения Рупрехта о собственном поведении после долгой разлуки с Ренатой: «Пересматривая, не без краски стыда на щеках, свою жизнь с Ренатою, находил я теперь своё поведение смешным и глупым и негодовал на себя, что так рабски подчинялся причудам дамы, о которой даже не знал с точностью, кто она и имеет ли право на внимание» [3, с. 660]. В результате герой начинает чувствовать свою беззащитность перед происходящими событиями, а также страдать от изменений в психике, проявляющихся в его мироощущении: «… словно пьяный, для которого мир шатается, как палуба каравеллы» [3, с. 588]. Таким образом, Рупрехт постепенно принимает на себя роль жертвы Ренаты, при этом продолжая оберегать ее. Несмотря на вмешательство инфернальных сущностей и периодическое ощущение собственного бессилия, Рупрехт верен истинной любви. Он остается рыцарем Ренаты до самого конца, пытаясь спасти ее, даже если она против этого: «Бог и совесть приказывают мне вывести тебя отсюда» [3, с. 797].
Однако под влиянием дьявольского начала Ренаты Рупрехт совершает действия, которые нельзя назвать каноничными для рыцаря. Так, он оказался склонен к насилию, совершая попытки принудить возлюбленную к близости: «Снова я охватил ее, и мы начали бороться, очень безобразно» [10, с. 580]. Интересно, что перед нападением на Ренату он испытывает ощущение «измененного сознания»: «Я от этих мыслей стал будто пьяный и, неожиданно схватив Ренату за плечи…» [3, с. 580]. А. А. Полякова отмечает, что подобное состояние характерно для героев, находящихся под влиянием иррациональных сил [11], поэтому мы склоны расценивать поведение Рупрехта как результат влияния дьявольского начала, заключенного в Ренате.
Нарушая границы, четко определенные неоготикой, В. Брюсов в пространстве модернистской игры совмещает в одном образе противоположные начала (жертва-злодей Рената, защитник-жертва-злодей Рупрехт), что привело к усложнению персонажей, открытию их психологической глубины. Искусственное с точки зрения неоготического канона расширение функций главных героев дает широкие возможности демонстрации парадоксальности персонажей, силы их внутреннего конфликта. При этом герои оказываются более свободными в художественном пространстве романа, выходя из-под влияния жанрового канона, словно бунтуя против него. Так, Рената совершает действия, немыслимые для традиционной неоготической жертвы: преследование мужчины, занятия магией, любовная связь вне брака и т. д. Она словно «заражает» этой свободой разрушения своего героя-защитника, поэтому он теряет непогрешимую нравственность и благородство.
Такой ход отчасти объясним присутствием автобиографических элементов, однако в данном случае вряд ли речь идет только о банальном любовном треугольнике. Готическая и неоготическая литература традиционно подчеркивает иррациональность и непознаваемость мира, хаос которого стягивается сеткой привычных персонажей и сюжетных линий. Конфликт решается благодаря четкому отыгрыванию ролей, в том числе и гендерных. В. Брюсов подчеркивает парадоксальность и непредсказуемость героев, романтически нарушающих границы, неоромантически «выламывающихся» из предписанных каноном амплуа, реалистически бунтующих против социальных стереотипов. Можно предположить, что «Огненный ангел» продолжил иную традицию – традицию настойчивого поиска свободы через разрушение, заложенную еще романтиками, впервые начавшими играть с готическим страхом иррационального.
Список литературы Злодей, жертва и защитник - бунтующие неоготические герои в романе В. Брюсова "Огненный ангел"
- Барковская Н. В. Поэтика символистского романа. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та., 1996. – 462 с.
- Белецкий А. Первый исторический роман В. Я. Брюсова // Брюсов В. Я. Огненный ангел / сост., вступ. ст., коммент. С. П. Ильева. – Москва: Высш. шк, 1993. – С. 380– 420.
- Брюсов В. Огненный ангел: Роман, повести, рассказы. – Санкт-Петербург: Северо-Запад, 1993. – С. 547–873.
- Дубова М. А. Стилевой феномен символистского романа в контексте культуры Серебряного века: дис. … д-ра филол. наук. – Москва, 2005 [Электронный ресурс]. URL: http://cheloveknauka.com/stilevoy-fenomen-simvolistskogo-romana-v-kontekste-kultury- serebryanogo-veka (дата обращения: 07.04.2019).
- Ильев С. П. Русский символистский роман. Аспекты поэтики. – Киев: Лыбидь, 1991. – 172 с.
- Кантор В. К. Магическая провокация: «Огненный ангел» Брюсова в контексте Серебряного века [Электронный ресурс] // Челябинский гуманитарий. – 2011. – №3(16). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/magicheskaya-provokatsiya-ognennyy-angel-bryusova-v- kontekste-serebryanogo-veka (дата обращения: 06.03.2019).
- Ле Фаню Д. Ш. Кармилла. – Москва: Рипол-Классик, 2017. – 208 с.
- Льюис М. Г. Монах. – Москва: Азбука, 2011. – 448 с.
- Малкина В. Я. Готическая традиция и исторический роман («Огненный ангел» В. Я. Брюсова) // Готическая традиция в русской литературе. – Москва: РГГУ, 2008. – С. 250–266.
- Новикова Е. Д. Страх и желание: образ «роковой женщины» в фильмах-нуар 40-х и начала 50-х годов // Артикульт. 2015. № 17(1). С. 45–54.
- Полякова А. А. Комплекс мотивов готического романа в сюжетной структуре русской повести [Электронный ресурс] // Новый филологический вестник. – 2006. – № 3.
- URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kompleks-motivov-goticheskogo-romana-v-syuzhetnoy- strukture-russkoy-povesti (дата обращения: 17.04.2017).
- Титкова Н. Е., Лобова О. Л. Роман В. Я. Брюсова «Огненный ангел» в контексте мистического реализма [Электронный ресурс] // Молодой ученый. – 2014. – № 21.1. – С. 25–28. URL https://moluch.ru/archive/80/13769/ (дата обращения: 06.03.2019).
- Хлопонина О. О. Женский мир в русской культуре рубежа XIX–XX вв.: типологические характеристики и художественная репрезентация [Электронный ресурс] // Вестник Вятск. гос. ун-та. – 2014. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zhenskiy-mir-v- russkoy-kulture-rubezha-xix-xx-vv-tipologicheskie-harakteristiki-i-hudozhestvennaya- reprezentatsiya / (дата обращения: 07.03.2019).