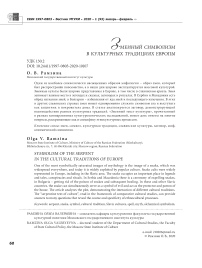Змеиный символизм в культурных традициях Европы
Автор: Рамзина Ольга Валерьевна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 1 (93), 2020 года.
Бесплатный доступ
Один из наиболее символически насыщенных образов мифологии - образ змеи, который был распространён повсеместно, а в наши дни широко эксплуатируется массовой культурой. Змеиные культы были широко представлены в Европе, в том числе в славянском ареале. Змея занимает важное место в легендах и сказках, заговорах и ритуалах. В Сербии и Македонии есть обряд изгнания змей, в Болгарии - избавления от яда змей и последующего излечения. В этих и других славянских странах змея может одновременно служить символом зла и выступать как защитник и покровитель дома. В статье анализируется заговор, демонстрирующий взаимодействие разных культурных традиций. «Змеиный текст культуры», прочитанный в рамках компаративных культурологических исследований, может дать ответы на многие вопросы, раскрывающие ход и специфику этнокультурных процессов.
Змея, символ, культурная традиция, славянские культуры, заговор, миф, алхимический символизм
Короткий адрес: https://sciup.org/144161346
IDR: 144161346 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24411/1997-0803-2020-10107
Текст научной статьи Змеиный символизм в культурных традициях Европы
РАМЗИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА – соискатель кафедры культурологии факультета государственной культурной политики Московского государственного института культуры
RAMZINA OLGA VALERYEVNA – doctoral student of the Department of Cultural Studies, the Faculty of State Cultural Policy, the Moscow State Institute of Culture
Проблема понимания культурной специфики путём пристального рассмотрения мифологического символизма и образности, равно как и сходства / различия сюжетов, присутствующих в устных и письменных традициях, обрядах и ритуалах, в современной культурологии чрезвычайно актуальна по множеству самых разных причин. В условиях стремительно глобализирующегося мира и нарастающих темпов поступления и поглощения информации одной из таких причин становится сложность понимания содержания символов, текстов, ритуалов, культурных нарративов, что ещё не так давно не вызывало особых затруднений. Причём очень часто такое отсутствие содержательного понимания свойственно самим носителям, пользователям этих символов и текстов, применяющим их практически бессознательно в рамках моды, общей тенденции, этнополитического тренда и т.п.
С. Н. Зенкин отмечает, что «релевантность смыслов, извлекаемых интерпретатором из текста и вообще социокультурного материала, оказалась важнейшей проблемой эпистемологии гуманитарных наук в XX веке» [4, с. 220]. Уже достаточно давно стало ясно, что применительно к семантике древних (и не очень) культур механистическая расшифровка смыслов и значений «по словарю» не работает. При таком подходе содержание символов и мифологических сюжетов, легенд и поговорок, дошедших до нас из глубины веков, в лучшем случае трактуется на уровне гороскопов или поточной голливудской кинопродукции, в худшем – значения придаются произвольно или почти произвольно, в соответствии с той целью, к которой их желает «подвер- стать» толкователь. Простенький текст типа «змея – символ коварства, кролик – символ плодородия», размещённый в Интернете, становится вирусным за счёт бесчисленных перепостов, плодя бесконечные ситуации недопонимания и непонимания, осложняющие и засоряющие коммуникацию на всех уровнях. (Как в своё время сказал Мишель де Серто, «анализ образов, распространяемых телевидением … должен быть дополнен изучением того, что потребитель культуры изготавливает … при помощи этих образов» [9, с. 41].)
Но возможна ли в полной мере структурированная, сколь либо полная и адекватная трактовка образных систем разных культур? Нам кажется, что в рамках культурологии как науки синтетической, междисциплинарной, учитывающей и обобщающей опыт множества исследовательских стратегий и подходов, возможны пути, позволяющие если и не установить истину, то, по крайней мере, подойти к ней близко, сконструировать модель той картины мира, где традиции и образы существуют не отдельно (замкнутыми внутри некой «клетки» сложившихся представлений), а взаимодействуют сложнейшим образом. И в оставшемся нам наследии кроются ключи, позволяющие «прочитать» коллизии этого взаимодействия.
Одним из таких сложных, символически насыщенных образов является образ змеи (дракона, змея) и змееподобных существ, распространённый в мифологиях мира повсеместно. Достаточно сказать, что дракон – один из самых древних и влиятельных символов в культурах мира. Об этом говорит его практически сплош- ное евразийское распространение, соответствующие образы были в Древнем Египте, в Шумере, в мифологии, искусстве и фольклоре многих народов Востока и Запада [см. об этом: 5; 11; 12], из этого же ряда и русский Змей-Горыныч. Однако, несмотря на столь широкую представленность образа, принято считать, что восприятие и толкование этого образа в культурах Европы и стран Востока кардинальным образом отличается. Ю. М. Лотман, обращая внимание на подобные отличия, писал: «Такие особенности, как материковое расположение (в центре, на побережье) данной культурной ойкумены, место на военно-политической карте эпохи или же в религиозном пространстве греха и святости, задают как бы “географическую судьбу” культуры, некие константные мифы ... Таким образом, являясь описанием самого стабильного, казалось бы, закреплённого в своей неподвижности фактора нашей ойкумены, география наиболее чутко реагирует и на самые различные аспекты социально-культурной истории» [6, с. 744].
Однако на самом деле ситуация с набором значений змеиного символизма в различных культурах гораздо сложнее и интереснее, она зависит не только от причин, кажущихся очевидными, но и от множества факторов и нюансов, отнюдь не лежащих на поверхности. Сравнительный анализ показывает, что в качестве символа змея (дракон) практически во всех мифологиях связана с землёй и водой, мудростью, смертью, злом, но также очень часто – и с плодородием, воздухом, огнём или светом, властью и могуществом. Недаром хтонический первородный Змей нередко разделяется на две части: небо и землю, впоследствии противопоставляемые друг другу. Таким образом, этот символ изначально тяготеет к роли медиатора, соединяя верх и низ, выступая в роли связующего звена между ними, но не сливаясь полностью ни с одной из сторон. Можно допустить, что на семантику змеиных образов повлияло визуальное сходство молний, рек, движения воды с формами и движением змеи. Не случайно в китайской культуре постоянно подчёркивается свойство дракона «то сжиматься, то вытягиваться, то скрываться, то появляться и не иметь постоянного обличья» [цит. по: 7, с. 135].
Постепенно сформировался устойчивый, но подвижный архетип, который ситуативно как в культурах Востока, так и в культурах Запада мог наполняться конкретным смысловым содержанием, включающим в себя различные, порой конфликтующие между собой, на первый взгляд, элементы.
В частности, знаменитый оракул храма Аполлона в Дельфах, воздвигнутого, по преданию, на месте убийства Аполлоном змея Пифона, существовал там и до храма, будучи собственностью матери Пифона – Геи. И именно Пифон давал ответы, служа посредником между вопрошающими и оракулом. Как хтоническое чудовище, противопоставленное свету – Аполлону, Пифон в первом значении символизирует побеждённую тьму. Но, если иметь в виду сакральную посредническую функцию Пифона, о которой сказано выше, а также то, что в посмер-тии чудовище становится как бы неотъемлемой частью жертвенника, то не трудно провести параллель между этой тьмой и архаической «тёмной» древностью народов доаполлинических, поклонявшихся Пифону в его сакральной ипостаси и навеки «привязанных» к его памяти, костям и шкуре, что, собственно, и усиливает священный ужас и значимость места. Здесь же можно вспомнить и то, что всячески почитаемые змеи священной рощи Аполлона в Эпире считались потомками Пифона.
Вопреки поверхностным суждениям, в античных источниках мы можем найти самые разнообразные представления о змеях, в том числе и с положительными аспектами этого образа. Так, змеи могут быть семиотическими спутниками различных божеств (таких, например, как римские Лары), выражающими определённые функции и возможности патрона. Очень часто они выступают в качестве хранителей домашнего очага. Нередко змеи упоминаются в связи с прорицанием, исцелением, передачей важных знаний. Гностики-офиты, например, изображали архангела Рафаила, в число функций которого входит и целительство, в виде змеи (дракона). В местах, облюбованных змеями, практически всегда произрастают лекарственные травы.
Древние змеиные культы были широко распространены и в славянском ареале. Их следы на современном этапе вполне успешно сохраняются в различных традициях и обычаях и даже реконструируются, но зачастую истинные смыслы этих обычаев целиком или частично утрачены. Змеиные мотивы характерны для множества легенд, народных песен, сказок и пословиц. Существует целый ряд заклинаний против змей, а также различные ритуалы, которые проводятся с этой целью. Реальная змея опасна и в большинстве случаев воспринимается как недобрая примета, символ зла, поскольку приносит зло, и нужно найти способы защиты от него. С другой стороны, в качестве противоположной крайности здесь встречаются образы змеи с целым рядом положительных коннотаций, и именно она обладает магической силой.
Для защиты от змей, их изгнания, а также для лечения укуса змеи применялись магические обряды и заклинания. Например, в Сербии и Македонии основные обряды изгнания змей привязаны ко дню святого пророка Иеремии (1 мая). На этот праздник принято устраивать шум и грохот, бить железными предметами по очагам, бить глиняную посуду по всему дому, произнося возле всех дымоходов, щелей и отверстий заклинание: «Бегите змии, вот идет Иеремия» (Македония), «Иеремия – в поле, змея – в море» (Сербия) и т.п. Следует отметить, что в обряде прослеживается прямая связь с двумя эпизодами жития святого Иеремии, которые в народной мифологии слились воедино, придав образу пророка черты повелителя змей. Это его пророчество Иерусалиму в долине Тофет, где святой в подтверждение своих слов разбивает глиняный кувшин, и успешное истребление с помощью молитвы аспидов и крокодилов в египетском городе Тафнисе [см.: 3, с. 22, 35].
О двойственном характере отношения к змеям в подобные праздники упоминает Т. А. Агапкина: «С одной стороны, их активно изгоняли за пределы культурного пространства … с другой – преклонялись перед ними и опасались нанести им вред» [1, с. 118]. В некоторых местах считается, что в день Иеремии (только раз в год) выходит в человеческий мир змеиный царь. В этот день запрещены все работы, сопоставимые с формами, характером движения змей и прочими их особенностями и признаками. Нельзя выполнять плотницкие работы, связанные с измерительными процедурами, под запретом вся пронималь-ная символика: женщины не должны шить, вязать, прясть, а также рвать, резать, волочить что-либо по земле; это запрещено повсюду, где можно встретить змей. Принято изготавливать и обжигать земляные подни-цы – формы из глины, в которых пекут, как считается, самый вкусный хлеб. Это связано с некоторыми верованиями, согласно которым змеи связаны с землёй и сотворены из неё. Считалось, что изготовление подниц предохранит от змеиных укусов, а женщин – ещё и от похищений и браков со змеями [см.: 2, с. 199–216].
В разных регионах Болгарии можно столкнуться с диаметрально противоположным отношением к змеям в один и тот же праздник. Если на юге их принято изгонять на Благовещение, то в западной Болгарии – считают, что в этот день просыпается царица змей и раздаёт своим подчинённым указания на лето. Вместе с ней просыпаются хранительницы дома – домашарки, которых следует ублажать, чтобы в доме ничего не случилось.
Надо отметить, что змея в представлениях славянских народов могла иметь и часто имела позитивные коннотации. Во многих поверьях, как мы уже отмечали, она выступает как защитник, покровитель дома. Такая змея живёт чаще всего под порогом дома или у очага, её убийство приравнивается к преступлению и может иметь серьёзные последствия. В легендарии славянских народов змеи подобного рода часто имеют названия, отражающие их статус: стопан, змиіа чуваркуhа, кукна змиіа, наместник, домашар, had-hospodářiček и т.п.
В народной культуре славян распространены заговорные тексты и формулы, направленные на те или иные действия змей. Среди таких заговоров следует выделить как особо представляющий интерес для нашей темы текст, записанный на границе Болгарии и Македонии, который применялся для излечения людей и животных от змеиных укусов. Считалось, что с его помощью больной избавляется от яда, который должен уйти с заговорённой змеёй. Он звучит следующим образом: «Емлих меслина, меркушин депермушин, миажинушин, кафес ту-тунушин акатмур емлих елифилафин таха тиемин ашин меркуранкаф меркуран нун местахурун илан падишахън химдетит- лен хер натарафтаже» [10, с. 83]. Очевидно, что здесь мы имеем дело с особым тайным языком, в котором можно выделить турецкую и арабскую составляющие. Следует обратить внимание на суффикс «-ушин», характерный для славянских тайных языков и заговоров. Вероятно, употребление тайного языка в данном случае, причём на основе не славянской, а чужой идиомы, носит та-буистический характер. Как следствие этого заклинания болезнь должна быть излечена, уйти и не повторяться. Примерный смысл заговора следующий: «Отползёт змея и бу- дет заперта в клетке за пятьюдесятью словами и с помощью Меркурия, чтоб зараза не распространялась». Суть заключается в том, чтобы заставить болезнь следовать за уползающим царём-змеем (илан падишахън); яд должен уйти с ним, то есть отделиться от человека. Кстати, отсылающие заговоры часто встречаются в различных традициях в связи с болезнями и змеями как их носителями. В сборнике «Русские заговоры Карелии» приведён следующий текст, носящий отсылающий характер: «Червь полевой, червь дворовой, чёрной, пёстрой, миденек, подь-те к синему морю, к царю Салтану» [8, с. 92].
В тексте заговора важны слова меркушин, меркуранкаф, меркуран, отсылающие как к Меркурию (Гермесу) – быстроногому богу-душеводителю с его магическим кадуцеем, увенчанным двумя переплетёнными и обращёнными друг к другу змеями, так и к ртути как универсальному алхимическому элементу. Меркурий, подобно гаммельнскому крысолову, уводит змей и болезнь, поскольку он бог дорог и посредник между мирами, а в ипостаси Гермеса ещё и маг-повелитель змей. Ртуть же выступает как быстрый, летучий, растворяющий элемент, связанный в одном из своих символических значений с женским змеиным началом, но вместе с тем в алхимии взаимодействующий с серой (сульфуром), символизирующей огненное мужское начало. Здесь можно при желании провести параллель с тем, что на день святого Иеремии змей часто отпугивали огнём, выкуривали серой.
Подводя некий итог, можно отметить, что даже один региональный заговорный текст свидетельствует о долговременном и сложном взаимодействии культурных традиций, повлиявших на его структуру и содержание. Таким образом, нам представляется, что «змеиный текст культуры» можно рассматривать как перспективное поле для компаративных культурологических исследований.
Список литературы Змеиный символизм в культурных традициях Европы
- Агапкина Т. А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл. Москва : Индрик, 2002. 814 с.
- Бонева Т. Българската подница // Хлябът в славянската култура. София : Марин Дринов, 1997.
- Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней святого Димитрия Ростовского. Книга девятая. Май. Москва : Ковчег, 2010.
- Зенкин С. Н. Проблема релевантности смысла: Риффатер, Греймас, Барт // Работы о теории. Москва : Новое литературное обозрение, 2012.
- Копычева Т. А. Мифологическое драконоведение. Москва : Вече, 2007. 545 с.
- Лотман Ю. М. Современность между Востоком и Западом // История и типология русской культуры. Санкт-Петербург : Искусство-СПБ, 2002.
- Малявин В. В. Китай в XVI-XVII веках : Традиция и культура. Москва : Искусство, 1995. 288 с. : ил., цв. ил.
- Русские заговоры Карелии : [сборник] / Российская академия наук, Карельский научный центр, Институт языка, литературы и истории ; [сост. Т. С. Курец]. Петрозаводск : Изд-во Петрозаводского государственного университета, 2000. 274 с. : ил.
- Серто М. де Изобретение повседневности. 1. Искусство делать / [пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной]. Санкт-Петербург : Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013.
- Црвенковска Е. Заштита от зми^а и зми^ата како заштитник // Балканские чтения - 5. Посвящаются Николаю Михайловичу Бахтину. В поисках «балканского» на Балканах. Тезисы и материалы симпозиума. Москва : Институт славяноведения РАН, 1999.
- Чеснов Я. В. Дракон: метафора внешнего мира // Мифы, культы, обряды народов зарубежной Азии : [сборник статей] / АН СССР, Институт этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая ; [отв. ред. Н. Л. Жуковская]. Москва : Наука, 1986.
- Goulds C. (1886) Mythical Monsters. London: W. H. Allen. 598 p.