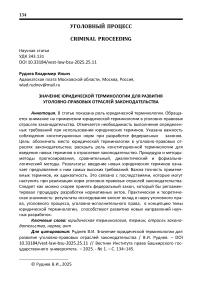Значение юридической терминологии для развития уголовно-правовых отраслей законодательства
Автор: Руднев В.И.
Журнал: Вестник Института права Башкирского государственного университета @vestnik-ip
Рубрика: Уголовный процесс
Статья в выпуске: 1 (25), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье показана роль юридической терминологии. Обращается внимание на применении юридической терминологии в уголовно-правовых отраслях законодательства. Отмечается необходимость выполнения определенных требований при использовании юридических терминов. Указана важность соблюдения конституционных норм при разработке федеральных законов.
Юридическая терминология, термин, отрасль законодательства, норма, акт
Короткий адрес: https://sciup.org/142245265
IDR: 142245265 | УДК: 343.131 | DOI: 10.33184/vest-law-bsu-2025.25.11
Текст научной статьи Значение юридической терминологии для развития уголовно-правовых отраслей законодательства
Известно, что в различных отраслях законодательства используются юридические термины. Развитие законодательства немыслимо и невозможно без их применения. Юридическая терминология является разновидностью терминологии в целом. При этом юридическая терминология складывается веками, имеет большую историю. Иные юридические термины не утратили своего значения до сих пор. Их содержание может изменяться в зависимости от обстоятельств и быть обусловлено придаваемым им смыслом, отражением происходящих жизненных и иных ситуаций, и в частности, касающихся криминализации общественно-опасных деяний. В научной литературе отмечается, что «сложившаяся на протяжении тысячелетий юридическая терминология обладает огромной устойчивостью. Это связано, в частности, с действием принципа правовой непрерывности: новые поколения людей подчинены пра- вилам, сложившимся до них, унаследованных ими. Правовая непрерывность не исключает создания новых терминов, но конституционная традиция иногда долго удерживает устаревшие, неточные и недостаточные понятия» [1, с. 21]. Бесспорно, что применение юридических терминов может иметь важное значение не только для развития законодательства, но и для других сфер. Так, Ю.Г. Арзамасов полагает, что «используя юридические термины, государство в лице своих органов власти говорит на языке права и выражает свою волю, т.е. устанавливает всевозможные запреты, возлагает на юридических и физических лиц и их объединения определенные обязанности, предоставляет возможность для реализации прав и законных интересов» [2, с.107].
При введении юридических терминов во все отрасли законодательства, включая уголовно-правовые, следует учитывать нормы Конституции Российской Федерации. В литературе обращается внимание на то, что «юридическое верховенство Конституции предполагает как общеобязательность ее нормативных положений для правовой системы Российской Федерации, так и по праву главенствующее место в сложившейся иерархии правовых актов государства. Все источники российского права должны исходить из Конституции и не противоречить ей. Законы и подзаконные нормативные правовые акты, противоречащие Конституции, должны признаваться недействующими и не иметь юридической силы» [3, с. 112–113]. Это положение, безусловно, является руководством к действию при разработке новых терминов и включении их в законодательство. Если говорить о юридических терминах, то необходимо отметить роль и значение конституционных терминов. При этом понятие «юридические термины», как представляется, является более широким, чем понятие «конституционные термины». Хотя существующие конституционные термины, как правило, содержат юридический смысл. Следует иметь в виду, что в конституционных терминах находят свое отражение права и свободы человека и гражданина. Для всех отраслей законодательства конституционная терминология имеет ведущее значение. Определяющая роль конституционно-правовых терминов связана с тем, что они, во-первых, относятся к основам существующего в стране строя, во-вторых, должны восприниматься (воспринимаются) последующим законодательством, правоприменительной практикой, правовой идеологией как образ, модель [1, с. 11]. Хотя есть немало случаев, когда при развитии той или иной отрасли законодательства нормы Конституции Российской Федерации могут не учитываться и даже игнорироваться, что является недопустимым. Вместе с тем, как отмечается в научной литературе, провести этот принцип не удается без детального урегулирования законодательством того или иного вопроса, «…сознательное умолчание законодателя не преодолевается в процессе правоприменения по объективным причинам» [4, с. 267–268]. Такова реальность происходящих в стране процессов, влияющих на развитие законодательства.
Касаясь уголовно-правовых отраслей законодательства, следует обратить внимание на необходимость соблюдения требований, предъявляемых к испол ь-зованию юридических терминов. Это обусловлено значимостью нормативноправовых актов, принимаемых в этой сфере, в частности, федеральных законов, которыми выступают Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ и другие федеральные законы. Перечисленные федеральные законы являются кодифицированными законами. В них постоянно вносятся изменения, вводятся новые юридические термины, что, безусловно, влияет на стабильность законодательства, снижает его качество, не дает возможность правоприменителю точно и правильно применять законы. К подбору и введению юридических терминов в указанные отрасли законодательства необходимо подходить с особой тщательностью. Поэтому следует поддержать мнение о том, что «использование неудачной юридической терминологии в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве приводит к крайне негативным последствиям для граждан, с одной стороны, и для государства, с другой» [5, с. 17]. Действительно, например, при введении уголовной ответственности за совершение того или иного общественно-опасного деяния, следует иметь в виду, что для этого необходимо использовать юридические термины, которые в наибольшей степени соответствуют придаваемым им смыслу и значению.
Крайне важным для уголовно-правовых отраслей законодательства является точность применения юридических терминов. При этом законодатель может неверно или неправильно оценивать смысл и значение тех или иных терминов, стремясь к тому, чтобы они были упрощены и т.д. Однако следует согласиться с мнением о том, что далеко не всегда упрощение в юридическом смысле оказывается уместным, часто оно связано со снижением уровня профессионализма, усилением декларативности текста [6, с. 227]. Это влияет на правоприменение, может приводить к ошибкам.
Между тем, из отраслевого законодательства, как представляется, не могут исключаться термины, которые соответствуют Конституции РФ. Спорным является предложение о необходимости исключения из Уголовно -процессуального кодекса РФ института предъявления обвинения [7, с. 21]. Термин «обвинение» является ключевым для уголовно-процессуального законодательства. Более того, термины «обвинение», «обвиняемый» содержатся в нескольких статьях Конституции Российской Федерации и имеют конституционно-правовой смысл. При исключении института предъявления обвинения из законодательства могут быть нарушены конституционные права граждан. Поэтому сохранение указанных терминов в уголовно-процессуальном и в других отраслях законодательства является крайне необходимым и обоснованным, и без них нельзя будет обойтись.
С другой стороны, в уголовно процессуальном законодательстве применяются термины, которые предлагается исключить в будущем, тем более что такие термины в Конституции РФ не содержатся. В частности, это относится к такому термину, как «подозреваемый». Наличие его в уголовнопроцессуальном законодательстве подвергается критике, исходя из вектора развития этой отрасли законодательства, связанного с необходимостью судебной защиты прав лиц, вовлекаемым в уголовное судопроизводство. В юридической литературе отмечается, что защита в судебном порядке прав и законных интересов лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или гражданскими ответчиками должна осуществляться не приданием им какого-то из указанных правовых статусов, а путем надлежащего правового механизма. Предоставление возможности отстаивать свои интересы не в зависимости от формального статуса, а по факту ущемления прав или ограничения свобод и законодательное расширение этого механизма неизбежно влечет за собой отмирание института подозреваемого [8, с. 122]. Поэтому термин «подозреваемый» может в дальнейшем применяться крайне редко и вовсе исчезнуть. В этой связи автором настоящей статьи еще раньше предлагалось ввести в уголовнопроцессуальное законодательство термин «задержанный» [9, с. 131], так как каждый задержанный имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента задержания. Введение такого термина станет соответствовать и правовым позициям, изложенным в Постановлении Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г., согласно которым понятие «задержанный» следует рассматривать более широко и именно с точки зрения определения его как лица, фактически подвергнутого задержанию1. Таким образом, приведение отраслевого законодательства в соответствие с нормами Конституции Российской Федерации может достигаться как путем включения в него терминов, соответствующих Конституции, так и исключением терминов, там не содержащихся.
Можно отметить, что иногда в законодательство вводятся юридические термины, которые являются непонятными для правоприменителя и для лиц, в отношении которых они используются. Как полагает Г.Т. Чернобель, «юридические термины обозначают только специальные юридические понятия и в этом смысле уникальны по своему содержанию» [10, с. 54]. Вместе с тем некоторые юридические термины менее определенны, чем, например, медицинские или технические, что в ряде случаев может способствовать их неточному употреблению. В научной литературе указано, что «всякий новый термин - в известной мере событие для определенной отрасли юридической науки и законодательства, потому что его появление, как правило, свидетельствует о таком приросте знаний о предмете и методе правового регулирования, который уже не укладывается в рамки прежних обозначений» [11, с. 65]. Появление новых терминов, в том числе юридических, может стать событием и являться отражением возникающих процессов, причем не только в юриспруденции. Однако их введение в «юридический оборот» должно быть строго обдуманным, взвешенным и не преследовать конъюнктурные цели.
Следует сказать, что юридические термины, которые могут быть введены, в частности, в уголовно-правовые отрасли законодательства, сначала могут появиться в актах разного уровня и затем постепенно войти в законы. Так, например, это относится к такому термину, как «видеокоференц-связь», который используется в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, но еще не применяется в полной мере в уголовно-процессуальном законе, хотя потребность в этом имеется. Тем более, что уже увеличивается количество процессуальных действий, которые проводятся с применением средств видеоконференцсвязи.
В уголовно-правовых отраслях законодательства могут появляться термины из других, в частности, смежных отраслей законодательства, и это не всегда происходит удачно. Так, в уголовное законодательство введен термин «организованная группа», применяющийся в криминологии. Из ч. 3 ст. 35 Уголовного кодекса РФ следует, что организованная группа — это устойчивая группа. Однако понятие «устойчивый» является весьма несовершенным и явно недостаточным для точной характеристики такого понятия, как «организова н-ная группа». Понятие «устойчивый» не применяется в юриспруденции, а используется, в частности, в строительстве, промышленности, возникает неопределенность в понимании его уголовно-правового смысла. Как отмечает П.Н. Панченко, термин «организованная группа» неудобен для использования потому, что по смыслу он охватывает собой и преступное сообщество (преступную организацию), ответственность за создание которой установлена ч. 4 ст. 35 УК РФ. Некоторые терминологические неточности имеются и в ч.3 ст.33УК РФ и т. д. [12, с. 181]. Такая неудачная конструкция уголовно-правовой нормы способствует тому, что, как показывает практика, действия лиц, совершенные в группе, иногда неправильно квалифицируются как совершенные именно организованной группой. Это приводит к вынесению незаконных, необоснованных и несправедливых приговоров по уголовным делам.
Думается, что в уголовном законодательстве в ряде случаев используются термины, введение и применение которых, как представляется, не всегда является достаточно точным, обоснованным и правильным. В этой связи следует согласиться с выводом о том, что «в современной российской законотворческой практике нет четко выверенной системы работы с терминологий законопроекта, что зачастую приводит к неопределенности и размытости формул и-руемых правовых норм, их коррупциогенности» [13, с. 35.] Это, безусловно, является большой проблемой для развития уголовно-правовых отраслей законодательства, его качества, что необходимо решить в ближайшее время. Как представляется, в таких случаях гораздо в большей степени следует учитывать требования законодательной техники применительно к терминологии.
Между тем, можно констатировать, что при введении новых терминов до сих пор не существуют определенные нормативные требования, которым они должны соответствовать. При этом в инициативном проекте федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации», подго- товленного Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, имеется статья 40, называющаяся «требования к терминологии, используемой в нормативных правовых актах». В частях 1–3 предлагаемой статьи указано, в частности, что термины, используемые в нормативных правовых актах, должны быть краткими, лексически правильно сформулированными. Каждый термин должен быть однозначным, т.е. использоваться строго в соответствии с вложенным в него смыслом. Недопустимо использование терминов в переносном или образном выражении [14, с. 46]. Поэтому необходимо, чтобы при разработке проектов нормативных правовых актов соблюдались указанные требования, что может оказаться крайне важным, но не всегда соблюдается.
Так, в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации имеют место некоторые недостатки. В частности, обращается внимание на расплывчатость и неконкретность самих норм уголовно-процессуального законодательства, перенасыщенного оценочными категориями [15, с. 4]. Из этого следует, что при развитии законодательства и употреблении юридической терминологии требуется избегать конструирования норм, содержащих оценочные признаки. Необходимы определенные усилия, направленные на качественную подготовку проектов нормативных актов, возможно, с использованием помощи специалистов в области филологии, лингвистики и из других сфер, чтобы избежать конструирования норм, содержащих оценочные понятия. Следует согласиться с высказыванием о том, что «поскольку нормы с оценочными признаками представляют наибольший простор для усмотрения применяющего право, они содержат и определенную опасность проявления субъективизма в решениях. Необходимо обратить особое внимание на те правовые гарантии, цель которых -предупредить возможность проявления субъективизма в их решениях и обеспечить их объективную правильность» [16, с. 147]. Действительно, термины, которые могут восприниматься неоднозначно, содержащие нормы с оценочными признаками, порой приводят к вынесению незаконных, необоснованных и несправедливых решений в деятельности правоохранительных органов и судов. В этой связи можно поддержать вывод о том, что «идея правовой определенности выступает в качестве принципа судейской деятельности, которая предполагает окончательность и стабильность принятого судебного решения по конкретному делу» [17, с. 63].
Безусловно, что в сфере отправления правосудия является важным правильное применение юридических терминов, содержащихся в нормах законов, реализация которых должна отражать, в частности, и независимость судей. Вместе с тем следует согласиться с выводом, что «формирование судебной системы, равно как и издание законов разного уровня и юридической силы — это необходимые, но недостаточные способы обеспечения судебной власти и судей, …законодательные положения о независимости судей могут оставать- ся лозунгами, благими пожеланиями, ибо эти законоположения, как правило, никого ни к чему не обязывают [18, с. 80]. Безусловно, что принятие законов является важным для развития судебной системы, но этого для обеспечения верховенства права явно недостаточно, и является едва ли не главной проблемой не только юриспруденции, но выходит за рамки темы настоящей статьи и требует глубоких разработок, а также огромных усилий в указанном направлении.
Разумеется, что необходимо учитывать появление в обиходе слов, которые не соответствуют юридической терминологии. Так, например, когда говорится об «антиотмывочном законодательстве», «антиотмывочных нормах», то такие термины, как известно, не содержатся ни в Конституции Российской Федерации, ни в отраслевом законодательстве. Их нельзя отнести к юридическим. Они представляют собой, по существу, юридические жаргонизмы, и думается, что они не должны иметь места в уголовно-правовых и иных отраслях законодательства и не могут использоваться.
При разработке законодательства в оборот входят иностранные юридические термины. Это связано с интеграцией государств, развитием новых технологий. В ряде случаев точность и полнота содержания нормативного правового текста не всегда могут быть выражены с помощью языковых средств отечественной правовой системы. Важно, чтобы нормоустановитель и правоприменитель применяли иноязычную терминологию в соответствии с правилами использования иноязычного лексикона в юридической практике [19, с. 149]. Постепенно вошли в обиход такие юридические термины, как «прецедент», «кассация» и т.д. Важным является оптимальное введение иностранных терминов, их адекватное восприятие. Неправильное применение таких терминов может повлечь весьма серьезные последствия.
Известно, что в настоящее время бурно развивается промышленность, возникают новые направления в науке и технике. Поэтому не исключено, что в связи с развитием научно-технического прогресса разработка и введение новых юридических терминов в дальнейшем станут невозможны без использования современных технологий, искусственного интеллекта.
Заключение. Автор приходит к выводам, что юридические термины, применяющиеся в правовых дисциплинах уголовно-правого профиля, должны быть точными и четкими. Юридический термин является стержнем, который формирует содержание нормативно-правового акта. Неправильный и неточный смысл понятий, который вкладывается в сущность юридического термина, может привести к ошибкам и к вынесению незаконных, необоснованных и несправедливых решений. Имеются многочисленные недостатки при разработке и введении терминов в отраслевое законодательство, которые приобретают юридический смысл, не отражающий сущность и цели, которые преследуют введение и применение юридического термина.
Следует повышать требования к качеству юридической терминологии. Необходима огромная работа по разработке новых и совершенствованию при- меняемых терминов, требующая системного подхода, принятия ответственных решений. Это может объединить усилия не только юристов, но и специалистов из других отраслей знаний. Такое направление развития науки можно считать перспективным.