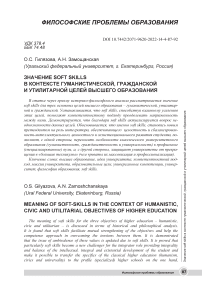Значение soft skills в контексте гуманистической, гражданской и утилитарной целей высшего образования
Автор: Гилязова Ольга Сергеевна, Замощанская Анна Николаевна
Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu
Рубрика: Философские проблемы образования
Статья в выпуске: 4 (58) т.14, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье через призму историко-философского анализа рассматривается значение soft skills для трех основных целей высшего образования - гуманистической, утилитарной и гражданской. Устанавливается, что soft skills, способствуя взаимному усилению этих целей, помогают компетентностному подходу преодолевать напряженность между ними. Демонстрируется, что благодаря soft skills актуализируется вопрос неоднозначности данных целей. Обосновывается, что именно soft skills, становясь новым претендентом на роль интегратора, обеспечивающего целостность и сбалансированность интеллектуального, ценностного и экзистенционального развития студента, позволяют, с одной стороны, переносить особенности классического университетского образования (гуманистичность, гражданственность и универсальность) в профильные (специализированные) вузы, а, с другой стороны, защищают университеты от превращения в «большие техникумы» (чем чреваты их массовизация и профессионализация).
Высшее образование, идея университета, компетентностный подход, миссия университета, образовательные цели, универсальные компетенции, университет, философия образования
Короткий адрес: https://sciup.org/142236928
IDR: 142236928 | УДК: 378.4 | DOI: 10.7442/2071-9620-2022-14-4-87-92
Текст научной статьи Значение soft skills в контексте гуманистической, гражданской и утилитарной целей высшего образования
О.С. Гилязова, А.Н. Замощанская
Концептуальному осмыслению идеи (как идеализированного восприятия цели+роли) высшего образования предстоял долгий путь. Будучи институционализированным как университетское образование в XII в., оно только к середине XIX в. (благодаря В. Гумбольдту и Дж. Ньюмену) подверглось теоретической рефлексии [8]. В XX в. дискурс «идеи университета» получил развитие в работах таких известных социологов и культурологов, как Э. Дюркгейм, М. Вебер, Х. Ортега-и-Гассет, К. Ясперс, Х. Шельский, Ю. Хабермас и т.д.
И хотя университет, по справедливости, ценится как исторический исток и организационно-содержательное основание высшего образования, но в современное время он теряет свое ведущее положение в универсуме высшего образования [12; 15]. Поэтому многие современные мыслители предпочитают рассуждать не столько о самой идее (миссии) университета, сколько об ее крахе (Ю. Хабермас), утопизме (Р.М. Хатчинс), общем кризисе (К. Керр), упадке (Б. Ридингс) или – не столь радикально и пессимистично – о необходимости ее пересмотра сообразно требованиям современной эпохи, например, в рамках моделей: «Предпринимательского университета» (Б.Р. Кларк; Г. Ицковиц), «Университета третьего поколения» (Й.Г. Виссема), «Постмодернистского университета» (Э. Смит и Ф. Вебстер), «Мыслящего университета» (Р. Барнетт), «Мультиверситета» (К. Керр).
Все это является следствием осознания того факта, что современное высшее образование не может быть конституировано только его классической (элитарной) миссией, корни которой уходят в античность. Именно античность стала родоначальницей двух ведущих целей образования, значение которых не угас- ло с течением времени: классическая Греция (Академия Платона, Лицей Аристотеля) – развитие теоретической рефлексии (знание ради знания) и интеллектуальных добродетелей; классический Рим – развитие гражданских добродетелей, необходимых для активного участия в жизни общества [13]. Их смыкание в рамках классического университета определило его дух (интеллектуализм, духовный аристократизм, внеутилита-ризм) и позволило ему стать местом для развития ума и характера [7; 8].
К.А. Сефстрём напоминает, что классический взгляд на образование восходит к идее Paideia, которая распространялась только на свободнорожденных и полноправных граждан, свободных от необходимости зарабатывать хлеб насущный. Paideia требует наличия свободного времени или schole (слово «школа» происходит от него). Отношение же к обслуживающему и производительному труду в античности было пренебрежительным, он считался уделом рабов и ремесленников [14]. Поэтому третья цель образования – утилитарная – стала уважаться (на высших уровнях образования) довольно поздно – в Новое время.
Таким образом, можно идентифицировать три основные цели высшего образования: гуманистическая – пробуждение и удовлетворение стремления к высшим знаниям и интересам (истоки – античная Греция); гражданская – подготовка «мудрых граждан» (античный Рим); утилитарная – подготовка к миру труда (Новое время). Притом наибольшее напряжение возникает именно между первой и третьей целями [11].
Компетентностный подход пытается преодолеть эту напряженность, но преимущественно за счет того, что первую скрипку играют потребности рынка труда [4; 11]. Эта напряженность отражается в отмеченной еще М. Вебером борьбе одного типа человека – «специалиста» против другого – «образованного человека», борьбе, которая до сих пор является основополагающей в дискуссиях о цели и роли высшего образования.
С XX в. идет взрывной рост и усиление значения профильных вузов, что отражает общемировую тенденцию к специализации и массовизации высшего образования. Недаром Э. Дюркгейм, понимая неизбежность и необходимость этих набирающих силу процессов, не видел в них ничего опасного, наоборот, связывал с ними возможность массового воспроизводства «нравственных специалистов», сочетающих черты «специалиста» и «образованного человека». Напротив, Х. Ортега-и-Гассет мрачно предсказывал негативные последствия доминирования «человека массы» над «аристократией духа» в работе «Восстание масс».
Как отмечают А.А. Остапенко, Д.С. Ткач и Т.А. Хагуров, в Российской империи и в советское время данный вопрос противостояния двух типов людей решался за счет бинарного деления (в России оно вводилось по лекалам германской образовательной традиции) учреждений высшего образования на классические университеты и профильные вузы [6].
С 1990-х гг. перестает соблюдаться изначальная строгость наименований разных типов вузов. Российские эксперты (например, Я.И. Кузьминов и М.М. Юдкевич) указывают, что дело не в терминологической путанице – изменились и образовательные реалии (в том числе в связи с внедрением компетентностного подхода) [5]. Это смешение разных типов вузов актуально не только для России. Так, С. Коллини замечает, что «сегодня уже слишком поздно отстаивать пуристскую точку зрения и требовать строгого употребления термина «университет»: хорошо это или плохо, но сегодня он применяется к великому множеству самых разных форм заведений высшего и среднего специального образования» [10, p. 10]. Показательно, что наименование «университет» присваивают другим типам вузов, а не наоборот. Это говорит о сохранении престижа университета и отчасти – о желании других типов вузов позаимствовать некоторые его отличительные особенности (такие, как универсальность, а также гуманистичность и гражданственность, составляющие его классическую миссию) [3; 6; 7].
Согласно В.А. Рыбину, установка на универсализацию (как «вмещения» в индивида всей полноты концентрированного коллективного опыта) – это атрибутивное свойство именно университетского образования. Данная установка реализуется через так называемую универсализирующую матрицу воспроизводства культуры, настроенной на формирование человека не в качестве узкого профессионала (что было присуще обучающим практикам (семейным, ремесленным, цеховым и т.п.) со времен разделения труда), а «в качестве универсала, владеющего основным составом теоретических и практических знаний и в силу этого способного к удержанию всей полноты коллективного опыта по ходу его дальнейшего наращивания» [7, с. 175].
Универсализация достигается не только через освоение высших знаний (т.е. обучение), но и через ценности (т.е. воспитание), а также, добавим от себя, через экзистенции (т. е. самовоспитание как высшей стадии воспитания). Однако воспитательная и самовоспитательная составляющие довольно быстро были замещены обучением и фактически выпали из универсализирующей матрицы.
Исторически существовало множество претендентов на роль интегратора, обеспечивающего целостность интеллектуального, ценностного и экзистенци-онального развития. Этими претендентами выступали религиозное образование (средневековые университеты), философский факультет (в проекте университета В. Гумбольдта), гуманитарные
Значение soft skills в контексте гуманистической, гражданской и утилитарной целей высшего образования
О.С. Гилязова, А.Н. Замощанская
науки и искусства (в либеральных колледжах Америки), марксистское учение (в вузах СССР), или предлагались: факультет культуры (Х. Ортега-и-Гассет), содержательное единство научных дисциплин (К. Ясперс), «Великие книги» (Р.М. Хатчинс).
В современную эпоху сторонники компетентностного подхода (в том числе в ЕС, ОЭСР, ЮНЕСКО) надежду на достижение универсализации возлагают на soft skills (в России – универсальные компетенции [1]), так как они отличаются надпрофессиональным, многофункциональным, сквозным характером. Они должны помочь сбалансировать матрицу универсализации, которая, по В.А. Рыбину, с Нового времени закрепилась в высшем образовании в перекошенном виде: с переразвитым звеном обучения и усеченным звеном (само)воспитания.
Благодаря soft skills в высшее образование возвращаются воспитательный и самовоспитательный (ценностный и экзистенциональный) компоненты как стремление найти и понять смысл своего жизненного предназначения. В этом отражается гуманистический потенциал soft skills, благодаря которым компетент-ностный подход отходит от своих первоначальных вариантов, когда образование сводилось к обучению, а обучение – к отработке узкопрофессиональных навыков, натаскиванию, «дрессировке». Впрочем, есть тенденция идеализировать гуманистическую цель, когда не замечают, что она, проистекая из представления о наличии некой единой человеческой природы как стабильной и устойчивой субстанции, направлена на культивирование определенного типа человека, поэтому поневоле дискриминирует тех, кто не хочет или не может соответствовать ему.
Способствуя продвижению (в том числе за пределы университетов) гуманистической цели высшего образования, soft skills заодно смягчают негативные последствия доминирования утилитарной цели. Введение soft skills (формирующих мотивацию к обучению на протя- жении жизни и умение строить гибкую профессиональную траекторию) в образовательные программы вузов – это средство, защищающее их от превращения в «большие техникумы», которые подстраиваются под краткосрочные требования работодателей.
Введение, а вернее, восстановление (с помощью soft skills) воспитательного компонента в высшее образование, актуализирует заодно и его гражданскую цель. Проблема в том, что для воспитания должен быть консенсус в обществе по основным ценностям [2]. Данный консенсус возможен только в сильном сообществе, которое, как справедливо отмечает Р. Бергман, не обязательно является хорошим, учитывая, что «фашистские и тоталитарные государства с крайним энтузиазмом относились к воспитанию характера» [9, p. 158]. Так что значение soft skills для гражданской цели высшего образования не столь однозначно: их можно использовать как для подготовки социального критика, рефлексирующего гражданина (и тогда возникает феномен интеллигента, не сводимого к интеллектуалу), так и для конформиста.
Подводя итоги, можно сказать, что soft skills, возвращая два компонента из трех (воспитание и самовоспитание) в универсализирующую матрицу, смягчают напряженность между тремя целями образования. Они демонстрируют, что подготовка студента к миру труда и его формирование в качестве «мудрого гражданина», а также возбуждение страсти к высшим знаниям и интересам, открытие, высвобождение и культивирование его человечности как человека – не противоречат друг другу и составляют триединую миссию высшего образования, включающую в себя и классическую университетскую миссию, но не ограниченною ею.
Список литературы Значение soft skills в контексте гуманистической, гражданской и утилитарной целей высшего образования
- Беликова Н.Ю., Куземина Е.Ф. К вопросу о формировании универсальных компетенций в системе высшего образования // Общество: социология, психология, педагогика. – 2022. – № 8. С. 180-185.
- Гревцева Г.Я. Проблема формирования гражданственности и патриотизма учащейся молодежи в системе высшего образования: от протестной к созидательной активности // Современная высшая школа: инновационный аспект. – 2020. – № 12 (1(47)). С. 20-29.
- Дьячкова М.А., Новгородцева А.Н., Томюк О.Н. Гуманитаризация технического университетского образования: эффективные стратегии и практики // Перспективы науки и образования. – 2020. – № 5 (47). С. 75-87.
- Ермолова В.С. Компетентностный подход в качестве ведущего при создании новой образовательной парадигмы // Мир науки, культуры, образования. – 2021. – № 1(86). С. 14-16.
- Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Университеты в России: как это работает. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. – 616 с.
- Остапенко А.А., Ткач Д.С., Хагуров Т.А. Классика универсальности или ремеслуха специализации // Образовательные технологии (г. Москва). – 2014. – № 1. С. 5-9.
- Рыбин В.А. Идея университета XXI века. Статья первая // Вестник Челябинского государственного университета. – 2009. – № 42 (180). С. 171-179.
- Шмурыгина О.В. Высшая школа в процессах общественного воспроизводства: социально-философский анализ: монография. Екатеринбург, 2020. – 147 с.
- Bergman R, Caring for the ethical ideal: Nel Noddings on moral education // Journal of Moral Education. – 2004. – 33(2). P. 149-162.
- Collini S. What Are Universities For? London: Penguin Books, 2012. – 215 p.
- Gerrard H. Skills as Trope, Skills as Target: Universities and the Uncertain Future // New Zealand Journal of Educational Studies. – 2017. – 52(4). P. 363-370.
- Mamedov A.K., Lipatova M.E., Korkiya E.D. Nuevos escenarios para la estrategia de desarrollo universitario en el espacio educativo internacional // Apuntes Universitarios. – 2021. – 11(2). P. 129-143.
- Rumayor M. John Henry Newman y su idea de la universidad en el siglo XXI // Educación XX1. – 2018. – 22(1). P. 315-333.
- Säfström C.A. Paideia and the search for freedom in the educational formation of the public of today // Journal of Philosophy of Education. – 2019. – 53(4). P. 607–618.
- Tomyuk O. et al. University Positioning in Modern World // Proceedings of the Internation Conference on ‘Humanities and Social Sciences: Novations, Problems, Prospects’ (HSSNPP 2019). – 2019. P. 641-645.