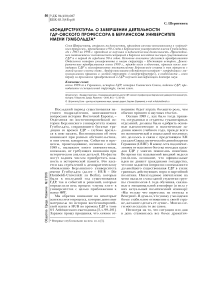"Зондерструктура". О завершении деятельности ГДР-овского профессора в Берлинском университете имени Гумбольдта
Автор: Штригнитц Соня
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Глобализация: полемика цивилизаций
Статья в выпуске: 3 (40), 2016 года.
Бесплатный доступ
Соня Штригнитц, опираясь на документы, приводит личные воспоминания о «переходных процессах», проходивших в 90-е годы в Берлинском университете имени Гумбольдта, где с 1963 по 1996 г. проходила ее научная и педагогическая деятельность. Происходившее соотносится с политической ситуацией в Берлине последних месяцев существования ГДР и в период до середины 90-х годов. Основное внимание уделяется преобразованию Отделения истории университета в новую структуру - Институт истории. Демократические преобразования осени 1989 г., прежде всего в обучении, привели после ликвидации ГДР к массированному вмешательству Берлинского сената в эти процессы с явной целью «смены элит». Автор описывает собственную историю - сотрудницы с минимальными правами в «особой структуре» («зондерструктуре»), в особенности - свою борьбу за признание приобретенной в ГДР научной квалификации доктора наук.
Весна 1989-го в германии, история гдр, история советского союза, падение гдр, преподавание в специальной структуре, смена элит
Короткий адрес: https://sciup.org/140223909
IDR: 140223909 | УДК: 94(430).087
Текст научной статьи "Зондерструктура". О завершении деятельности ГДР-овского профессора в Берлинском университете имени Гумбольдта
Штригнитц С. «Зондерструктура». О завершении деятельности ГДР-овского профессора в Берлинском университете имени Гумбольдта // Общество. Среда. Развитие. – 2016, № 3. – С. 50–56.
Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2016
Последний период существования научного подразделения, занимавшегося вопросами истории Восточной Европы, – Отделения по восточноевропейской истории Берлинского университета имени Гумбольдта, сохранявшего богатые традиции со времен ГДР – глубоко врезался в мою память. Воспоминания об этом возникают при разных обстоятельствах, и они очень конкретны. События и процессы, происходившие, начиная с осени 1989 г., вызывают много сиюминутных, возможно, не требующих внимания при историческом анализе деталей. Но факты могут задним числом приобретать важность в исторической памяти. Это касается как стремлений к демократическому обновлению Берлинского университета имени Гумбольдта (далее – HUB – Die Humboldt-Universität zu Berlin), которые были в последний год существования ГДР, так и событий и решений, которые определяли весь процесс «смены элит» в университетах с целью приближения к науке ФРГ.
Мы обратим внимание на некоторые аспекты этого процесса, которые дополнят материалы по истории восточноевропейской науки в HUB во времена ГДР в томе 8/1 Лейпцигского ежегодника [3, s. 99–101]. Заранее прощу прощения, что личное от- ношение будет играть большую роль, чем обычно принято в научных текстах.
Осенью 1989 г., как было тогда принято, сотрудники и студенты гуманитарных отделений, должны были одобрить основные идеологические и политические задания нового учебного года, прежде всего по экономической и социальной политике; это делалось в связи с предстоящим XII съездом Социалистической единой партии Германии (СЕПГ). В конце лета под впечатлением от массового бегства молодых граждан ГДР у многих появились сомнения. Во время так называемой вводной недели усилилось осознание, что официальные идеи не движут гражданами государства, что они задаются вопросом о возможности дальнейшего существования ГДР в узких границах действующих норм и партийной политики. Неизгладимое впечатление на меня оказали слова одной студентки группы стоматологов 4 года обучения, сказанные в эмоциональной атмосфере (я вела у них актуальный политический семинар): «Мы только что вернулись из отпуска в Венгрии!» Я думала, что увижу у молодежи более стабильное отношение к своей стране, желание сделать ее лучше... Мои коллеги могли сказать то же самое.
Несмотря на то, что ситуация изо дня в день становилась все более драматич- ной, на студенческих собраниях во дворе университета, в кинозале и много где еще высказывались требования демократического социализма в ГДР, и сотрудники этому открыто не противостояли – но все-таки были готовы при необходимости вмешаться (согласно рекомендациям, данным политическим руководством университета) – вряд ли кто-нибудь мог тогда представить, что осенние дни 1989 г. предваряли последний этап существования ГДР как государства, а также – и нашего научного отделения.
Мы черпали силу и уверенность в той переломной ситуации, которая освободила значительный потенциал для демократического самообновления. Мы активно участвовали в процессах обновления нашей секции и университета в целом, среди прочего мы принимали участие в выборах руководства: назначили профессора доктора Гюнтера Розенфельда (Professor Dr. Günter Rosenfeld) и доктора Мартина Гоффманна (Dr. Martin Hoffmann) в первую комиссию по персоналу и структуре Отделения, после чего выбрали М. Гоффманна в совет директоров Отделения. Усилия были направлены в основном на обеспечение регулярности учебного процесса, разработку новых учебных планов, которые принимали в расчет глубокие изменения в Советском Союзе и в других восточноевропейских странах. Кроме того, подготавливались и разрабатывались согласно материалам предложения о новом содержания образования в области истории Восточной Европы.
В январе 1990 г. установился контакт с отделением истории Института Восточной Европы Свободного университета (Западный Берлин). В рамках «Дня университетов» 26 января 1990 г. сотрудники отделения познакомились с работой западноберлинских коллег, смогли посетить их рабочие помещения и, в первую очередь, библиотеку. Мне, в течение 30 лет ответственной за научную поддержку библиотеки отделения, за создание ее восточноевропейского фонда, бросилась в глаза некая стерильность, которая, прежде всего, проявлялась в тщательно собранных газетных подборках, среди них – переиздания периодики 20–30-х гг. Я нашла немало книг, которые в наших каталогах фигурировали как «списанные» или «потерянные». С западноберлинскими историками Восточной Европы были достигнуты (и реализованы) договоренности о совместных мероприятиях по переподготовке преподавателей истории по теме «Сталинизм и
Великая Отечественная война». В результате был запланирован совместный коллоквиум в Берлине, посвященный одному столетию восточноевропейской истории [3, s. 129–130]. 10 ноября состоялся ответный визит западноберлинских университетских историков в Берлинский университет имени Гумбольдта. И здесь вопросы преподавания были в центре внимания, беседы протекали, как и при первой встрече, в атмосфере взаимопонимания.
Заметно противоположным по духу было опубликованное 14 ноября 1990 г. мнение совета кафедры истории Свободного университета по поводу положения дел в HUB. В публикации дальнейшее сотрудничество по вопросам образования историков отклонялось в резкой форме [2, s. 19]. Высокомерно констатировался всесторонний конфликт историков с «аппаратом власти СЕПГ», требовалось организовать «независимые» персональные комиссии и «независимые профессиональные комиссии» из представителей Свободного университета, Технического университета и «свободных» сотрудников HUB, также предлагалось активное участие историков Свободного университета в подобных комиссиях. Восточноевропейская история фигурировала в документе лишь на заднем плане вновь предлагаемых научных направлений1.
Эта публикация означала не только массированное вмешательство в дела Берлинского университета имени Гумбольдта, но и проясняла, в какой взрывоопасной обстановке после присоединения ГДР к ФРГ протекали попытки обновлений в нашем университете, она добавила горьких чувств от практически одновременно начавшегося обширного вмешательства официальной политики в этот процесс. Восточному Берлину как месту науки, очевидно, не предназначалось никакой роли (момент, который показывает заметные различия с аналогичными событиями в других университетах ликвидированной ГДР).
За несколько дней до Рождества 1990 г. уже отстраненное, но еще находящееся у власти общеберлинское правительство приняло решение о ликвидации гуманитарных направлений и институтов в HUB: юриспруденции, экономики, педагогики, философии и истории [2, s. 85]. Также лишь недолго пробывший в должности восточноберлинского губернатора Тино Швирцина (Tino Schwierzina) (СДПГ) прямо обрисовал в одном из интервью «Берлинер Цайтунг» стоявший за этим замысел:
Общество
Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2016
«Действующих профессоров университета сложно уволить по одиночке. Поэтому мы хотим ликвидировать всю структуру, а потом сразу создать новую» [1; 2, s. 22]. При новом берлинском правительстве, руководимом уже Христианско-демократическим союзом, приглашенный из Баден-Вюртемберга сенатор по науке Манфред Эрхардт (Manfred Erhardt) вызвал в феврале 1991 г. из Мюнхена историка Герхарда А. Риттера (Gerhard A. Ritter) в качестве полномочного представителя по планированию и председателя «структурной и кадровой комиссии для воссоздания исторической науки в Берлинском университете имени Гумбольдта» (СКК). Собранная им комиссия – в нее входили наряду с западноберлинскими и членами из Бохума и Гёттингена два сотрудника Института исторических наук (который был создан в конце ноября 1990 г. из Отделения истории), два историка из Академии наук2, а также представитель студенчества – начала свою деятельность и решила в срочном порядке создать структурный план для направления «История», на основе которого делались затем объявления о вакансиях. «Грю-невальдская комиссия» – так ее называли сотрудники института из-за «нейтрального» места ее заседаний в элитном пригороде западного Берлина – высказала, в конце концов, в 1991 г. «предложения» о срочной и постоянной занятости. Под давлением сенатора по науке и нового западного руководства университета комиссия вскоре дополнительно представила также и «негативное решение». Открытые выборы не предполагались. На одном из собраний сотрудникам сообщили о решении комиссии о занятости с ограниченным сроком – без какого-либо обоснования. Для меня это звучало так: занятость до пенсии. Я должна была предстать перед «Грюневальдской комиссией» 29 октября 1991 г. Я уже подала в установленные сроки заявку на вакансию профессора восточноевропейской истории 4 категории (C-4-Proffessur). При разговоре с комиссией это не играло никакой роли, несмотря на то, что было известно о своевременной подаче моих документов. Пять месяцев спустя Риттер сообщил мне «с уважением» (фраза из подписи в письме), что меня не включили в список рекомендованных на работу3. Объяснений не следовало. Я предполагаю, что сведения в моей биографии обусловили это решение. Мной было написано: «Я осознанно ориентировалась в своей профессиональной деятельности на принятые в ГДР политические требо- вания и идентифицировала себя с ними. Как видно теперь, это привело к тому, что я поддалась политическим заблуждениям и ложным оценкам. Я признаю, всю мою деятельность нельзя абстрагировать от рабочей атмосферы, которая преобладала и преобладает в Отделении, признаком которой является сотрудничество с советской гуманитарной наукой, без выражения спорных и критических взглядов. Могу сказать от себя, что от многочисленных профессиональных и личных контактов с советскими историками, которые активно складывались с середины 60-х, я выигрывала вследствие работы куратором приезжающих преподавателей. От них я восприняла кроме прочего стимул к работе над темой своей второй диссертации, которая была посвящена историческому описанию в ГДР российской целины. Конечно, самокритично сегодня заявлять, что доминирующее стремление познакомиться и использовать результаты работы советских историков привело к субъективной оценке, недалеким взглядам, позитивным или негативным обобщениям, преобразованиям и упрощениям исторических контекстов, фактов, личностей <...> С началом переломных процессов в СССР, которые сегодня известны как Перестройка, я, как и мои коллеги, в процессе осознания и обдумывания, поняла, что нужно открывать и делать полезными забытые, потерянные, односторонне рассмотренные, до настоящего времени лишь поверхностно изученные принципы научного исследования истории»4.
Демократический порыв в HUB, который целенаправленно поддерживало лишь меньшинство, имел плохие шансы пробиться через концепцию правительства. Свобода действий сил, заинтересованных в самостоятельном обновлении, практиковала все больше и больше «юридическую свободу действий» для «мероприятий чистки», как того настойчиво требовал сенатор по науке и его комиссия. В этих противоречивых, трудных условиях велась деятельность первого выбранного демократическим путем ректора HUB, теолога профессора Генриха Финка (Heinrich Fink, апрель 1990 г.). Как ректор он должен был выполнять официальные решения, которые все сильнее уменьшали автономию высшей школы. Одновременно он не упускал случая, чтобы поощрять университетских сотрудников в сопротивлении таким переменам. На меня произвела глубокое впечатление его рождественская проповедь перед студентами, которые бас- товали против решения о ликвидации. За ним, на мраморной стене вестибюля главного корпуса HUB, виднелся одиннадцатый тезис Фейрбаха, перед ним – протестовавшие против политического произвола молодые люди. Несколько дней назад (это, конечно, памятно многим) Финк был во главе бастовавших студентов (при участии сотрудников Института истории) на марше в Лейпциге, где проходила студенческая конференция о политике ликвидации в отношении восточногерманских университетов.
А в конце 1990 года Финк подал жалобу в Берлинский суд против решения берлинского правительства о ликвидации. Тогда же он сообщил сотрудникам гуманитарных направлений, в т.ч. историкам, о переводе их в «цикл ожидания» с контрактом до конца весеннего семестра и рекомендовал им подавать жалобы и соглашаться с изменением трудового договора, по меньшей мере, только с оговорками. В июне 1991 г. берлинский земельный высший административный суд вынес вердикт, что решение Берлинского правительства о ликвидации частично противоправно [2, s. 93]. Берлинский сенат и университетское руководство должны были отменить произведенные увольнения и назначения сроков контрактов и взамен принять «решения циклов ожидания». В марте следующего года ликвидация направлений и институтов, которые не были окончательно ликвидированы, были объявлены противоправными 7-й палатой административного суда Берлина [2, s. 35]. Этот приговор относился и к нашему институту со всеми подразделениями.
В начале 1991 г. угроза сокращения побудила 15 ученых института и административных работников (в т.ч. сенатора Берлина, членов отделения науки профсоюза работников образования и науки, персональный совет HUB, научного сенатора Берлина, ректора) поддержать мою инициативу по преодолению социальных последствий проводившихся мероприятий, в особенности – для достигших 40летнего возраста. Список требований содержал «все возможные способы законной и социальной защиты женщин от рисков» и продление существовавшего бессрочного найма до даты начала пенсионных выплат по возрасту. Профсоюз и уполномоченный по уравниванию требовали прозрачности информации в области трудового права и проводившихся структурных изменений5.
Ответное послание сенатора по науке Эрхардта не оставило сомнений в политический подоплеке, которая преследовалась процедурой ликвидации – он писал: «университеты в ГДР были десятилетиями не только объектом, но и инструментом партийно-политических интересов». В этом, видимо, заключались причины того, что реформаторский процесс, касавшийся профессий, до сих пор был слишком робким. Решения земельного правительства (о ликвидации – С.Ш. ), касавшиеся новых начинаний относительно профессий, не были затронуты в том выступлении. К тому же требовалась реструктуризация, в том числе персональная. Институту истории это новое начинание также «не давалось собственными силами»; при «новом строительстве» «женское» требование было бы учтено «соответственно». Впрочем, если бы ученые института протестовали, «в противоположность специальностям, которые сокращались при отсутствии возражений», они могли бы претендовать «на сокращаемые места» [2, s. 88]!
Когда был принят вердикт о противозаконности решения о ликвидации, в ноябре 1990 г. ректор Финк был уволен по представлению сенатора по науке, причем не только как административный работник, но как преподаватель высшей школы; комиссия Риттера стремительно занялась назначениями во вновь создаваемые кафедры, без проверки готовившихся и уже принятых судебных решений. После того, как ликвидация на институциональном уровне не удалась, использовались возможности договора объединения и проводились массовые увольнения профессоров, доцентов и сотрудников с формулировками «отсутствие востребованности» и «отсутствие профессиональной пригодности». При этом HUB имел бесчисленные судебные иски, которые оставались без внимания (не говоря уже о чрезмерных издержках!), это неоднократно в течение долгого времени приводило к возникновению разных дублирующих должностей и структур.
Для отделения восточноевропейской истории был достигнут такой результат: прежнее направление «История СССР и социалистической мировой системы» стало называться Институтом истории (ноябрь 1990 г.).
Количественно результаты за период до 1995 г. получились такие: в «День единства», 3 октября 1990 г., в «центральном здании» института истории работали 68 профессоров, доцентов и научных сотруд-
Общество
Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2016
ников, через 5 лет лишь 11 сотрудников остались из этого состава с ограниченном сроком контракта и 3 – на бессрочном найме [2, s. 8]. Следует поблагодарить автора словаря историков ГДР Лотаря Мертенса (Lothar Mertens) за приведенные им данные. «Большинство историков ГДР “соглашались” уйти или досрочно выходили на пенсию», – писал Мертенс; в середине девяностых годов в восточногерманских институтах еще имелось 42 прежних историка ГДР; к 2003 г. 7 уволились по «связанным с возрастом причинам». К 2006 г. (год издания словаря) осталось около 10. Большинство «старого груза» – так автор называет наследников делегитимизированной исторической науки ГДР – остались бы в HUB. Мертенс видел причины этого в деятельности ректора Финка и в «недостаточной организационной готовности к са-моочистке» [4, s. 81].
Новая кафедра «История Восточной Европы» возникла как параллельная структура (в середине 1992 г.). Это была единственная кафедра, на которую не только руководителем был приглашен восточногерманский ученый, но и ассистент и все другие сотрудники были восточногерманского происхождения. Все были из отделения Академии Наук по истории Советского Союза, большинство были выпускниками HUB, специализировались в области истории СССР и мировой социалистической системы, защищали диссертации под заботливым научным руководством Гюнтера Розенфельда (Günter Rosenfeld), Хорста Шюцлера (Horst Schützler), Мартина Цёллера (Martin Zöller) и др.
Так называемая научная программа интеграции, нацеленная на интеграцию академических ученых в университетах, институтах и других научных учреждениях, и по времени, и по финансовому обеспечению ограничилась концом 1996 г. и вела вместе с официальными «чистками» в университетах к тому, что прежние коллеги фактически становились конкурентами за рабочие места. Так, сотрудники «старого» Отделения, как и я, имевшие необходимые научные достижения, претендовали на руководство кафедрой истории Восточной Европы. То, что за назначением Людмилы Томас (Ludmila Thomas) было определенное политическое намерение в высших сферах, можно принять с изрядной уверенностью, речь шла о новом руководителе кафедры – члене «Независимого исторического союза». В своем докладе при вступлении в должность в присутствии почти всего «спи- санного с баланса имущества Восточной Европы» HUB (июнь 1992 г.) она обещала, что все может оставаться как раньше, только не может быть «индоктринации» (!), гарантированности прежнего научного ландшафта ГДР6.
Параллельность научных структур, занятых историей Восточной Европы оставалась до осени 1996 г. При этом сотрудники, зачисленные в «списанное с баланса имущество», сокращались не только упомянутыми методами увольнения, но и в судебном порядке – с завоеванного статуса постоянной занятости. Для оставшихся к 1994/95 г. сотрудников Сони Штригнитц7 и Мартина Хоффманна не нашлось возможности перейти на новую кафедру истории Восточной Европы. M. Хоффманн должен был освободить свое место и мог перейти в университет Гиссена.
Для доктора Бэрбель Бирнштенгель (Bärbel Birnstengel), специалиста по истории Чехословакии, которая добилась для себя срочного трудового договора в суде по трудовым делам, точно так же не было места во вновь созданной кафедре истории Юго-Восточной Европы, руководство которой было предложено историку из южной Германии [2, s. 159].
По указанию руководства университета и института истории «старый балласт» образовал особую структуру с минимальными правовыми основаниями: работающие по срочному контракту сотрудники вели общие лекции «по-старому», но старые наименования тем фиксировались «по-новому», что вело к бессмысленной ситуации: например, в одном случае «Восточноевропейская история», в другом – «История Восточной Европы». Все усилия изменить ситуацию, прежде всего в интересах студентов, вели в никуда: руководство института не видело необходимости что-то менять.
По настоянию руководства института я должна была сокращать количество часов лекций, так как меня ограничивал срок контракта – согласно законам, для берлинских вузов я как внештатная преподавательница не относилась к преподавателям высшей школы, а считалась старшим научным сотрудником. Согласно закону о найме персонала для высшей школы (HPersUG), для ученых, имеющих неподтвержденную ученую степень, было предусмотрено периодическое решение совета отрасли; такое решение должно было выноситься и относительно меня, однако совет не давал никакой соответствующей информации. Это же касалось признания моей диссертации для получения звания доцента. Я узнала об учреждении и деятельности этой ответственной комиссии в институте, когда она уже закончила свою работу. После я более двух лет боролась на всех уровнях университетского руководства за признание моей ученой степени.
Наконец, 9 ноября 1994 г. я смогла получить от тогдашнего декана философского факультета I HUB право на титул приват-доцента (диссертация и получение доцентства были признаны), вместе с тем мне давалось право на преподавание предмета «Восточноевропейская история»; я предполагала, что это могла быть злая шутка: была ли моя преподавательская деятельность после объединения Германии, с 1990 г. до сих пор законной? Минимальное право формировалось целенаправленно, в то время как существующие лекционные или семинарские занятия, например, по истории произвольно передавались решениями структурной и кассационной комиссий другим преподавателям, причем не знавшим материал, и, само собой, без информирования заинтересованных лиц.
Генрих Август Винклер (Heinrich August Winkler), исполнительный директор института в 1992 г., оставил мне мою должность в библиотечной комиссии вопреки новому руководству – с 1980 г. я выполняла эту работу и никогда от нее не освобождалась, он узнал об этом из моего письма! Мой вопрос о дальнейшем регулировании моей научной деятельности в составе библиотеки по Восточной Европе Винклер оставил без ответа.
Особой темой было обеспечение производственными помещениями сотрудников, включенных в «специальные структуры», после того, помещение отделения по восточноевропейской истории в главном корпусе HUB должно было быть освобождено для сильно разраставшихся бюрократических потребностей ново-призванных руководителей. Это были неоднократные выселения (в буквальном смысле!) в пользу ассистентов ново-призванных профессоров. С трудом собранная старая мебель («новая» была оснащена по федеральному стандарту!), с лежащими в ней личными материалами для работы была сдана на склад без информирования заинтересованных лиц или гарантий сохранности. Протесты против такого очевидно несправедливого обращения и произвола, выраженные в многочисленных письмах директору института, в деканат и т.п., оставались безуспешными.
Сотрудничество с новой кафедрой истории Восточной Европы было обозначено аналогичным опытом. По существу оно сводилось к минимуму обмена информацией по учебным вопросам и к отнюдь не гарантированному участию в совещаниях и др. мероприятиях. Вовлечение в новые формы обучения, как например, блок-се-минары, осуществлялось только после настоятельных требований и, разумеется, только спорадически. Опыт в работе со студентами, даже теми, кто интересовался историей Восточной Европы и кто обращался к оставшимся «старым» сотрудникам, не был востребован в новом учреждении. Подключение к соответствующим исследовательским проектам новой кафедры не рассматривалось.
Неиспользованными оставались (в рассматриваемы мною период до середины 90-х годов) богатые традиции и опыт сотрудничества с историками Московского университета, включая инициированный ими международный семинар по истории СССР для преподавателей высшей школы из университетов социалистических стран. Новая кафедра продвигалась, таким образом, в соответствии с политикой умеренности – по сравнению с наукой России – всего модифицированного университета. Таким образом, в HUB выпадали значительные составные части истории Восточной Европы (в особенности, России / Советского Союза), которые могли быть получены через международные связи и результаты общей работы. Лекции руководителя кафедры о том периоде для новых студентов иллюстрировали это: они влекли полное отсутствие знаний об истории трех десятилетий (особенно сравнивая с «эрой» Розенфельда и Шюцлера).
Осенью 1996 г. мне как последней представительнице восточноевропейской истории из старой структуры после годового «сосуществования» досталась печальная миссия – закрыть сохранявшееся с 1992 г. старое отделение и сдать ключ университетскому вахтеру.
Ретроспективно сегодня я могу констатировать: выносить атмосферу политически враждебного отношения, общего невежества и личного несправедливого обращения было бы сложно без студентов, в том числе из Западного Берлина и западногерманских университетов, которые посещали мои занятия по истории России в последний период моей деятельности в Берлинском университете имени Гумбольдта.
Общество
Список литературы "Зондерструктура". О завершении деятельности ГДР-овского профессора в Берлинском университете имени Гумбольдта
- Berliner Zeitung. -1990, 31 Dezember.
- Dokumente gegen Legenden. Chronik und Geschichte der Abwicklung der MitarbeiterInnen des Instituts f?r Geschichtswissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. -Berlin, 1996.
- Mehls E., Schützer H., Striegnitz S. Seminar -Institut -Fachbereich. Die Geschichte Osteuropas an der Humboldt-Universität zu Berlin: Blick auf ein halbes Jahrhundert//Osteuropa in Tradition und Wandel. Leipziger Jahrbücher. Bd. 8(1): Osteuropakunde an der Leipziger Universität und in der DDR. -Leipzig, 2006. -S. 99-131.
- Mertens L. Lexikon der DDR-Historiker. Biographien und Bibliographien zu den Geschichtswissenschaftlern aus der Deutschen Demokratischen Republik. -München, 2006.
- Striegnitz S. Eine «Sonderstruktur». Über das Ende meines Arbeitslebens an der Humbold-Universität zu Berlin//Nachlese zur Osteuropakunde. Zum Leipziger Universitätsjubiläum. Osteuropa in Tradition und Wandel. Leipziger Jahrbücher. Band 10: Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen. Gesellschaft für Kultursoziologie. -Leipzig, 2008. -S. 149-162.
- Der Tagesspiegel. -1991, 11 Juni.