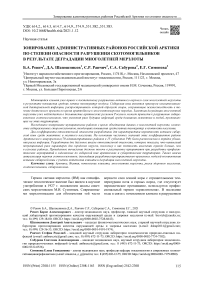Зонирование административных районов российской Арктики по степени опасности разрушения скотомогильников в результате деградации многолетней мерзлоты
Автор: Ревич Б.А., Шапошников Д.А., Раичич С.Р., Сабурова С.А., Симонова Е.Г.
Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk
Рубрика: Оценка риска в эпидемиологии
Статья в выпуске: 1 (33), 2021 года.
Бесплатный доступ
Меняющийся климат уже привел к постепенному разрушению активного верхнего слоя многолетней мерзлоты в результате повышения средних летних температур воздуха. Сибирская язва является примером климатозависимой бактериальной инфекции, распространитель которой образует споры, сохраняющие жизнеспособность в течение длительного времени во время криптобиоза в многолетнемерзлых породах. Заметная деградация многолетней мерзлоты уже наблюдается в большинстве арктических регионов России и может привести к разрушению сибиреязвенных скотомогильников, что увеличит риск будущих инфекций среди домашних животных и людей, проживающих на этих территориях. Исследовано зонирование муниципальных районов с целью объединения данных о многолетней мерзлоте, количестве сибиреязвенных сторомогильников, тенденциях повышения среднелетних температур и плотности населения. Два коэффициента относительной опасности разработаны для характеристики вероятности вспышек сибирской язвы среди животных и местного населения. На основании численных значений этих коэффициентов районы Арктического макрорегиона (70 административных районов в 15 субъектах РФ) были расположены в порядке убывания риска инфекции. Разработаны две балльные шкалы относительной опасности, которые показали, что наивысший популяционный риск характерен для городских округов, поскольку в них плотность населения гораздо больше, чем в сельских районах. Проведенные вычисления должны помочь в расстановке приоритетов при разработке профилактических мероприятий в эндемичных по сибирской язве арктических и субарктических территориях. Также важна актуализация перечня скотомогильников, дальнейшая разработка пространственно-временных моделей возникновения вспышек сибирской язвы с учетом потепления климата и деградации многолетней мерзлоты.
Арктика, якутия, потепление климата, многолетняя мерзлота, риски здоровью населения, скотомогильники, сибирская язва
Короткий адрес: https://sciup.org/142229569
IDR: 142229569 | УДК: 614, | DOI: 10.21668/health.risk/2021.1.12
Текст научной статьи Зонирование административных районов российской Арктики по степени опасности разрушения скотомогильников в результате деградации многолетней мерзлоты
Термин «вечная мерзлота» (ВМ) как специфическое геологическое явление был введен в научное употребление в 1927 г. основателем школы советских мерзлотоведов М.И. Сумгиным. Современными мерзлотоведами для обозначения той части верхнего слоя земной коры с отрицательными температурами почв и горных пород, где отсутствует периодическое протаивание, используется профессиональный термин «криолитозона». В последние годы в связи с потеплением климата и разрушением криолитозоны применяется новое сочетание слов – многолетние мерзлые грунты (ММГ) или породы (ММП), которые в данной статье употребляются как синонимы. Изменения климата в Российской Арктике происходят быстрее, чем в среднем по планете. Линеаризация тренда среднегодовой температуры Северной полярной области дает в четыре раза более высокую скорость потепления за последний 40-летний период (1976–2018 гг.), чем глобальное среднее значение [1]. При относительно невысоких темпах потепления его влияние на многолетнюю мерзлоту будет несущественным, но при более высоких темпах будет наблюдаться активизация деструктивных криогенных процессов [2]. Интенсивное потепление климата приводит к постепенному увеличению температуры приповерхностного слоя многолетней мерзлоты. Так, Межправительственная группа экспертов по изменениям климата (МГЭИК) считает, что этот слой к 2100 г. уменьшится на 90 %, причем на 20 % этой территории может произойти его более быстрое разрушение [3, 4]. Сценарии значительного потепления климата распространяются на территорию многолетней мерзлоты лишь с учетом самых общих ее свойств. Существующие оценки потепления зависят как от региона (области интереса), так и от сценария выбросов парниковых газов и аэрозолей. О величине и разбросе ожидаемых на Российском Севере изменений можно судить по таким модельным оценкам: согласно «умеренному» сценарию выбросов RCP4.5 к концу текущего столетия по сравнению с декадой 1990–1999 гг. среднелетняя температура воздуха в Архангельске может повыситься на 3,0 °С, а в Якутске на 2,0 °С; для сценария быстрого роста выбросов RCP8.5 аналогичные оценки составили в Архангельске 5,0 °С, а в Якутске 3,3 °С [5]. Вероятно, мерзлота будет оттаивать и со временем сохранится только в высоких горах и на равнинах севера Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Большинство мерзлотоведов говорят о деградации ВМ в том случае, если хотя бы в части геокритологического разреза (обычно верхней) среднегодовая температура пород стала положительной [6]. Однако в данном исследовании будет рассмотрена динамика среднелетних температур, хотя они растут в приполярных районах медленнее, чем среднегодовые. Интерес к летним температурам вызван тем, что именно в это время года определяется наиболее критический случай деградации мерзлоты, когда наблюдается устойчивое оттаивание верхнего горизонта и опускание кровли ММП. Прогнозы влияния последних на деградацию ММГ отличаются большим разбросом. Увеличение среднегодовой глобальной температуры воздуха на 2,0 °C приведет к полному оттаиванию мерзлых пород на 15–20 % этой территории, но по другим прогнозам данному явлению будет подвержена еще большая часть этой территории – до 25–65 % [7, 8].
Территория ММГ в Арктическом макрорегионе – это север Европейской России (НАО), Урала (Свердловская область), Западной Сибири (Ямал), большей части Восточной Сибири (Красноярский край, Республика Саха (Якутия)), Дальнего Востока (Чукотский АО, Камчатский край). Тенденции к повышению температуры верхних горизонтов мерзлых грунтов вслед за потеплением климата доказаны большим объемом наблюдений за температурой грунтов в условиях сплошной и прерывистой криолитозоны в этих регионах. За 1961–2003 гг. температура грунтов на глубине 1,6 м повысилась по сравнению с нормой на 0,1–1,2 °С. При изучении температуры ММГ за 30-летний период на специальных геокринологических стационарах выявлено, что даже в пределах одного административного района показатели изменения температуры значительно различаются [9].
Риски природно-очаговых инфекций. Изменения зон многолетней мерзлоты напрямую связаны с рисками природно-очаговых инфекций, в частности ассоциированных со спорообразующими бактериями. Исследования последних лет показали возможность длительного сохранения жизнеспособных прокариотных и эукариотных микроорганизмов в условиях постоянных отрицательных температур многолетнемерзлых толщ, возраст которых составляет от нескольких тысяч до 2–3 млн лет. Из многолетнемерзлых отложений выделены аэробные и анаэробные бактерии и мицелиальные грибы [10–12]. В ходе масштабных исследований по изучению сообществ палеоорганизмов вечной мерзлоты были выделены жизнеспособные цисты свободноживу-щих простейших, находившихся в состоянии криптобиоза в течение десятков и сотен тысяч лет, что свидетельствует о возможности активации возбудителей инфекционных заболеваний, сохраняющихся в почве на протяжении продолжительного времени при изменении климата северных регионов Российской Федерации [13]. По данным международных исследований в некоторых регионах Швеции, Норвегии, Финляндии и Российской Федерации все более значимыми становятся геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, клещевой энцефалит, болезнь Лайма и карельская лихорадка, вызываемая вирусом Синдбис, относящиеся к климатозависимым инфекционным заболеваниям. Климатические изменения могут быть причиной дополнительного риска заражения не только за счет расширения ареала переносчиков инфекционных возбудителей, но и улучшения условий их зимовки, то есть повышения зимних температур и уменьшения толщины снежного покрова [14, 15].
Сибирская язва как климатозависимая микробная инфекция. На севере страны в период ХVII – первой половины ХIХ в. наблюдались эпидемические вспышки оспы, холеры, сибирской язвы. Захоронение животных, погибших от этих заболеваний, производилось в скотомогильники, но иногда тела таких животных могли оставаться на поверхности земли: только на Ямале зарегистрировано более 60 таких «падежных мест» [16]. Интерес к возбудителю сибирской язвы в контексте потепления климата в российской криолитозоне связан с тем, что в условиях многолетней мерзлоты споры Bacillus anthracis устойчивы и сохраняются в жизнеспособном состоянии в течение 80–100 лет и более. На территории Российской Арктики находится 520 «официальных» скотомогильников, в которых размещались трупы оленей и других животных, павших от сибирской язвы, но в более поздней публикации сообщается только о 285 зарегистрированных могильников, причем ветеринарно-санитарным требованиям соответствует только 64 захоронения1 [17]. Некоторые авторы считают, что большинство скотомогильников не соответствуют санитарным и ветеринарным требованиям из-за недостаточного взаимодействия между эпидемиологической и ветеринарной службами, утраты описаний захоронений, эпизоотологических карт и т.п. [18, 19]. Кроме того, как считают специалисты по инфекционным заболеваниям животных, негативную роль в учете и сохранении сибироязвенных скотомогильников сыграли многочисленные реорганизации ведомств, ответственных за эту проблему [20].
Согласно перечню скотомогильников оленей, погибших от сибирской язвы, наибольшее их число находится в Якутии (230), Архангельской области (84), республиках Карелия (48) и Коми (28)1. В Якутии к 2019 г. зарегистрировано 739 эпизоотий сибирской язвы среди северных оленей и лошадей, они возникали практически каждые 10 лет, и последняя вспышка произошла в 1993 г. [21]. Из 35 административных районов этой республики эпизоотии отмечены в 29 районах, причем заболевали не только животные, но и люди, заразившиеся в основном от крупного рогатого скота и оленей [22]. Такие детальные эпизоотолого-эпидемиологические исследования в Арктическом макрорегионе пока проведены только по Республике Саха (Якутия) [23].
На возможную опасность повторного появления сибирской язвы при таянии многолетней мерзлоты в исторических местах захоронения скота указано в работе В. Revich, М. Podolnaya [24]. Примером является масштабная эпизоотия сибирской язвы в 2016 г. в ЯНАО, приведшая к вспышке заболевания. Территория Западной Сибири, расположенная за Полярным кругом, много лет являлась крайне неблагоприятной по сибирской язве – на ней зарегистрировано более 70 крупных эпизоотий, причем фиксировались случаи сибирской язвы и у людей. Длительное эпизоотическое благополучие и мнимое представление о самосанации очагов привели к прекращению вакцинации оленей против сибирской язвы начиная с 2007 г. На Ямале лето 2016 г. стало самым жарким за 150-летнюю историю наблюдений, температура в отдельные дни была примерно на 12 °С выше нормы, среднемесячные температуры превышали средние многолетние значения на 6,7 °С в июне и на 5,7 °С в июле, что привело к рекордному увеличению глубины сезонного таяния многолетней мерзлоты до двух метров [25]. Весьма вероятно, что аномальная жара способствовала вегетации сибиреязвенного микроба в глубинных слоях с перемещением к поверхности почвы с межмерзлотными водами, что привело к возникновению крупнейшей эпизоотии среди северных оленей с момента начала регистрации случаев сибирской язвы. Из-за контакта коренных народов с сырым мясом произошла вспышка этого заболевания, пострадало 24 человека, один 12-летний подросток умер от алиментарного заражения [26]. По данным Россельхознадзора, за период с 2010 по 2016 г. в стране выявлены 33 вспышки этого заболевания [27]. Редкие случаи сибирской язвы среди оленей происходят также в странах Скандинавии и Канаде, но они не затрагивают людей. Это объясняется более высоким уровнем знаний населения, регулярными вакцинациями и актуальными картами моровых полей [28].
Данных о пространственно-статистической связи между темпами деградации ВМ и вспышками сибирской язвы в арктическом макрорегионе РФ пока не обнародовано. В данной работе предпринята попытка создать простейшую модель возможной связи, объединив сведения о темпах деградации ММГ, числе сибиреязвенных захоронений и плотности населения по муниципальным районам на всей территории российской криолитозоны с целью вычисления некоторого количественного «коэффициента опасности» повторных вспышек сибирской язвы в ходе потепления климата. При этом территориальной единицей исследования был выбран административный район, что позволило (после соответствующих вычислений) ранжировать все районы по относительной опасности заболевания для местного населения. Таким образом, целью исследования является зонирование всех территорий Российской Арктики по этому показателю. Подчеркнем, что речь пока не идет о вычислении риска или вероятности вспышек сибирской язвы – для этого понадобились бы гораздо более сложные модели экологических ниш возбудителя этого заболевания. Однако, имея достаточную статистику о наблюдавшихся в последние 60 лет вспышках болезни, можно будет проверить результаты наших вычислений апостериорно.
Материалы и методы. Область исследования. Исследование охватывало только те муниципальные районы, на территории которых присутствует сплошная, прерывистая или островная ВМ и при этом определяются сибироязвенные захоронения согласно «Геоинформационной базе данных о стационарно-неблагополучных по сибирской язве населенных пунктах (СНП)»1. В этой базе данных территориальными органами Роспотребназдора учтены населенные пункты или иные территории, в которых когда-либо в прошлом возникали случаи сибирской язвы у животных или людей. Согласно рекомендациям Роспотребназдора, вся территория СНП считается потенциально неблагополучной и признается как почвенный очаг. Всего в исследование были включены 70 муниципальных районов из 15 субъектов РФ (табл. 1). Отметим, что в кадастре также приводятся данные о числе лет активности СНП, однако они не использованы при вычислении коэффициентов опасности по двум причинам. Во-первых, для некоторых субъектов РФ эти данные не были доступны, во-вторых, в кадастре для некоторых СНП сообщается о нулевом числе лет активности.
Таблица 1
Перечень субъектов РФ и количество муниципальных районов, включенных в исследование
|
Субъект РФ |
Число районов |
|
Мурманская область |
1 |
|
Архангельская область |
2 |
|
Республика Коми |
11 |
|
Коми-Пермяцкий АО* |
4 |
|
НАО |
1 |
|
ХМАО |
4 |
|
ЯНАО |
3 |
|
Таймырский (Долгано-Ненецкий АО) |
3 |
|
Красноярский край |
8 |
|
Республика Саха (Якутия) ** |
28 |
|
Чукотский АО*** |
1 |
|
Эвенкийский АО*** |
1 |
|
Корякский АО*** |
1 |
|
Магаданская обл.*** |
1 |
|
Камчатский край |
1 |
П р и м е ч а н и е :
* – в том числе Чусовской городской округ Пермского края;
** – объединенные данные из источников [17, 25]. Если данные о числе СНП присутствовали в обоих источниках, то бралось наибольшее из двух чисел, а не их сумма;
*** – эти регионы брались как неделимые территории наравне с районами других субъектов РФ.
Коэффициенты опасности. Для каждого района были вычислены два коэффициента опасности: территориальный и популяционный. Территориальный коэффициент опасности HQterr характеризует опасность активации возбудителя сибирской язвы на территории данного района, а популяционный коэффициент HQpop – опасность вспышки сибирской язвы среди местного населения.
Согласно принятой авторами простейшей модели, HQ terr должен быть пропорционален двум величинам. Одна характеризует количество возбудителя сибирской язвы в многолетней мерзлоте в «спящем» состоянии (криптобиозе), а другая – скорость повышения температур ММП в данном районе как триггер вероятной активации возбудителя в результате протаивания ВМ в летние месяцы и размораживания скотомогильников. Первая величина – число СНП на территории района ( N ), вторая величина – повышение летних температур ММГ за последние 60 лет:
HQ terr = N · Δ T ММГ; (1)
Δ T ММГ = Δ T возд · k , (2)
где Δ T возд – тренд летних температур воздуха, который вычисляется следующим образом: находится ближайшая к данному административному району метеостанция, и для нее вычисляется средняя температура за три летних месяца (июнь–август), далее вычитываются многолетние средние этой величины за два периода: 1960–1989 и 1990–2019 гг. Разница средних летних температур воздуха между этими двумя периодами и будет характеризовать скорость потепления Δ T возд. Такую величину можно приблизительно интерпретировать как повышение температур между серединами периодов, то есть за 30 лет (1975–2005 гг.). Данные о среднемесячных температурах были взяты с веб-сайта Всероссийского НИИ гидрометеорологической информации2, где доступны данные наблюдений за погодой с 518 метеостанций. Местные метеостанции, не входящие в систему наблюдений Росгидромета, не рассматривались.
Коэффициент чувствительности многолетней мерзлоты к потеплению климата k есть отношение изменения температуры ММП на глубине около 10 м к изменению температуры воздуха в приповерхностном слое. На этой глубине сезонные колебания температур ММГ практически отсутствуют (глубина нулевых сезонных амплитуд) [6]. Отметим, что нормативная глубина сибироязвенного скотомогильника или биотермической ямы согласно ветеринарносанитарным правилам3 тоже равна 10 м. К сожалению, на основании доступных данных о многочисленных сибироязвенных скотомогильниках невозможно судить о распределении их по глубинам залегания в ММП: реальные глубины могут составлять от 2 м (моровые поля, земляные ямы) до 10 м (оборудованные скотомогильники). Величины «коэффициента запаздывания» k для всей криолитозоны Рос- сийской Арктики были вычислены путем интерполяции картографических данных об изолиниях пространственного распределения этой величины, приведенных в презентации4. Эта величина изменяется от 0,3 до 0,8 и в данном исследовании может быть вычислена с шагом 0,05, что накладывает принципиальное ограничение на точность его конечных результатов. Строго говоря, при вычислении ΔTММГ на глубине нулевых сезонных амплитуд корректно использовать среднегодовые температуры, однако в данной работе более актуально применять среднелетние температуры, по нашему мнению, теснее связанные с опасностью размораживания возбудителя сибирской язвы. Например, во время рекордно жаркого лета 2016 г. на Ямале была отмечена рекордная глубина сезонного протаивания ВМ – до 2 м. Это на 10 см больше, чем в предыдущие периоды [26].
Популяционный коэффициент опасности HQ pop предполагается пропорциональным плотности населения района. Алгебраическая связь между HQ terr и HQ pop аналогична таковой между индивидуальным и популяционным риском:
HQ pop = HQ terr · pop / S , (3)
где pop – численность населения района по данным последней переписи; S – площадь района. Полезным упрощением является то, что формула (3) не учитывает влияния показателей соседних районов, которые, разумеется, должны влиять на реальную опасность сибирской язвы для населения. Формулу (3) можно интерпретировать и по-другому:
HQ pop = (Δ T ММГ · N / S ) · pop , где выражение в скобках есть поверхностная плотность источников опасности, а pop – все экспонируемое население.
Подчеркнем, что оба коэффициента опасности – HQterr и HQpop – используются только для сравнения различных территорий, их абсолютные численные значения не имеют физического смысла. Поэтому для более понятной интерпретации результатов вычислений в следующем разделе введем также и безразмерную «балльную шкалу» для HQterr. Согласно формуле (3), в некоторых городских округах можно ожидать аномально высоких значений HQpop, поскольку их площадь очень мала по сравнению с площадью типичного сельского района. Это будет в тех случаях, когда площадь городского округа совпадает с компактным городским поселением (например Нарьян-Марский, Сыктывкарский, Лесосибирский). Не все городские округа имеют небольшую площадь, некоторые из них, согласно административному делению, включают и прилегающие сельские территории. Отметим, что иногда город, по имени которого назван район, административно в этот район не входит. Например, города Кудымкар, Ханты-Мансийск, Минусинск не входят в одноименные районы, так же, как Норильск не входит в Таймырский АО. Во всех таких случаях данные о численности населения района брались согласно современному административному делению, что, конечно, повлияло на вычисление плотности населения и ранжирование полученных значений HQpop.
Результаты и их обсуждение. Поиск ближайшей метеостанции потребовал работы с картами местности. Из 70 муниципальных районов, включенных в исследование, около половины (36) районов имели свои «собственные» метеостанции (расположенные внутри либо на границе района) и 34 района не имели таковых. Рекордсменами по удаленности ближайшей метеостанции от границ района стали Абанский район Красноярского края (200 км), Гайнский и Косинский районы КПАО (160 и 170 км).
За период исследования наибольшее повышение среднелетних температур воздуха установлено метеостанцией Салехарда (1,48 °С), а наименьшее – метеостанцией Мурманска (0,43 °С). Важно, что температуры растут повсеместно. При вычислении изменений температур ММГ по формуле (2) наибольшее и наименьшее изменения установлены в тех же местах: в Приуральском районе ЯНАО (+1,0 °С) и Кольском районе Мурманской обл. (+0,2 °С).
На основании доступных нам данных о числах СНП в каждом муниципальном районе российской криолитозоны наибольшее их число зафиксировано в Среднеколымском и Мирнинском районах Якутии (30 и 29).
Ранжирование районов по величинам вычисленных территориальных и популяционных коэффициентов опасности приведено в табл. 2.
Безразмерная шестибалльная шкала опасности была введена для территориального коэффициента HQterr , исходя из реально вычисленных значений этого коэффициента, с целью более компактного представления результатов исследования и информирования заинтересованных лиц. Анализ распределения значений HQ terr показал, что максимальное значение этого коэффициента (21,26 для Среднеколымского района Якутии) является выпадающим значением. Остальные значения изменяются от 0,17 до 13,24, то есть различаются менее чем на два порядка величины. Весь диапазон изменения HQ terr после исключения выпадающего значения равен 13,24 – 0,17 = 13,07. Этот диапазон был разделен на шесть равных отрезков, при этом порядковый номер отрезка и был принят равным опасности в баллах. Ширина каждого отрезка при таком разбиении равна 2,18 единицы HQ terr . Согласно равномерной шкале, всем значениям HQ terr от минимального до 2,35 присваивается 1 балл, от 2,36 до 4,53 – 2 балла и так
Таблица 2
Ранжирование муниципальных районов по территориальному и популяционному коэффициентам опасности сибирской язвы
Для популяционного коэффициента опасности нет смысла вводить линейную балльную шкалу, пото- му что значения этого коэффициента варьируются слишком сильно – от минимального значения 0,02 в Хатангском районе ТАО до максимального 6747,26 в Нарьян-Марском городском округе НАО. Эти значения различаются более чем на пять порядков величины. В этом случае для обсуждения результатов исследования удобнее будет ввести десятичную логарифмическую балльную шкалу опасности по формуле (4)
S = 1 + lg( HQ / HQ min ), (4)
где S – опасность в баллах. Поскольку минимальное значение HQ pop = 0,02, то формула (4) приводит к следующему правилу для дискретной шкалы: всем значениям HQ pop от 0,02 до 0,2 присваивается один балл, значениям от 0,2 до 2,0 – 2 балла, от 2,0 до 20 – 3 балла и так далее. При этом районы, имеющие 2 балла, приблизительно в 10 раз опаснее районов, имеющих 1 балл. Районы, имеющие 3 балла, приблизительно в 100 раз опаснее однобалльных.
Поскольку логарифмическая шкала опасности введена лишь для удобства, то она должна отвечать нашему интуитивному, субъективному восприятию опасности. Отметим, что десятичная логарифмическая шкала также применяется для выражения опасности землетрясения (сейсмическая шкала Меркал-ли) и даже в более экзотических случаях, например Палермская шкала астероидной опасности. Поскольку речь идет о восприятии опасности, то формула (4) является частным случаем «основного психофизического закона» Вебера – Фехнера, опубликованного еще в 1860 г.:
S = a ln I + b , (5) где S – интенсивность воспринимаемого нами ощущения, I – сила раздражителя, a и b – константы. Все эти аналогии служат лишь для обоснования разумности введения логарифмической шкалы относительной опасности сибирской язвы для населения изучаемых нами районов, что является целью данной работы.
Как видно из табл. 2, городские округа с наивысшими классами опасности СЯ для населения (4–6 баллов) имеют необычно высокие значения HQ pop , которые являются «выпадающими» из в целом плавного распределения: это Нарьян-Марский (6 баллов), Сыктывкарский и Якутский (5 баллов), Лесосибирский (4 балла) районы. Остальные имеют опасность, оцененную в 1–3 балла, причем количество районов в каждом классе опасности соизмеримо между собой: 15 районов имеют 1 балл, 30 районов – 2 балла и 21 район – 3 балла. Из трехбалльных районов к наиболее проблемным территориям следует также отнести четыре верхних позиции: Чусовской и Ухтинский городского округа, Намский и Усть-Ал-данский районы Якутии, поскольку значения HQ pop для этих территорий составляют более 1 ‰ от максимального.
Для популяционного коэффициента опасности балльная шкала не используется, так как значения этого коэффициента значительно варьируются (различаются более чем на пять порядков величины) – от минимального значения 0,02 в Хатангском районе ТАО до максимального 6747,26 в Нарьян-Марском городском округе НАО. В качестве отправного шага при ранжировании районов по коэффициенту HQpop использовано значение этого коэффициента менее 1 ‰ (промилле) от максимального (в данном случае HQpop менее 7,0). Таким образом, к наиболее проблемным территориям относятся шесть городских округов: Нарьян-Марский, Сыктывкарский, Якутский, Лесосибирский, Чусовской, Ухтинский и два района Якутии: Намский и Усть-Ал-данский. Поскольку городские округа лидируют по показателю HQpop, то уместен вопрос: действительно ли указанные в кадастре СНП расположены на территориях этих округов? Следует отметить, что указанные в кадастре муниципальные районы в настоящее время могут не совпадать с современными одноименными городскими округами. Так, с 2004 г. в состав Нарьян-Марского городского округа входил районный поселок Искателей, который затем вошел в Заполярный район. Ухтинский район существовал с 1939 по 1963 г. в составе Коми АССР, Чусовской район существовал с 1964 по 2004 г. в составе Пермской области, однако сам город в него не входил.
Порядок ранжирования районов по показателю территориальной опасности отличается от порядка ранжирования по показателю популяционной опасности – для лиц, принимающих решения, будут важны оба показателя.
Именно в приоритетных по опасности сибирской язвы районах целесообразно опробовать современные математические модели распространения палеобиозагрязнений. Примером такой модели является метод геометрической стратификации, позволивший разработать схему оценок палеобиозагрязнения при деградации многолетней мерзлоты. Авторы этого метода выявили самый высокий риск по Ямалу и северо-восточным районам Якутии [29]. Результаты данного исследования подтверждают этот вывод в отношении Якутии (наивысший территориальный коэффициент опасности установлен для Среднеколымского района Арктической зоны Якутии, а также для Мирнинского и Нюрбинского районов Западной Якутии). Достоинство используемого в данном исследовании скрининг-метода в том, что он учитывает не только темпы роста температур ММГ, но и документированное количество скотомогильников во всех муниципальных районах, где присутствует вечная мерзлота.
Выводы. Негативные последствия изменения климата в Арктическом регионе определяют актуальность разработки различных методов адаптации. Для разработки рекомендаций по профилактике инфекционных заболеваний, в том числе природноочаговых, необходима информация о территориях, на которых наиболее интенсивно происходит повышение летних температур и деградация ММГ. Для выявления наиболее опасных территорий следует продолжить детальные почвенно-климатические исследования, позволяющие выявить площади с выраженной деформацией многолетней мерзлоты. Поскольку максимальное увеличение летних температур прогнозируется вблизи Арктического побережья Центральной Сибири, то на этой территории в первую очередь будет необходим микробиологический мониторинг текущего состояния скотомогильников, находящихся в ВМ на различных глубинах – от 2 до 10 м. Кроме скотомогильников трупы инфицированных павших оленей могут находиться на необорудованных местах, так называемых моровых полях, координаты которых должны быть в распоряжении ветеринарной службы. Несмотря на создание указанного кадастра сибироязвенных скотомогильников, изданного 15 лет назад, необходима постоянная его актуализация, так как в Арктическом макроре- гионе находится более 1 млн домашних и около 1 млн диких оленей. Интенсивное освоение арктического пространства в период значительного потепления климата при отсутствии точной информации о местах дислокации сибиреязвенных скотомогильников и моровых полей может привести к возникновению новых вспышек этого особо опасного заболевания. В результате различных стихийных бедствий, потепления климата и деградации многолетних мерзлых грунтов, земляных и иных работ возможно появление на поверхности инфекционных агентов. Можно согласиться с коллективом исследователей вспышки сибирской язвы на Ямале, что высокие температуры летом 2016 г. были не единственной ее причиной, важную роль сыграл необоснованный отказ от вакцинации населения и животных, низкий уровень информированности населения [30]. В этой статье, так же, как и в монографии [26], описаны различные меры профилактического характера. В первую очередь необходимо пристальное внимание даже к единичным случаям сибирской язвы среди диких и домашних оленей в связи с формированием почвенных очагов инфекции и опасностью распространения заболевания. Поэтому так важны актуализация перечня скотомогильников, информирование населения об этом заболевании и мерах профилактики, продолжение вакцинации оленей. Необходима дальнейшая разработка пространственно-временных моделей возникновения вспышек сибирской язвы с учетом потепления климата и деградации многолетней мерзлоты в Российской Арктике.
Финансирование . Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ 18-05-60146 «Медико-экологические факторы социально-экономического развития Российской Арктики: анализ и прогноз».
Список литературы Зонирование административных районов российской Арктики по степени опасности разрушения скотомогильников в результате деградации многолетней мерзлоты
- Эдельгериев Р.С.Х., Романовская А.А. Новые подходы к адаптации к изменениям климата на примере Арктической зоны Российской Федерации // Метеорология и гидрология. - 2020. - № 5. - С. 12-28.
- Игловский С.А. Антропогенная трансформация мерзлотных условий Европейского севера России и ее последствия // Арктика и Север. - 2013. - № 10. - С. 107-1124.
- IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate IPCC 2019 Summary for Policymakers / H.-O. Portner, D.C. Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck [et al.] // Summary for Policymakers. - 2019. - P. 36.
- Climate Change and Land: An IPCC Special Report on Climate Change, Desertification, Land Degradation, Sustainable Land Management, Food Security, and Greenhouse Gas Fluxes in Terrestrial Ecosystems [Электронный ресурс] // IPCC. -2019. - URL: https://www.ipcc.ch/srccl/ (дата обращения: 12.09.2020).
- Revich B.A., Shaposnikov D.A., Shkolnik I.M. Projections of temperature-dependent mortality in Russian subarctic under climate change scenarios: a longitudinal study across several climate zones // IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. - 2020. -Vol. 606, № 012050. - P. 10. DOI: 10.1088/1755-1315/606/1/012050
- Деградация мерзлоты: результаты многолетнего геокриологического мониторинга в западном секторе российской Арктики / А.А. Васильев, А.Г. Гравис, А.А. Губарьков, Д.С. Дроздов, Ю.В. Коростелев, Г.В. Малкова, Г.Е. Облогов [и др.] // Криосфера Земли. - 2020. - Т. 24, № 2. - С. 15-30. DOI: 10.21782/KZ1560-7496-2020-2 (15-30)
- Nelson F.E., Anisimov O.F., Shiklomanov N.L. Subsidence risk from thawing permafrost // Nature. - 2001. - Vol. 19, № 410. - P. 889-890. DOI: 10.1038/35073746
- Мохов И.И., Елисеев А.В. Моделирование глобальных климатических изменений в ХХ-ХХШ веках при сценариях антропогенных воздействий RCP // Доклады Академии наук. - 2012. - № 6. - С. 732-736.
- Павлов А.В., Малкова Г.В.. Мелкомасштабное картографирование трендов современных изменений температуры грунтов на севере России // Криосфера Земли. - 2009. - Т. 13, № 4. - C. 32-39.
- The deep cold biosphere: facts and hypothesis / E. Vorobyova, V. Soina, M. Gorlenko, N. Minkovskaya, N. Zalinova, A. Mamukelashvili, D. Gilichinsky, E. Rivkina, T. Vishnivetskaya // FEMS Microbiol. Rev. - 1997. - № 20. - P. 277-290. DOI: 10.1111/j.1574-6976.1997.tb00314.x
- Biogeochemistry of methane and methanogenic archaea in permafrost / E. Rivkina, V. Shcherbakova, K. Laurinavichuis, L. Petrovskaya, K. Krivushin, G. Kraev, S. Pecheritsina, D. Gilichinsky // FEMS Microbiol. Ecol. - 2007. - Vol. 61, № 1. -P. 1-15. DOI: 10.1111/j.1574-6941.2007.00315.x
- Выживание микромицетов и актинобактерий в условиях длительной природной криоконсервации / Г.А. Кочкина, Н.Е. Иванушкина, С.Г. Карасев, Л.В. Гурина, Д.И. Евтушенко, С.М. Озерская, Е.Ю. Гавриш, Е.В. Спирина, Д.А. Гиличин-ский, Е.А. Воробьева // Микробиология. - 2001. - Т. 70, № 3. - C. 412-420.
- Жизнеспособные простейшие в вечной мерзлоте Арктики / А.В. Шатилович, С.В. Шмакова, Д.А. Губин, Л.А. Ги-личинский // Криосфера Земли. - 2010. - Т. 14, № 2. - С. 69-78.
- Mills J.N., Gage K.L., Khan A.S. Potential influence of climate change on vector-born and zoonotic diseases: a review and proposed research plan // Environ. Health Perspect. - 2010. - Vol. 118, № 11. - P. 1507-1514. DOI: 10.1289/ehp.0901389
- Mapping climate change vulnerabilities to infection diseases in Europe / J.C. Semenza, J.E. Suk, V. Estevez, K.L. Ebi, E. Lingren // Environ. Health Perspect. - 2012. - Vol. 120, № 3. - P. 385-392. DOI: 10.1289/ehp.1103805
- Лайшев К.А., Забродин В.А. Проблемы ветеринарного благополучия по инфекционным болезням в Северном оленеводстве // Farm Animals. - 2012. - Т. 1, № 1. - С. 36-40.
- Павлова С.Н., Барахова Л.Д. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Республики Саха (Якутия) // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2013. - Т. 9, № 47 (236). - C. 44-52.
- Проблемы безопасности сибиреязвенных скотомогильников / В.В. Галкин, М.Н. Локтионова, Е.Г. Симонова, О.С. Хадарцев // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2007. - № 6. - С. 55-57.
- Гаврилов В.А. Перспективы решения проблемы биологической опасности сибиреязвенных скотомогильников // Дезинфекция. Антисептика. - 2010. - Т. 1, № 3. - С. 12-15.
- Гаврилов В.А., Грязнева Т.Н., Селиверстов В.В. Почвенные очаги сибирской язвы: реалии и проблемы // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. - 2017. - № 8. - С. 17-22.
- Дягилев Г.Т., Неустроев М.П. Эпидемиологическая и эпизоотическая ситуация по сибирской язве в Республике Саха (Якутия) // Ветеринария и кормление. - 2019. - № 7. - С. 11-13.
- Каратаева Т.Д., Васильева А.А. Эпизоотическая обстановка по сибирской язве и ее профилактике в Республике Саха (Якутия) // Вестник ветеринарии. - 2007. - № 40-41. - С. 106-112.
- Эпизоотолого-эпидемиологический мониторинг сибирской язвы в арктической и восточной зонах Якутии / Г.Т. Дягилев, В.Ф. Чернявский, И.Я. Егоров, О.Н. Софронова, О.И. Никифоров // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. - 2019. - Т. 24, № 2. - С. 95-105.
- Revich В., Podolnaya М. Thawing of permafrost may disturb historic cattle burial grounds in East Siberia // Global Health Action. - 2011. - № 4. - P. 8482. DOI: 10.3402/gha.v4i0.8482
- Летом 2016 г. на фоне крупной и продолжительной температурной аномалии в Ямало-Ненецком автономном округе наблюдается вспышка заболеваемости оленей сибирской язвой. Пресс-релиз 6 августа 2016 [Электронный ресурс] // Институт глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля. - 2016. - URL: http://old.igce.ru/page/news_06082016 (дата обращения: 12.09.2020).
- Опыт ликвидации вспышки сибирской язвы на Ямале в 2016 году / под ред. А.Ю. Поповой, А.Н. Куличенко. -Ижевск: ООО «Принт-2», 2017. - 313 с.
- Теребова С.В. Мониторинговые исследования вспышек сибирской язвы // Аграрный вестник Приморья. -2017. - Т. 8, № 4. - С. 42-47.
- Суслопаров Г.А., Кузин А.А., Ланцов Е.В. Медико-географическая характеристика природных и социальных условий развития эпидемического процесса на территории Ямало-Ненецкого автономного округа // Вестник Российской военно-медицинской академии. - 2018. - № S1. - C. 196-199.
- Перевертин К.А., Васильев Т.А. Эксцессы рисков палеобиозагрязнения ландшафтов в условиях глобального потепления // Материалы VI Конференции «Математическое моделирование в экологии «ЭкоМатМод-2019». - 2019. -С. 158-160.
- Сибирская язва на Ямале: оценка эпизоотологических и эпидемиологических рисков / Е.Г. Симонова, С.Ф. Картавая, А.В Титков., М.Н. Локтионова, С.Р. Раичич, В.А. Толпин, Е.А. Лупян, А.Е. Платонов // Проблемы особо опасных инфекций. - 2017. - № 1. - С. 89-93.