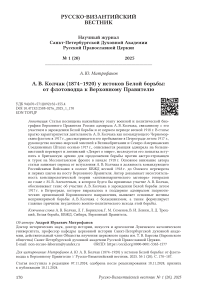А. В. Колчак (1874–1920) у истоков белой борьбы: от флотоводца к Верховному правителю
Автор: Митрофанов А.Ю.
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 1 (20), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена важнейшему этапу военной и политической биографии Верховного Правителя России адмирала А. В. Колчака, связанному с его участием в зарождении Белой борьбы и ее первом периоде весной 1918 г. В статье кратко характеризуется деятельность А. В. Колчака как командующего Черноморским флотом в 1917 г., рассматривается его пребывание в Петрограде летом 1917 г., руководство военно-морской миссией в Великобритании и Северо-Американских Соединенных Штатах осенью 1917 г., описывается реакция адмирала на большевистский переворот и ленинский «Декрет о мире», исследуется его попытка вступить в британскую армию для продолжения борьбы против австро-германцев и турок на Месопотамском фронте в начале 1918 г. Основное внимание автора статьи занимает период от вступления А. В. Колчака в должность командующего Российскими Войсками в полосе КВЖД весной 1918 г. до Омского переворота и первых шагов на посту Верховного Правителя. Автор доказывает несостоятельность конспирологической теории «антимонархического заговора» генералов во главе с М. В. Алексеевым, в котором будто бы принимал участие А. В. Колчак, обосновывает тезис об участии А. В. Колчака в зарождении Белой борьбы летом 1917 г. в Петрограде, которое выражалось в поддержке адмиралом патриотических организаций Корниловского направления, выявляет основные мотивы непримиримой борьбы А. В. Колчака с большевизмом, а также формулирует главные причины неудачного военно-политического исхода этой борьбы.
А. в. колчак, л. г. корнилов, г. м. семенов, в. и. ленин, л. д. троцкий, белая борьба, квжд, сибирь, верховный правитель
Короткий адрес: https://sciup.org/140309234
IDR: 140309234 | УДК: 94(470+571)(092):32+355.4 | DOI: 10.47132/2588-0276_2025_1_170
Текст научной статьи А. В. Колчак (1874–1920) у истоков белой борьбы: от флотоводца к Верховному правителю
E-mail: ORCID:
E-mail: ORCID:
«Его ждали, как избавителя» 1 …
Путь вице-адмирала Александра Васильевича Колчака (1874–1920) к верховной власти, неоднократно описанный в научной и популярной литературе, нуждается в дальнейших исследованиях. Почему самый молодой русский вице-адмирал, с лета 1916 по лето 1917 гг. являвшийся командующим Черноморского флота, приобрел всероссийскую общественную известность? Как талантливый полярный исследователь и выдающийся флотоводец, преданный океанографии и военноморской службе, стал Белым вождем и приобрел верховную власть над Российским государством в тяжелейший период Гражданской войны? Каким образом А. В. Колчак осмыслял возложенный на него груз государственной ответственности в условиях русской смуты?
Как уже отмечалось нами в предыдущих публикациях, по словам А. В. Колчака, февральский переворот 1917 г. был для него как для командующего Черноморским флотом полной неожиданностью2. При этом А. В. Колчак по долгу службы был хорошо знаком с начальником Штаба Верховного Главнокомандующего генералом от инфантерии М. В. Алексеевым (1857–1918)3. Свидетельство А. В. Колчака разрушает конспирологическую теорию «антимонархического заговора» генералов во главе с Алексеевым4 и опровергает домыслы некоторых современных авторов, утверждающих, что Колчак вместе с Алексеевым принимал участие в «антимонархическом заговоре»5.
После отречения Императора Николая II за себя и за Наследника Цесаревича Алексея Николаевича А. В. Колчак обратился к личному составу Черноморского флота. Командующий заявил о подчинении признанному Великим Князем Михаилом Александровичем (1878–1918) Временному правительству, призвал личный состав исполнить свой долг и довести войну до победы. Однако содержание телеграммы А. В. Колчака от 6/19 марта 1917 г., по мнению А. В. Смолина, создает впечатление сознательного дистанцирования адмирала от новой власти. А. В. Колчак телеграфировал в Петроград: «Команда и население просили меня послать от лица Черноморского флота приветствие новому правительству, что мною и исполнено»6.
Революционное разложение Русской армии и флота, начавшееся после издания Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов знаменитого Приказа № 1 (1/14 марта 1917 г.), потребовало от А. В. Колчака самых энергичных действий, направленных на противодействие процессам целенаправленного разрушения Русских вооруженных сил.
Деятельность А. В. Колчака по наведению порядка на Черноморском флоте после февральского переворота достаточно хорошо освещена в специальных публикациях7, поэтому мы не будем подробно на ней останавливаться. Отметим лишь, что уже весной 1917 г. А. В. Колчак сформировал собственное отношение к происходящему «углублению революции», т. е. к систематическому разложению армии и флота, осуществляемому Петроградским Советом в условиях двоевластия, а также к деятельности большевиков.
В 1918 г. А. В. Колчак, вспоминая это трагическое время, писал: «В конце апреля мне пришлось… побывать в Петрограде в те памятные дни, когда первое Временное Российское правительство фактически потеряло свою власть, перешедшую в руки интернационального сброда Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов с Лениным и Троцким… В эти несчастные дни гибели русской государственности на политической арене появились две крупные фигуры — своего рода символы: один — государственной гибели, другой — попытки спасти государство: я говорю о Керенском и генерале Корнилове. В это же время на военном совете в Пскове под председательством Верховного главнокомандующего генерала М. В. Алексеева я впервые с совершенной убедительностью понял, что война с Германией, несмотря на полную возможность доведения ее в этом году до победоносного конца, проиграна безвозвратно, и, вернувшись в Черное море, я счел долгом открыто об этом заявить флоту, которым я в то время еще фактически командовал… Я совершенно определенно указал, что путь, на который вступила наша революция, есть путь государственной гибели, связанной с проигрышем европейской войны… С появлением Керенского во главе Российского правительства работа большого германского генерального штаба соединилась с поразительными легкомыслием и демагогической деятельностью Керенского и окружающих его членов Совета министров: Петроградский совдеп был представителем первого рода деятельности, а правительство изображало вторую половину работы»8. В этих строках А. В. Колчак исчерпывающим образом формулирует свое беспристрастное отношение к «революционной демократии».
25 апреля / 8 мая 1917 г. А. В. Колчак выступал перед матросами и солдатами в Севастопольском цирке, где произнес замечательную речь о необходимости защищать Родину и вести войну до победы. Адмирал прямо предупреждал матросов и солдат об опасности морального разложения армии и флота для государственного организма: «Мы стоим перед распадом и уничтожением нашей вооруженной силы, во время мировой войны, когда решается участь и судьба народов оружием и только при его посредстве. Причины такого положения лежат в уничтожении дисциплины и дезорганизации вооруженной силы и последующей возможности управления ею или коман-дования»9. Но голос адмирала не был услышан солдатскими и матросскими массами, стремительно терявшими человеческий облик в жажде «грабить награбленное»10.
До определенного момента А. В. Колчак сохранял авторитет и популярность среди матросов. Созданный в марте 1917 г. Центральный военный исполнительный комитет Черноморского флота (ЦВИК) признал единоначалие А. В. Колчака как командующего. Мнение О. Р. Айрапетова, утверждающего, что вице-адмирал Колчак несет ответственность за создание ЦВИК — структуры, «которая организует массовое убийство офицеров гарнизона и флота и обеспечит позорный развал того и другого»11, — несостоятельно, поскольку массовое убийство офицеров гарнизона и флота и позорный развал того и другого осуществлял в декабре 1917 — феврале 1918 гг. (т. е. уже при большевиках) не ЦВИК, а Центрофлот (ЦКЧФ), созданный постановлением Севастопольского Совета военных и рабочих депутатов 13/26 июля 1917 г., т. е. спустя более месяца после отказа Колчака от командования флотом и его отъезда в Петроград. В начале июня 1917 г. в Севастополе произошел матросский бунт, организованный под влиянием агитаторов-балтийцев. Во время бунта А. В. Колчак отказался отдать разбушевавшимся «братишкам» Георгиевское оружие и выбросил его в море. 6 июня 1917 г. (с. с.) вице-адмирал сложил с себя полномочия командующего и вместе со своим начальником штаба капитаном 1-го ранга М. И. Смирновым (1880–1940) был вызван в Петроград телеграммой военного и морского министра А. Ф. Керенского (1881–1970). В телеграмме А. Ф. Керенский возложил ответственность за бунт матросов на А. В. Колчака и М. И. Смирнова, чем оскорбил доблестных офицеров, неоднократно предупреждавших военного и морского министра о пагубности его военной политики. А. В. Колчак имел полное право отказаться от командования, ибо сложившаяся в Севастополе обстановка матросского бунта в силу представлений вице-адмирала об офицерской чести делала невозможным дальнейшее исполнения им своих обязанностей командующего.
В Петрограде А. В. Колчак очень быстро стал чрезвычайно популярен среди офицеров, многие из которых видели в нем потенциального диктатора, способного ликвидировать Петроградский Совет, спасти Отечество от революционного разложения и австро-германского нашествия. А. В. Колчак контактировал в это время с представителями ряда патриотических организаций, например, с членами «Республиканского центра», с председателем главного комитета «Союза офицеров армии и флота» отставным капитаном Л. Н. Новосильцевым (1872–1934), с «Военной лигой» и с лидером кадетской партии П. Н. Милюковым (1859–1943). Сам А. В. Колчак вспоминал о встрече с Л. Н. Новосильцевым в письме А. В. Тимиревой, написанном не позднее 28 июня 1917 г.: «Являлась ко мне делегация офицерского союза с фронта и поднесла оружие с крайне лестной надписью. Я очень тронут таким отношением к моим настоящим деяниям и заслугам офицеров фронта, но я в душе предпочел бы, чтобы оснований, вызвавших это внимание, не существовало бы вовсе»12. Действительно, делегация офицеров во главе с Л. Н. Новосильцевым вручила Колчаку саблю с надписью: «Рыцарю чести от Союза офицеров армии и флота» взамен выброшенного за борт в Севастополе Георгиевского оружия. Как впоследствии отмечал генерал-лейтенант А. И. Деникин (1874–1947), «позднее, может быть и одновременно, многими организациями делались определенные предложения адмиралу Колчаку во время пребывания его в Петрограде. В частности, “Республиканский центр” находился в то время в сношениях с адмиралом, который принципиально не отказывался от возможности стать во главе движения. По словам Новосильцева, которому об этом говорил лично адмирал, доверительные разговоры на эту тему вел с ним и лидер к. д. партии. Вскоре, однако, адмирал Колчак по невыясненным причинам покинул Петроград, уехал в Америку и временно устранился от политической деятельности»13.
Как известно, 6 апреля 1917 г. (н. с.) Северо-Американские Соединенные Штаты вступили в Великую войну на стороне Антанты. Это событие обусловило интерес американского военно-морского ведомства к боевому опыту Русского императорского флота в период войны и предопределило победу Антанты. 27 июня 1917 г. (с. с.) посол САСШ14 в Петрограде официально запросил разрешение Временного правительства назначить А. В. Колчака главой русской военно-морской миссии, направлявшейся в Америку. Почти через месяц, 18 июля 1917 г. (с. с.), был издан приказ № 186 по флоту и морскому ведомству о назначении вице-адмирала А. В. Колчака и капитана 1-го ранга М. И. Смирнова в состав миссии15.
По воспоминаниям Л. Н. Новосильцева, «когда я был у Колчака, то он мне сказал, что ему, в сущности, предложено поступить в американский флот, но он счел это неудобным, и американцы предложили ему быть инструктором флота… Он интересовался, что, собственно, сделано — какие планы. Говорил, что, если надо, то он останется, но только если есть что-либо серьезное, а не легкомысленная авантюра. Я должен был ему объяснить, что серьезного пока еще ничего не готово, что скоро ничего ожидать нельзя. Я посоветовал ему уехать, а затем вышло так, что Керенский предложил ему уехать чуть ли не в одни сутки. Колчак соглашался даже перейти на нелегальное положение, если бы это было надо, но надобности скоро не предвиделось, в Америке он мог принести больше пользы, и он уехал»16.
Опасаясь политического влияния А. В. Колчака в офицерской среде, 21 июля 1917 г. (с. с.) министр-председатель А. Ф. Керенский распорядился о немедленном отъезде вице-адмирала и близких ему офицеров в заграничную командировку17. Отъезд состоялся 27 июля 1917 г. (с. с.). Первоначально Колчак и его спутники отправились в Берген (Норвегия) под чужими фамилиями в целях конспирации от агентов германской разведки, а затем были переправлены на британских военных кораблях в Англию и далее в САСШ.
Перед отъездом из Петрограда А. В. Колчак надеялся, что в трудный период разложения Черноморского флота ему удастся реализовать свой замысел десанта на Босфор с помощью союзников, в первую очередь при содействии ВМФ САСШ. С горечью делился он в июне 1917 г. своими размышлениями с А. В. Тимиревой: «Мне нет места на родине, которой я служил почти 25 лет, и вот, дойдя до предела, который мне могла дать служба, я нахожусь теперь в положении кондотьера и предлагаю свои военные знания, опыт и способности чужому флоту… По существу, моя задача здесь окончена — моя мечта рухнула на месте работы и моего флота, но она переносится на другой флот, на другой, чуждый для меня народ. Моя мечта, я знаю, имеет вечное и неизменное значение — возможно, что я не осуществлю ее, но я могу жить только с нею и только во имя ее. Вы знаете ее, вероятно. Моя Родина оказалась несостоятельной осуществить эту мечту…»18 Однако американский президент Вудро Вильсон (1856–1924), которого А. В. Колчак посетил с официальным визитом 4/17 октября 1917 г. в Белом Доме19, и представители американского морского командования были более озабочены переброской своих войск во Францию и не проявили к Босфорской операции никакого интереса.
В период кратковременного пребывания военной миссии А. В. Колчака в Великобритании и САСШ адмирал живо следил за событиями в России. В письме А. В. Тимиревой от 17/30 августа 1917 г., написанном на борту британского крейсера «Глончестершир»
в Ирландском море, Колчак, в частности, сообщает: «Из России пришли отвратительные известия. Не умею сказать, как тяжело думать об этом при сознании бессилия если не помочь, то хоть участвовать лично в текущих событиях на своей Родине»20. По всей вероятности, в последующие после 17/30 августа дни, находясь в море, адмирал имел возможность редактировать текст письма перед отправлением и упомянуть в нем свое отношение к новым тягостным известиям из России. Имел ли в виду Колчак самоубийство командующего III-го Конного корпуса генерал-майора А. М. Крымова (1871–1917) в Петрограде и провал Корниловского выступления? Или же подразумевал сведения о возмущении финляндских сепаратистов в Гельсингфорсе? Однозначно ответить на эти вопросы сложно, но нам представляется, что дело Корнилова волновало адмирала больше, чем обстановка в давно покинутой им военно-морской базе Балтийского флота. В письме, датированном 22 августа/3 сентября, Колчак сообщает А. В. Тимиревой о получении радиограммы о падении Риги: «Нами оставлена Рига. Неужели же это не доказательство полной несостоятельности того, что не имеет, в сущности, названия, но почему-то называется “правительством”… Больше всего заботит меня вопрос о флоте и Рижском заливе. С падением Риги все крайне осложняется и будущее кажется совершенно безнадежным»21. Колчак тяготился вынужденным отрывом от событий на Родине, одновременно предчувствуя неизбежное падение Моонзунда. В начале октября (8/21-го числа) 1917 г. он дал согласие на свое выдвижение в качестве кандидата на выборы в Учредительное собрание по списку кадетской партии по Черноморскому флотскому округу22.
Перед отплытием из Сан-Франциско во Владивосток, 9 ноября 1917 г. (н. с.), из американских газет Колчак получил первые известия о большевистском перевороте23. Но эти сведения газетчиков не вызвали у него особого доверия. Прибыв во второй половине ноября 1917 г. в японский порт Йокогаму, Александр Васильевич узнал более подробную информацию о перевороте от русского морского агента в Токио контрадмирала Б. П. Дудорова (1882–1965), бывшего сослуживца Колчака по Порт-Артуру и создателя морской авиации на Балтике.
А. В. Колчак не признал ни советского правительства, ни изданного уже 26 октя-бря/8 ноября 1917 г. ленинского «Декрета о мире», который рассматривался им как акт национальной измены. Вице-адмирал полагал для себя делом чести продолжать войну. Он принял решение вступить добровольцем в английскую армию, дабы продолжать борьбу против австро-германцев и турок на Месопотамском фронте, а затем пробиваться на Юг России.
О своем решении адмирал информирует супругу Софью Федоровну (1876–1956) в письмах от 1 декабря 1917 г. (с. с.) из Йокогамы и от 24 января 1918 г. (с. с.) из Шанхая24.
По дороге в Бомбей, где располагался штаб британской месопотамской армии, в начале 1918 г. А. В. Колчак остановился в Гонконге. В Гонконге в это время находился русский учебный отряд кораблей (вспомогательный крейсер «Орел», миноносцы «Громкий» и «Бойкий»), прибывший под командованием известного подводника-черноморца капитана 1-го ранга Михаила Александровича Китицына (1885–1960) из большевистского Владивостока. Один из гардемаринов отряда впоследствии вспоминал: «Во время нашей стоянки в Гонконге, проездом в Японию25, остановился адмирал Колчак. Все офицеры-черноморцы во главе с Михаилом Александровичем встретились с ним в отеле на берегу. В это время в Сибири уже выступал против большевиков атаман Забайкальского казачьего войска есаул Семенов, но никакой точной информации не было. Не знаю и не помню, о чем говорили наши офицеры с адмиралом, но, кажется, не последнее место занимал вопрос о возможности борьбы с большевизмом. Адмирал в то время, кажется, был весьма скептически настроен и в победу над революционной армией не верил»26. Очевидно, А. В. Колчак, не имевший в начале 1918 г. никаких определенных сведений об антибольшевистском сопротивлении внутри России, действительно полагал, что будущее России, захваченной австро-германскими наймитами, будет решаться за ее пределами, на полях сражений продолжающейся Великой войны.
Но по прибытии из Гонконга в Сингапур А. В. Колчак получил неожиданную рекомендацию британского командования отправляться в Пекин, в распоряжение русского посланника князя Н. А. Кудашева (1868–1925)27. В письме А. В. Тимиревой от 16 марта 1918 г. (с. с.), отправленном из Сингапура, Колчак так характеризовал сложившуюся обстановку: «Английское правительство после последних событий, выразившихся в полном разгроме России Германией, нашло, что меня необходимо использовать в Сибири в видах Союзников и России предпочтительно перед Месопотамией, где обстановка изменилась, в довольно безнадежном направлении»28.
Однако некоторые документы показывают, что идея привлечения А. В. Колчака к организации антибольшевистского сопротивления в Сибири возникла в русских дипломатических кругах в Китае еще в конце января 1918 г. Переговоры по этому вопросу вели между собой русский генеральный консул в Шанхае В. Ф. Гроссе (1869–1931) и посланник в Пекине князь Кудашев29. Они и запрашивали британское командование санкционировать отъезд А. В. Колчака в распоряжение русской дипломатической миссии в Китае. По прибытии А. В. Колчака в Пекин князь Кудашев сообщил ему о зарождении антибольшевистского сопротивления на Дону под руководством генерала от инфантерии М. В. Алексеева (1857–1918) и генерала от инфантерии Л. Г. Корнилова (1870–1918), а также о создании в Маньчжурии первого антибольшевистского вооруженного отряда есаула Г. М. Семенова (1890–1946) и некоторых других отрядов. Князь Кудашев пригласил А. В. Колчака возглавить формирование русских вооруженных сил на Дальнем Востоке, в полосе отчуждения Китайско-Восточной железной дороги.
Уже 15/28 апреля 1918 г. на общем собрании Правления КВЖД А. В. Колчак был избран в это Правление и получил пост начальника Российских войск полосы от-чуждения30. Адмирал, таким образом, формально возглавил разрозненные антибольшевистские формирования, которые до этого существовали в полосе отчуждения под номинальным командованием генерала от кавалерии М. М. Плешкова (1856– 1927) и под общим руководством старого управляющего КВЖД генерал-лейтенанта Д. Л. Хорвата (1858–1937). Еще в ноябре 1917 г. после разоружения красных банд т. н. рютинского совдепа китайскими войсками генерал Хорват оказался перед перспективой захвата КВЖД китайцами. Необходимо было срочно начинать формирование русских антибольшевистских вооруженных сил, которые служили бы гарантом сохранения прежнего статуса КВЖД на переговорах с союзниками и одновременно защищали бы полосу отчуждения от большевиков. Одним из офицеров, приступившим

Колчак и генерал от кавалерии Плешков в Харбине, весна 1918 г.
к формированию подобных вооруженных сил, стал полковник Николай Васильевич Орлов (1870 — после 1939).
Еще 20 декабря 1917 г. (с. с.) полковник Орлов с группой офицеров занял Миллеровские казармы в центре Харбина. К февралю 1918 г. была сформирована 1-я Особая рота Охранной Стражи, собравшая вокруг себя офицеров, в том числе и морских офицеров, юнкеров и добровольцев31.
Как отмечает в своем тенденциозном дневнике живший в Харбине Генерального штаба генерал-лейтенант барон А. П. фон Будберг (1869–1945), А. В. Колчак прибыл в Харбин и приступил к исполнению своих новых обязанностей 10 мая 1918 г. (н. с.)32. Адмирал надеялся сформировать корпус численностью до 20 000 бойцов, 5 000 оставить для охраны полосы отчуждения, а 15 000 повести в наступление на Приморье33.
Как вспоминал впоследствии сам пол- ковник Орлов, офицеры его отряда организовали А. В. Колчаку чрезвычайно радушный прием: «Радость стала полной, когда в Харбин, по приглашению генерала Хорвата, прибыл адмирал Колчак и стал
во главе Российских Войск. Скромность и доступность этого человека сделали его имя еще более популярным в глазах Орловцев. Он даже отказался от почетного караула. — “Этого мне не нужно”, — просто сказал адмирал, — “Прошу только выставлять на ночь к моему вагону, где я буду жить, двух часовых: у меня имеется секретная переписка, и за нее я очень опасаюсь”»34.
Яркая палитра политической жизни Харбина дополнялась еще одним важным штрихом. С марта 1918 г. в Харбине располагалось Временное сибирское правительство под председательством Петра Яковлевича Дербера (1883–1938)35, сформированное в конце января 1918 г. в Томске на базе Сибирской областной думы и в политическом отношении объединявшее эсеров и сибирских областников (автономистов). Это правительство некоторое время претендовало на легитимность. В качестве главного требования оно выдвигало новый созыв разогнанного большевиками 6 января 1918 г. Учредительного собрания и провозглашение автономии Сибири. Разумеется, реальным политическим центром объединения русских антибольшевистских сил на Дальнем Востоке подобное «местное» правительство стать не могло и в итоге не стало. Но его существование весной 1918 г. наряду с правлением КВЖД придавало русским антибольшевистским формированиям на Дальнем Востоке политическую легитимность в глазах союзников.
К сожалению, служба А. В. Колчака в полосе КВДЖ в мае-июне 1918 г. не могла дать ему возможность вести борьбу с большевизмом в общероссийском масштабе. Охрана железнодорожных станций в полосе отчуждения от китайских хунхузов и большевистских элементов представляла собой весьма ограниченную задачу. Первые белые отряды на Дальнем Востоке были малочисленны и в материальном отношении зависели от помощи союзников. А. В. Колчак был в высшей степени щепетильным организатором, особенно в отношении денег. Это обстоятельство вызывало непонимание есаула Г. М. Семенова, который занимался самочинными реквизициями на железной дороге, ссылаясь на то, что его О. М. О. является первым и наиболее активным антисоветским формированием в полосе отчуждения. В результате между военачальниками произошел неизбежный конфликт, который усугублялся разными характерами, различным воспитанием и мировоззрением.
Уже через две недели после большевистского переворота, 18 ноября/1 декабря 1917 г. Г. М. Семенов начал антисоветское выступление на станции Нижняя Березовка (в районе Верхнеудинска, ныне пос. Вагжанова в Улан-Удэ). Обращаясь к съезду сельского населения Забайкалья в Верхнеудинске, Семенов призвал к «беспощадной борьбе с большевизмом». Съезд, несмотря на пестрый политический и социальный состав, проявил трусость, не поддержал Семенова и поручил местному совдепу арестовать офицера и разоружить его небольшой казачий отряд. Но Семенов оказал большевикам вооруженное сопротивление.
Амбиции молодого атамана, создавшего наиболее крупный и боеспособный отряд для борьбы против советской власти на Дальнем Востоке, вскоре создали непреодолимые препятствия для его совместной работы с А. В. Колчаком.
Адмирал привез Семенову деньги в размере 300 000 рублей от управления КВЖД, но не стал передавать их, получив недвусмысленный ответ атамана, что он снабжается японцами36. Полковник Орлов представил подробное описание встречи А. В. Колчака и Семенова на станции Маньчжурия, которое в общем соответствует рассказу Колчака в 1920 г. Орлов отмечает, что по прибытии к месту предполагаемой встречи А. В. Колчак был возмущен тем, что Семенов демонстративно не является в его вагон и пытается сорвать переговоры. Адмирал нервно ходил по вагону до тех пор, пока один морской офицер из конвоя не убедил его пройти в поезд Семенова и попытаться поговорить с атаманом как частное лицо. Из рассказа Орлова следует, что Семенов обработал местное общественное мнение и настроил его против А. В. Колчака. Когда адмирал уезжал, на перроне теснились штатские, в частности, дамы и сестры милосердия, некоторые из которых даже показывали кукиш уходящему адмиральскому поезду37.
В записи за 1 июня 1918 г. генерал-лейтенант А. П. фон Будберг рассказывает скандальный анекдот, в котором, тем не менее, проступают важные элементы мировоззрения А. В. Колчака: «Орловцы дали вечер в честь Колчака и истратили на это 25 тыс. рублей; при этом они поднесли адмиралу попугайско-опереточную форму своего отряда. Благодаря за прием, адмирал перехватил через край и брякнул, что поднесенная ему форма делает его таким же счастливым, каким он был в день получения Георгиевского креста. Через несколько дней к Колчаку явилась депутация от местных Георгиевских кавалеров и выразила ему свое негодование по поводу того, что он позволил поставить на одну доску получение ордена св. Георгия и поднесение ему Орловских штанов»38.
Слова А. В. Колчака о Георгиевском кресте, превратно истолкованные Будбергом, в действительности свидетельствовали о высочайшей степени преклонения адмирала перед Орденом святого Великомученика и Победоносца Георгия. Неслучайно, что уже 8 февраля 1919 г. (н. с.) А. В. Колчак (в отличие от А. И. Деникина и П. Н. Врангеля) восстановил награждение Орденом св. Георгия в рядах своей армии39. Известно, что, будучи Верховным Правителем, адмирал всегда носил на своей форме в любой обстановке георгиевскую ленточку40.
Позднее постановлением Георгиевской Думы, собранной при Штабе Сибирской армии, от 15 апреля 1919 г. (н. с.), за разгром армий противника адмирал А. В. Колчак был награжден орденом св. Георгия 3-й степени. «Принимая эту высокую воинскую награду, — писал в приказе адмирал, — я уверен, что доблестная возрожденная Русская армия не ослабеет в своем порыве и до конца доведет дело освобождения России от врагов и поможет ей снова стать могучей и сильной в среде великих держав мира»41. По словам современного историка А. С. Кручинина, эти слова можно считать программным заявлением А. В. Колчака.
Но в Маньчжурии мечты А. В. Колчака о возрождении Военного ордена и самой Русской армии были еще очень далеки от реального воплощения. Бессудное убийство бывшего преподавателя Хабаровского кадетского корпуса Уманского, по слухам, сотрудничавшего в Хабаровске с большевиками, произведенное чинами отряда полковника Орлова 13 мая 1918 г., разгул семеновских и калмыковских «контрразведок» вдоль железных дорог, самочинные аресты свидетельствовали как об отсутствии воинской дисциплины, так и о невозможности введения строгого единоначалия в белых партизанских отрядах, действовавших в Маньчжурии в этот период. А. В. Колчак при всей своей харизме и воле не мог изменить эту печальную тенденцию. В 1920 г., в красном плену, А. В. Колчак оставил грустные воспоминания об атмосфере, царившей в Харбине в мае-июне 1918 г.: «…в Харбине я не встречал двух людей, которые бы хорошо высказывались друг о друге. Ужасное впечатление у меня осталось от Харбина… Это была атмосфера такого глубокого развала, что создавать что-нибудь было невозможно. Это была одна из причин, почему я так скептически относился к правительству Хорвата, — оно состояло из людей, которые сидели в этой харбинской яме»42.
В Маньчжурии А. В. Колчак был вынужден не столько воевать против большевиков, сколько противостоять Японии. В мае 1918 г. адмирал начал реализовывать свои военные планы и формировать боевую флотилию на реке Сунгари при помощи флотских офицеров и добровольцев. Адмирал провел переговоры с японским представителем генералом Накашимой о возможных совместных операциях против большевиков в Приморье, но после того, как японский генерал завел разговор о неких «компенсациях» за военную помощь, адмирал прервал с ним любые переговоры, сославшись на узость своих полномочий. Японцы проводили враждебную А. В. Колчаку политику, настаивая на передаче всех вооруженных сил в подчинение атаману Семенову, их агенты вели подрывную работу в войсках Колчака (преимущественно среди орловцев) и переманивали бойцов в отряды Семенова и Калмыкова. Однажды под угрозой оказалась личная безопасность адмирала, вынудившая его вызывать в Харбин роту орловского отряда43.
О конфликте А. В. Колчака с представителями японского командования сообщал 11 и 29 мая 1918 г. (н. с.) из Харбина в Пекин управляющий Генеральным консульством в Харбине М. К. Попов44. Уже 17/30 мая 1918 г., т. е. всего лишь через три недели после вступления в должность командующего Российскими войсками в полосе КВЖД, адмирал писал князю Кудашеву: «Пользуюсь случаем доложить Вам о том положении, которое создалось здесь, в Харбине. Положение это я могу характеризовать как угрожающее всему русскому делу на Востоке, и основанием этого положения является деятельность Японии… причина этого, по моему мнению, лежит в нежелании Японии допустить здесь создание какой-либо серьезной вооруженной силы и поддерживать только отдельные, небольшие отряды в полной зависимости от японцев»45.
В итоге А. В. Колчак принял решение отправиться в Японию для выяснения отношений с японским военным командованием при посредничестве представителей других союзных держав, прежде всего Англии и Франции. Решение это было принято Колчаком буквально накануне освобождения Владивостока солдатами Чехословацкого корпуса под командованием генерал-лейтенанта Михаила Константиновича Дитерихса (1874–1937). 29 или 30 июня 1918 г. (н. с.) А. В. Колчак сдал командование войсками, действовавшими в полосе отчуждения КВЖД, генерал-майору Б. Р. Хреща-тицкому (1881–1940) и уехал из Харбина в Японию.
Русский посол в Японии В. Н. Крупенский (1869–1945) организовал встречу А. В. Колчака с начальником японского Генштаба генералом Ихарой и его помощником генералом Гиити Танакой (1863–1929). Встреча не принесла результатов: японцы убедились, что А. В. Колчак занимает независимую позицию и отстаивает на Дальнем Востоке принципы русского великодержавия. Поэтому японское командование не оказало А. В. Колчаку никакого содействия в устранении противоречий с японскими генералами в Маньчжурии и даже постаралось задержать адмирала в Японии (в Нагасаки) под предлогом лечения. В Японии Колчак познакомился с английским представителем генералом Альфредом Ноксом (1870–1964), который оставил об адми- рале самые восторженные отзывы.
После освобождения городов Сибири и Дальнего Востока офицерскими добровольческими отрядами и чехословацкими легионерами А. В. Колчак смог в сентябре 1918 г. выехать из Японии и вскоре прибыл во Владивосток. Там адмирал встретился с председателем организованного в Омске Временного сибирского правительства П. В. Вологодским (1863–1925) и молодым чешским офицером на русской службе Р. Гайдой (1892–1948), который прославился во время освобождения Сибири от большевиков и снискал себе славу «сибирского Бонапарта». Еще в Японии А. В. Колчак принял решение пробираться на Юг России, дабы разыскать семью и продолжать борьбу против большевиков в рядах Добровольческой армии генерала от инфантерии
М. В. Алексеева. 8/21 октября 1918 г. А. В. Колчак был формально исключен из состава Правления КВЖД46. С трудом выехав из Владивостока, в дороге А. В. Колчак написал письмо Верховному Руководителю Добровольческой армии генералу Алексееву с изъявлением намерения вступить в его армию. Но, приехав в Омск 13 октября 1918 г. (н. с.), Колчак узнал о кончине Алексеева (8 октября н. с.), а затем получил приглашение ряда высокопоставленных офицеров и представителей сибирской общественности принять должность военного и морского министра Временного всероссийского правительства

Колчак в Омске, предположительно начало 1919 г.
(Директории), образованного 23 сентября 1918 г. на государственном совещании в Уфе. В конце октября 1918 г. адмирал решил принять данное приглашение47. Несмотря на противодействие атамана Семенова и японского командования на Дальнем Востоке, 4 ноября 1918 г. (н. с.) А. В. Колчак был официально назначен на должность министра указом Временного всероссийского правительства48.

Колчак на фронте, 1919 г.
В Омске А. В. Колчак получил очень тяжелое наследство. Созданный на Волге после восстания Чехословацкого корпуса (летом 1918 г.) антибольшевистский и антигерманский Восточный фронт стремительно разлагался. Остатки разбитой Народной армии Комитета Учредительного собрания отступили осенью 1918 г. к Уфе, Бузулуку и в Оренбургские степи49. Ижевская Народная армия оставила Прикамье. Сибирская Добровольческая армия вела тяжелые бои против войск РККА на Северном Урале. После заключения перемирия на фронтах Великой войны, 11 ноября 1918 г., чехословацкие легионеры больше не хотели воевать против большевиков и покидали фронт. Политическая атмосфера в Омске накалялась вследствие интриг членов партии социалистов-революционеров, недовольных прекращением деятельности КОМУЧа. Представители революционной демократии, из которых состоял КОМУЧ, продемонстрировали свою полную неспособность создать боеспособную вооруженную силу для успешной борьбы против большевиков. А. В. Колчак с первых же дней начал активное преобразование армии, но столкнулся с противодействием главнокомандующего войск Директории генерал-лейтенанта В. Г. Болдырева (1875–1933). В то же время группа патриотически настроенных офицеров, к которой, в частности, принадлежали неформальный представитель Добровольческой армии в Сибири полковник Д. А. Лебедев (1882–1928), бывший командир 1-го Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка полковник В. И. Волков (1877–1920) и офицер того же полка войсковой старшина И. Н. Красильников (1888–1920), с ведома А. В. Колчака организовала военный переворот, состоявшийся 18 ноября 1918 г. (н. с.).
После переворота Совет министров избрал вице-адмирала А. В. Колчака Верховным Правителем России, с производством в чин полного адмирала50.
Так начался крестный путь А. В. Колчака. По словам генерал-лейтенанта А. П. фон Будберга, «на свой пост Адмирал смотрит как на тяжелый крест и великий подвиг, посланный ему свыше»51. В воззвании Верховного Правителя «К населению» от 18 ноября 1918 г. А. В. Колчак объявил: «18 ноября 1918 года Всероссийское Временное правительство распалось. Совет министров принял всю полноту власти и передал ее мне, адмиралу Русского флота, Александру Колчак[у]. Приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны и полного расстройства государственной жизни, — объявляю. Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашенные по всему миру…»52
О происхождении и характере своей власти сам А. В. Колчак отзывался следующим образом: «Меня называют диктатором. Пусть так — я не боюсь этого слова и помню, что диктатура с древнейших времен была учреждением республиканским. Как Сенат древнего Рима в тяжкие минуты государства назначал диктатора, так Совет министров Российского государства в тягчайшую из тяжких минут нашей государственной жизни, идя навстречу общественным настроениям, назначил меня Верховным Правителем»53. Как полагает современный исследователь В. В. Журавлев, принятый А. В. Колчаком титул Верховного Правителя был заимствован участниками Омского заседания Совета министров из Ветхого Завета (в Синодальном переводе), а именно, из 1-й Книги Паралипоменон, где сказано, что мужи Израилевы «…воца-рили Соломона, сына Давидова, и помазали пред Господом в правителя верховного » (1 Пар 29:22). Септуагинта предлагает неверный перевод этого титула, обусловленный влиянием эллинистической идеологии царского двора египетских Птолемеев: καὶ ἔχρισαν αὐτὸν τῷ κυρίῳ εἰς βασιλ έ α; этот перевод был заимствован церковнославянской Елизаветинской Библией. В то время как блж. Иероним в Вульгате переводит титул в соответствии с древнееврейским оригиналом: unxerunt autem Domino in principem (для сравнения современный немецкий перевод: Sie salbten ihn zum Fürsten des Herrn). Вариант Синодального перевода «в правителя верховного » еще более точен. С нашей точки зрения, гипотеза В. В. Журавлева вполне обоснована, учитывая распространенное среди современников понимание Белой борьбы как борьбы не только военнополитической, но борьбы по преимуществу религиозной и мистической54.
В самом начале правления А. В. Колчак поставил перед своим правительством три главные военно-политические задачи: 1) воссоздание боеспособной Русской армии, 2) разгром большевиков, 3) новый созыв Национального учредительного собрания, которому предстояло избрать политическую форму правления Единой и Неделимой России55. Действительно, А. В. Колчак смог за несколько месяцев преобразовать разбитые осенью 1918 г. войска Директории в мощную вооруженную силу, которая уже весной 1919 г. бросила самый серьезный (в то время) вызов существованию советской власти.
В заключение сформулируем основные выводы. Адмирал А. В. Колчак не искал политической популярности и не стремился к власти. Уже весной 1917 г., в Севастополе, Колчак заявил о себе как о непримиримом противнике большевизма и всех тех представителей революционной демократии, которые осуществляли систематическое разложение Русской армии и флота. Оказавшись в Петрограде в июне 1917 г., А. В. Колчак быстро завоевал заслуженный авторитет среди офицерства и рассматривался представителями «Союза офицеров армии и флота», «Республиканского центра» и «Военной лиги» как лидер патриотической оппозиции Временному правительству и возможный диктатор. Сам А. В. Колчак в 1918 г. свидетельствовал о том, что он идейно примкнул к генералу от инфантерии Л. Г. Корнилову задолго до самого Корниловского выступления. Адмирал не успел принять в нем участия вследствие интриг А. Ф. Керенского, отправившего Колчака в июле 1917 г. в заграничную командировку. Но восприятие адмиралом Л. Г. Корнилова, отразившееся на страницах «Автобиографии», не оставляет никаких сомнений в том, что он поддерживал Главковерха и был готов оказать ему активное содействие. Таким образом, в июле 1917 г. как А. В. Колчак в Петрограде, так и Л. Г. Корнилов в Могилеве оказались вместе у истоков Белой борьбы. Ибо, как справедливо отмечал А. И. Деникин, Белое дело как военно-политическое движение зародилось не в период создания Алексеевской организации в Петрограде или антибольшевистского сопротивления юнкеров в Петрограде, Москве, Иркутске и Киеве в октябре 1917 г., но намного раньше, еще летом 1917 г., в период подготовки Корниловского выступления. Главной движущей идеей адмирала, которая вела его на протяжении 1918 г. от Йокогамы до Омска, стало непоколебимое решение бороться за освобождение России от большевизма.
В большевизме А. В. Колчак распознал политическую силу, разрушительную для России и гибельную для ее народа.

Верховный Правитель адмирал Колчак, Омск, 1919 г.
С точки зрения Колчака, наиболее характерными проявлениями политики большевиков и сочувствующих им элементов была антигосударственная деятельность большевистской партии в период Великой войны 1914–1918 гг., систематическое разложение Русской армии и флота в 1917 г. Петроградским Советом при помощи Приказа № 1 и пораженческой агитации, затем октябрьский переворот, ленинский «Декрет о мире» и, наконец, предательский Брестский договор с обреченным на поражение противником в марте 1918 г., который сделал бессмысленными все невероятные усилия и миллионные жертвы, принесенные Россией на алтарь победы.
Во Владивостоке, после встречи с Р. Гайдой, А. В. Колчак утвердился в убеждении, что борьба с большевизмом представляет собой борьбу против засевших в Петрограде и Москве австро-германских наймитов. Это убеждение в будущем предопределило известную недооценку противника как самим адмиралом, так и офицерами его Ставки. Борьба против большевизма воспринималась Колчаком и близкими ему офицерами как военный поход во имя освобождения Родины от иноземных захватчиков. Следствием этого стало определенное недопонимание опасности большевизма как социальной болезни, охватившей значительную часть общества, и отсутствие эффективных мер по наведению порядка в тылу, который уже с весны 1919 г. был наводнен красными партизанами всех мастей: от большевиков до анархистов56. В Омске А. В. Колчак видел свою задачу по-военному слишком узко: формирование боеспособной Русской армии, которая сможет сломить большевизм и создать условия для возрождения национальной России, Единой и Неделимой. К решению этой задачи адмирал хотел приступить еще весной-летом 1918 г. на Дальнем Востоке, и эту же задачу он поставил во главу угла своей политики после того, как стал Верховным Правителем.
Катастрофа, постигшая А. В. Колчака на этом пути, имеет целый ряд причин, рассмотрение которых заслуживает специального комплексного исследования. С нашей точки зрения, одной из решающих причин этой катастрофы был фактор времени. Исторический парадокс заключается в том, что Колчак стал Верховным Правителем и возглавил Белый Восточный фронт слишком поздно. В ноябре 1918 г. завершилась четырехлетняя мировая война, и союзники России потеряли заинтересованность в полномасштабном восстановлении Вос- точного фронта. Чехословацкие легионеры бросили фронт и торопились на пароходы, а британские и американские политики уже в феврале 1919 г. стали искать примирения с большевиками и готовить знаменитое совещание на Принцевых островах57. Правительство А. В. Колчака не было официально признано союзниками, а сформированная Верховным Правителем делегация не была допущена на Версальскую мирную конференцию58. В то время как А. В. Колчак прибыл в Омск, Добровольческая армия генералов М. В. Алексеева и А. И. Деникина, по выражению донского атамана генерала от кавалерии П. Н. Краснова (1869–1947), «завязла на Кавказе» и до лета 1919 г. не могла решать военно-политические задачи общероссийского масштаба.
Однако исторический парадокс заключается также и в том, что А. В. Колчак стал Верховным Правителем и возглавил Белый Восточный фронт слишком рано. В 1919 г. многомиллионное русское крестьянство выжидало, кто победит, ибо еще не успело осознать всю серьезность большевистской угрозы для собственного существования. Это осознание пришло к крестьянам Западной Сибири и Тамбовщины, а также к морякам Кронштадта только в 1921 г., через год после

Верховный Правитель за работой в кабинете, Омск, 1919 г.
героической гибели А. В. Колчака и его армии. Десять лет спустя, в начале 1930-х гг., крестьянство жестоко поплатилось за свою инертность и стало жертвой сталинской коллективизации. Запоздалый характер крестьянской Вандеи во многом предопределил поражение как русской военной интеллигенции и казачества, объединившихся в рамках Белого движения в период Гражданской войны, так и самого крестьянства, пытавшегося сопротивляться советской власти в 1921 г., а затем в период коллективизации. Но разгром и гибель А. В. Колчака привели к тому, что имя адмирала было начертано на нетленных скрижалях русской военной летописи, подобно именам Пересвета и Осляби, а образ адмирала воспринимался уже соратниками — контрадмиралом М. И. Смирновым и генерал-лейтенантом К. В. Сахаровым (1881–1941) — как образ великомученика за Россию.