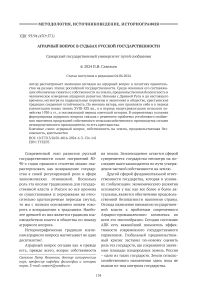Аграрный вопрос в судьбах русской государственности
Автор: Савельев П.И.
Рубрика: Методология, историография, источниковедение
Статья в выпуске: 3 т.6, 2024 года.
Бесплатный доступ
Автор рассматривает эволюцию взглядов на аграрный вопрос и политику правительства на разных этапах российской государственности. Среди основных его составляющих обозначены сюжеты о собственности на землю, продовольственная безопасность и человеческое измерение аграрного развития. Начиная с Древней Руси и до настоящего времени, несмотря на кардинальные перемены в экономике и обществе, крестьянские традиции сохраняют устойчивость. По мнению автора, они проявляли себя и в период колонизации новых земель XVIII-XIX вв., и в период индустриализации сельского хозяйства 1930-х гг., и последующий период советской истории. В современных условиях формулировка аграрного вопроса связана с решением проблемы устойчивого снабжения населения продукцией собственного сельскохозяйственного производства силами непосредственного производителя, то есть крестьянства.
Аграрный вопрос, собственность на землю, продовольственная безопасность, крестьянство
Короткий адрес: https://sciup.org/148330826
IDR: 148330826 | УДК: 93/94 | DOI: 10.37313/2658-4816-2024-6-3-134-141
Текст научной статьи Аграрный вопрос в судьбах русской государственности
EDN: TYUJPZ
Современный этап развития русской государственности после потрясений 8090-х годов прошлого столетия можно охарактеризовать как возвращение государства к своей регулирующей роли в сфере экономических отношений. Поскольку роль эта вполне традиционна для государственной власти в России во все времена ее существования (с перерывами на относительно краткосрочные периоды смуты), то мы с полным основанием можем говорить о возвращении к традициям. Наиболее древней из них является традиция взаимодействия власти и общества по поводу аграрного вопроса.
Историографическая традиция изучения аграрного вопроса насчитывает не одно десятилетие1.
Аграрный вопрос сегодня как и прежде есть, прежде всего, вопрос собственности
на землю. Землевладение остается сферой суверенитета государства несмотря на последние шаги законодателя по пути утверждения частной собственности на землю.
Другой сферой фундаментальной ответственности государства, которая в условиях глобализации экономического развития осознается у нас как все более и более актуальная, является обеспечение продовольственной безопасности населения страны. Отсюда оживление внимания государственной власти к проблемам современного Аграрно-промышленного комплекса во всем его многообразии. Сегодня состояние АПК есть важнейший показатель эффективности современного государственного управления. Глобальный продовольственный кризис заставил по-новому оценить роль тех государств, где сохраняются значимые площади плодородных земель. Россия – одно из таких государств. Земли сельскохозяйственного назначения здесь пока не вышли из-под контроля государства.
Наконец, самый сложный и самый болезненный аспект аграрного вопроса – его человеческое измерение. Крестьянство из абсолютного большинства превратилось в ничтожное меньшинство современного населения страны. Этот тектонический сдвиг в социальной стратификации ставит под вопрос саму возможность возвращения к традиционным ценностям русской государственности. Дело в том, что на крестьянском этосе базировалась государственная идеология исторической России и даже коммунистическая идеология в период существования СССР с его пролетарским интернационализмом. Следовательно, от того, как будет решаться современный аграрный вопрос в России, зависит будущность ее государственности.
Изучение современной деревни неизбежно обращает взор исследователя в прошлое. И дело не в том, что крестьянство есть явление прошлого, отжившего порядка. Известно, что такой взгляд на крестьянство был в свое время очень распространен. Наибольшую дань такому подходу отдали представители марксистского учения. В полном соответствии с теорией прогресса, воспринятой и по-своему переосмысленной классиками марксизма, деревня должна была обрести новый облик и качество, соответствующие индустриальной цивилизации.
В Советской России была проведена в жизнь целенаправленная политика индустриального переворота в деревне через создание государственно-колхозного строя. Однако крестьянская традиция оказалась сильнее. Сохранялась фундаментальная ячейка крестьянского образа жизни – семья. Никакие идеологические влияния не смогли ее переродить. Новая власть была вынуждена в конечном счете примириться с этим.
Необычайная прочность устоев крестьянской жизни указывает на глубину традиции. Семейно-трудовая этика уходит своими корнями в отдаленное прошлое. Она зарождалась в недрах родового строя и уже в те отдаленные времена приобрела аграрный характер. Об этом свидетельству- ют данные практически всех наук, занимающихся изучением славянских древностей. В славянском языке с глубокой древности используются термины, которыми наши далекие предки обозначали хлебные злаки, огородные овощи, сельскохозяйственные орудия2. Первобытная религия славян имела отчетливый земледельческий характер. По мнению Б.А. Рыбакова, точкой отсчета аграрных культов следует считать переход от присваивающего хозяйства к производящему земледельческо-скотоводческому, который «означал крупнейший переворот во всей жизни человечества, в том числе, естественно, и в сфере религиозной»3.
Длительный спор русских историков о первенствующем значении той или иной отрасли сельского хозяйства в Древней Руси завершился убедительным доказательством того, что именно земледелие было главным занятием основной массы ее населения 4 . Уже первые памятники письменности на Руси изобилуют подробными сведениями о развитом, многоотраслевом сельском хозяйстве, центральное место в котором принадлежит землепашеству. Так, в «Русской Правде» мы встречаемся с подробным перечислением элементов земледельческого хозяйства – орудий труда, построек, приспособлений для хранения продукции. Из хлебных злаков называются пшеница, жито, горох, пшено, полба, ячмень 5 .
От урожая хлебов порой зависело не только благосостояние, но и сама жизнь как сельского, так и городского населения. Новгородская I летопись сообщает о народных бедствиях, вызванных недородом: «Том же лете вода бяша велика в Волхове, а снег лежа до Яковля дня, на осень уби мороз вершь всю и озимице; и бысть голод и церез зиму ржи осьминка по полугривне»; «Том же лете стоя все лето ведром, и при-горе все жито, а на осень уби всю ярь мороз; еще же за грехи наши не то зло оставися, но пакы на зиму ста вся зима теплом и дожгем, гром бысть.… О велика скорбь бяше в людях и нужа»; «Изби мраз на Воздвиженье честного хреста обилье по волости нашей, и от- толе горе уставися велико: почахом купити хлеб по 8 кун, а ржи кадь по 20 гривен, а в дворах по пол-30, а пшенице по 40 гривен, а пшена по 50, а овса по 13 гривен, и разидеся град наш и волость наша и полни быша чю-жия грады и страны братье нашей и сестр, а останок почаша мерети»6.
Восприятие неурожая как народного бедствия – еще одно (на этот раз трагическое) свидетельство того, что именно земледелие было основным источником продуктов для пропитания населения Древней Руси.
Суровые условия жизни и труда заставляли древних земледельцев объединяться для совместной обработки земли. Народный социальный опыт породил наиболее совершенную форму организации коллективного труда земледельцев – соседскую общину, основной ячейкой которой была крестьянская семья. Вопрос о соотношении семьи и общины, столь ясный для XIX века, вызывал большие споры применительно к Древней Руси. Известные нам из «Русской Правды» термины «мир» и «вервь» означали, несомненно, общину. Однако была ли это соседская община или объединение кровных родственников? Наиболее вероятен компромиссный вариант сочетания того и другого. Древний «мир» включал в себя большую патриархальную семью как составляющую его единицу. Таким образом, семейно-трудовые ценности русского крестьянства имеют родовое происхождение, ибо центральным звеном их является взаимодействие именно кровных родственников.
Из глубины веков идет и особое отношение крестьян к земле как объекту собственности. Поражающая нас сегодня противоречивая реакция современного сельского населения на введение частной собственности на землю может быть понята в контексте истории хозяйствования на земле. Н.П. Огановский выделял три основных фазиса развития сельскохозяйственного производства: 1) доземледельческий фазис. Охотничье и пастушеское хозяйство. Нет приложения труда к земле и развития ее производительности. Наибольшая подвижность населения; 2) экстенсивное развитие производительности земли вширь без увеличения естественного плодородия почвы. Подразделяется на два периода: подвижное переложное земледелие и оседлое трехполье, когда “производительность земли расширяется посредством увеличения до возможного предела площади посевов в экстенсивных системах, внутри уже занятой под пашней территории”; 3) фазис интенсивного развития производительности земли вглубь путем развития плодородия одной и той же площади7.
Схема Н.П. Огановского отражает движение человека к земле как объекту хозяйства. По мере этого движения замедляется подвижность населения, укрепляется его связь с землей вплоть до установления прочной усадебной оседлости, которая уже для Древней Руси является фактом вполне доказанным. При всех переменах в способе землепользования сохранялось по сути религиозное (языческое в своей основе) отношение к земле как к чему-то данному свыше. Знаменитая крестьянская максима «Земля - Божья» вовсе не является изобретением прошлого столетия. За ней традиция расстоянием не в одно тысячелетие. Характерно то, что понятие собственности (и сам термин) в Древней Руси отсутствует. В русском праве понятие «собственности» возникло не ранее XVIII столетия. В документах того времени можно встретить слова «владение», «вотчина». По мнению профессора Н.Н. Алексеева, «даже в праве императорского периода не было установлено точного различия между владением и собственностью, а в народных представлениях понятия эти совершенно не различались. Замена идеи «собственности» «владением» указывает на то, что в русском праве личности не приписывалась безусловная сила присвоения»8. Поэтому при всей развитости обмена, денежного обращения в древнерусском обществе нет ни одного указания на куплю-продажу земли, нет определения ее стоимости. В денежном из- мерении представлены лишь продукты человеческого труда.
Другой безусловной ценностью в глазах народа было государство. На его алтарь за тысячелетнюю историю российской государственности народ принес огромные жертвы. В период половецкой угрозы была осознана необходимость народного участия в защите Русской земли. Свидетельством тому события 1068 года в Киеве, а также знаменитый спор Владимира Мономаха с другими князьями о привлечении смердов к военному походу. Утрата государственной самостоятельности в период ордынского владычества переживалась народом как трагедия. Плач по утраченной сильной государственности с пронзительной силой выразило «Слово о погибели Русской земли».
В борьбе с игом рождалось новое, Московское государство. В нем воплотился народный идеал сильной центральной власти, способной защитить привычный общинно-семейный быт земледельца как от чужеземной опасности, так и от разорительных княжеских усобиц. Именно в это время складывался в народном сознании образ царя -справедливого и грозного хозяина земли.
В современной этнологической литературе отмечается противоречивый характер отношения русского крестьянства к госу-дарству9. С одной стороны, русский народ, создавший огромную империю, - несомненно, народ-государственник. С другой стороны, нигде не проявлялся с такой силой и завершенностью народный анархизм, как в России. Примерно такая же ситуация и с народной религиозностью, дающей основания для противоположных оценок: «народ-богоносец» и «народ-богоборец». Все эти антиномии отражают одно из характерных качеств русского народного сознания – максимализм и искание абсолютного добра10.
Странное на первый взгляд сочетание совершенно противоположных начал в русском крестьянстве может быть в известной мере объяснено его восприятием тех сил, которые, по его мнению, олицетворяли высшую справедливость или «Правду». Взор крестьянина был обращен сразу к вершинам светской и духовной власти. И взор этот был полон надежды: «Знает Бог да великий государь»; «Не в силе Бог, но в правде». Все посредники между ним и высшей властью по большей части вызывали раздражение, а порой и агрессию. Народ не доверял вельможам, но особенно чиновникам, судейским: «Жалует Царь, да не жалует псарь», «Царские милости сквозь боярское сито сеются», «Помути, Господи, народ, да покорми воевод», «Бог сотворил два зла: приказного и козла», «Дьяк у места, что кот у теста: а дьяк на площади, то Боже пощади», «Не бойся закона, бойся судьи», «Тот и закон, как судья знаком», «Подпись судейская, а совесть лакейская», «Судьям полезно, что им в карман полезло» и т.п.11
Ранние представления крестьян о государстве трудно восстановить. Слишком отрывочны и скудны сведения на этот счет. Вместилищем крестьянской жизни издревле была община – «мир». «Русская Правда» донесла до нас еще один термин – «вервь». Община имела свою территорию и к XII в. была объединением соседского типа, о чем свидетельствует обычай «дикой виры», т.е. уплата штрафа за убийство в складчину (Русская Правда. Пространная редакция. Ст. 4-8)12. Через общину осуществлялась связь крестьян с институтами государства. Лишь в случае персональной вины за убийство и неучастия в складчине наступала личная ответственность (головничество – Русская Правда. Пространная редакция. Ст. 5, 8)13.
Судя по всему именно община отвечала за выплату «полюдья», т.е. основной повинности крестьян перед государством. Княжеский суд, который вершился в основном в период полюдья, вероятнее всего проходил в волостных центрах. Община-вервь была также первичной ячейкой по сбору и снаряжению участников народного ополчения – воев.
Объединение общин-миров составляло «землю». Объединение «земель» под властью Дома Рюриковичей привело к созданию Древнерусского государства. Эта своеобразная федерация просуществовала до периода раздробленности, когда большинство составляющих ее земель превратилось в самостоятельные государства. В силу своего внешнего характера варяжская династия, выполнявшая, по мнению С.М. Соловьева, лишь правительственную функцию, не могла изменить сложившийся государственный строй как иерархию общин разного уровня, во главе которой был крупный город – центр «земли». Такой тип государственности создавал условия для неопосредованного какими-либо государственными институтами личностного отношения крестьян к судьбам своей общины, «земли», в том числе всей Русской земли (позднее – России) в целом. Таким же неопосредованным было восприятие высшей власти, имевшее во многом патриархальный характер. Отсюда и закрепившийся в сознании народа образ «царя-батюшки».
Важнейшее значение для всей истории русского крестьянства имело освоение новых земель. Аграрный вопрос в России со времен средневековья был вопросом ко-лонизации14. Она формировала у крестьян представление о необозримо большом географическом пространстве государства, о его могуществе и защите.
Колонизация была делом крестьянским и государственным. В разные времена она имела различные побудительные мотивы: натиск кочевников, карательные экспедиции ордынцев, стремление увеличить запашку в малоплодородных северо-восточных районах, позднее – бегство от притеснений помещиков. При этом колонизация всегда была расширением ареала русской государственности, потому что последняя жила в каждой крестьянской душе.
В XVIII – XIX веках переселения крестьян на свободные земли российских окраин приобретают более упорядоченный характер. Все чаще инициатором их становится государственная власть. Однако вольная колонизация сохранялась во все времена. Вольные переселенцы были истинными пассионариями. Это были смелые, решительные люди. Они рисковали своим иму- ществом, здоровьем, а часто и самой своей жизнью. Порой на новых местах, особенно в степи, им приходилось держать круговую оборону, защищаясь от враждебно настроенных кочевников. Не случайно крестьянские подворья в степных районах имели вид хорошо укрепленных со всех сторон строений. Не менее важным было и такое качество, как предприимчивость. Чтобы выжить в экстремальных условиях, нужно было многое знать и уметь, быстро обретать новый опыт, в том числе и опыт общения с местным иноязычным населением15.
Как видим, исторически русская государственность складывалась в контексте аграрного вопроса, главного вопроса народной жизни, и поэтому сама была воплощением народного идеала власти, которая только и может решить этот «вопрос вопросов» по справедливости. Не случайно именно аграрный вопрос оказался в центре всех революционных потрясений, а аграрная программа большевиков, сформулированная с учетом крестьянских наказов, дала этой не самой популярной и далеко не самой тогда влиятельной партии решающее преимущество в борьбе за власть.
Аграрная политика Советской власти вскоре опрокинула все надежды идеологов и сторонников кооперативного аграрного строя, основанного на семейно-трудовом типе крестьянского хозяйства, но это была государственная власть, и крестьянство в конце концов смирилось с колхозно-совхозным огосударствлением деревни. Подмена древней максимы «Земля – Божья» новой «Земля – Государственная» была осознана далеко не сразу, а возможно, так никогда и не была осознана самой деревней. Воля пролетарского государства была поставлена на место воли Божией, а сакрализация государства в сознании русского крестьянина – привычный архетип, реальный до сих пор.
Как бы мы ни превозносили значимость возведения индустриальных гигантов первых пятилеток для судеб новой советской государственности, мы не сможем опровергнуть того факта, что сталинская инду- стриализация вполне традиционно была проведена за счет производительных сил деревни, а урбанизация населения страны – за счет массового перемещения крестьянства. Так было при реализации всех модернизационных проектов власти: петровские реформы стоили России трети всех крестьянских дворов, модернизация Александра II и промышленный бум 90-х годов XIX века были обеспечены выкупными платежами пореформенного крестьянства и т.д.
Аграрный вопрос сохранял свое коренное значение и в период советской государственности. Полное огосударствление собственности на землю подняло планку ответственности партийно-хозяйственных органов власти и управления за продовольственное снабжение населения на небывалую высоту. Продовольственная проблема превратилась в сущий кошмар, нараставший с каждым новым поколением советских руководителей. Н.С. Хрущев пал жертвой народного недовольства социальной политикой в деревне и прежде всего продовольственной политикой, а не хитроумного заговора, как это пытаются представить его либеральные поклонники. Вслед за развенчанием вождей аграрный вопрос привел к развенчанию и крушению всей партийносоветской государственности.
Сегодня аграрный вопрос кажется далеко не первостепенной проблемой народа и власти. Главным источником благосостояния считается добывающая промышленность, которая обеспечивает доходный экспорт нефти и газа. На нефтедоллары можно закупить импортные продукты, что позволяет смягчить последствия острого кризиса собственного сельскохозяйственного производства и создает иллюзию благополучия на продовольственном рынке. Однако такое положение дела таит в себе скрытую угрозу социально-политических потрясений. Недавний резкий скачок цен на продукты питания на мировом рынке – грозное предзнаменование. О нем на время забыли. Все силы государственной власти брошены сейчас на преодоление острейшего финансо- во-экономического кризиса. Но аграрный вопрос неминуемо напомнит о себе в ближайшем будущем, поскольку сохраняются риски продовольственной безопасности России, о чем свидетельствуют как научные исследования, официальные отчеты государственных структур, а также принятие в начале 2020 г. государственной доктрины продовольственной безопасности16. Для ее обеспечения необходимо наладить устойчивое снабжение населения страны продукцией собственного сельскохозяйственного производства. Это возможно только при таком аграрном строе, в котором центральное место будет принадлежать непосредственному производителю, то есть крестьянству. Как создать такой аграрный строй – это и есть современный аграрный вопрос, от решения которого зависят судьбы современной российской государственности.