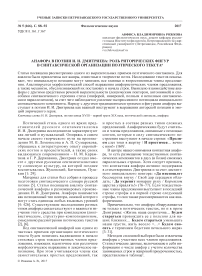Анафора в поэзии И. И. Дмитриева: роль риторических фигур в синтаксической организации поэтического текста
Автор: Рожкова Анфиса Владимировна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 5 (166), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению одного из выразительных приемов поэтического синтаксиса. Для анализа были привлечены все жанры, известные в творчестве поэта. Исследование текстов показывает, что инициальную позицию могут занимать все главные и второстепенные члены предложения. Анализируется морфологический способ выражения анафористических членов предложения, а также механизм, обусловливающий их постановку в начала строк. Выявлено взаимодействие анафоры с другими средствами речевой выразительности (лексическим повтором, антонимией) и способами синтаксического строения стиха (эпифорой, инверсией, полным и неполным синтаксическим параллелизмом), за счет чего наблюдается усиление экспрессивного потенциала инициального синтаксического компонента. Наряду с другими традиционными тропами и фигурами анафора выступает в поэзии И. И. Дмитриева как важный инструмент в выражении авторской позиции и эмоций лирического героя.
И. и. дмитриев, поэзия конца xviii - первой трети xix века, поэтический синтаксис, анафора
Короткий адрес: https://sciup.org/14751224
IDR: 14751224 | УДК: 811.161.1367
Текст научной статьи Анафора в поэзии И. И. Дмитриева: роль риторических фигур в синтаксической организации поэтического текста
Поэтический стиль одного из ярких представителей русского сентиментализма И. И. Дмитриева исследователи характеризуют как легкий и музыкальный. Опираясь в самом начале своего творческого пути на произведения М. В. Ломоносова и А. П. Сумарокова, обращаясь к литературному опыту европейских поэтов и просветителей, а также своих выдающихся современников – Н. М. Карамзина и Г. Р. Державина, Дмитриев создал вместе с другими русскими сентименталистами ту словесную культуру, на которой позднее воспитывались Жуковский, Батюшков, Пушкин [1: 29].
Материал для статьи был собран в процессе подготовки синтаксического словаря русской поэзии [5]. Статья посвящена анализу синтаксической анафоры в разножанровых произведениях И. И. Дмитриева. Анафора понимается как позиционный тип повтора, основой которого могут стать единицы любых языковых уровней [4: 426]. Существующие исследования разных типов анафоры свидетельствуют о важности изучения этого средства при комплексном (лингвистическом, структурно-композиционном, смысловом) рассмотрении поэтических текстов [2], [6].
Под синтаксической анафорой как одним из частных приемов организации поэтического текста будем понимать выдвижение в начало стиховых строк тождественных членов предложения, имеющих идентичное или различное морфологическое выражение и лексическое наполнение. При этом учитываются члены как самостоятельных простых предложений, так и простых в составе разных типов сложных предложений. Анафорическими будут считаться и члены предложения, связанные с помощью союзов, которые в силу синтаксического построения выступают в начале строки: «Проли-ем слез токи в жертву / И простимся… вечно с ним!» (169)1.
В центре нашего внимания контактная анафора, то есть размещение тождественных синтаксических компонентов в двух (и более) смежных параллельных строках. Хотя следует признать, что контактная анафора активно поддержана в стихотворениях Дмитриева и за счет дистантного инициального повтора: « Да ниспошлет бессмертна внуку / Свой дар сердцами обладать; / Да укрепит монаршу руку / Кормилом царства управлять!» (76–77). Если тождественные члены предложения выступают в последней строке строфы и в первой строке следующей строфы, то они также рассматриваются как анафорические.
Примечательно, что анафора обнаруживается не только в поэтических текстах, но и в прозе Дмитриева: «Жизнь наша скоротечна… Будем стараться провождать ее с пользою для наших ближних… Будем стараться уменьшать наши грусти, жить весело <…> Будем сносить с терпением бедствия печального мира» [3: 31].
Методом сплошной выборки были извлечены анафоры с участием всех членов предложения. Статистические данные, включающие в себя информацию о числе анафор с учетом количества занимаемых строк и жанровой приуроченностью, представлены в таблице2.
|
Члены предл. Жанры |
Подлежащее |
Сказуемое |
Главный член односоставного предложения |
Дополнение |
Определение |
Обстоятельство |
|
двустрочная анафора – 207 (73) |
||||||
|
Аполог |
9 |
1 |
(1) |
|||
|
Басня |
12 (3) |
17 (1) |
2 |
4 |
2 (1) |
|
|
Внежанровое стихотворение |
20 (12) |
19 (2) |
12 (4) |
8 |
8 (1) |
10 (8) |
|
Идиллия |
1 |
|||||
|
Мадригал |
(1) |
|||||
|
Надпись |
1 |
(1) |
||||
|
Ода |
3 (2) |
9 (2) |
3 (1) |
4 (1) |
5 (4) |
|
|
Песня |
4 |
(2) |
||||
|
Подражание |
2 |
2 (1) |
1 |
(3) |
||
|
Послание |
2 |
4 (2) |
(3) |
2 |
||
|
Романс |
2 |
2 |
1 |
1 |
||
|
Сказка |
8 (2) |
9 (1) |
2 (1) |
1 |
2 |
9 (5) |
|
Элегия |
(1) |
1 |
2 (1) |
2 (1) |
(2) |
|
|
Эпиграмма |
(1) |
|||||
|
Эпитафия |
(1) |
(1) |
||||
|
Всего |
62 (23) |
66 (10) |
22 (12) |
19 (2) |
11 (1) |
27 (25) |
|
трехстрочная анафора – 30 (7) |
||||||
|
Басня |
4 (1) |
1 |
1 |
1 |
||
|
Внежанровое стихотворение |
2 (1) |
6 (1) |
4 (1) |
|||
|
Идиллия |
1 |
(1) |
||||
|
Ода |
1 |
|||||
|
Подражание |
1 |
|||||
|
Послание |
(1) |
1 |
1 |
|||
|
Романс |
(1) |
1 |
||||
|
Сказка |
4 |
1 |
||||
|
Всего |
10 (4) |
8 (1) |
7 (1) |
1 |
1 |
3 (1) |
|
четырехстрочная анафора – 8 (1) |
||||||
|
Басня |
2 |
|||||
|
Внежанровое стихотворение |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
Подражание |
(1) |
|||||
|
Сказка |
1 |
1 |
||||
|
Всего |
2 (1) |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
|
пятистрочная анафора – 4 |
||||||
|
Басня |
1 |
|||||
|
Внежанровое стихотворение |
1 |
|||||
|
Романс |
1 |
|||||
|
Сказка |
1 |
|||||
|
Всего |
3 |
1 |
||||
В следующих примерах отражены типичные случаи организации синтаксической анафоры с использованием главных и второстепенных членов предложения.
Сказуемое как компонент синтаксической анафоры представлено следующими примерами: • однородные сказуемые, выраженные формами повелительного наклонения глаго- лов 2 лица ед. ч.: «Шуми, Иртыш, реви ты с нами / И вторь плачевным голосам!» (78);
-
• простые сказуемые, выраженные личными формами глагола: «<…> Сотрутся обелисков виды; / Исчезнут Ксерксовы полки <…>» (75);
-
• однородные сказуемые, выраженные личными формами глагола: «Бесперестанно он копы-шется везде, / Гоняется за мной на суше, по
воде, / Заползывает в грот, встречается в аллее, / Я в церковь, он туда ж!» (102);
-
• именные части сказуемого, выраженные краткими прилагательными: « Страшна твоя, царица, власть! / Страшна твоя и прозорливость…» (74).
Синтаксическая анафора с использованием главных членов односоставных предложений:
-
• главные члены односоставных определенноличных предложений, выраженные личной глагольной формой: «<…> Люблю с угрюмых скал гремящи водопады; / Люблю и озера спокойный, гладкий вид, / Когда его стекло вечерний луч златит» (122);
-
• главные члены односоставных предложений, выраженные формами повелительного наклонения глаголов 2 лица ед. ч.: « Ходи с поникшею главой; / Шатайся , рвись вкруг сел несчастных <…>» (73);
-
• главные члены односоставных предложений, выраженные инфинитивом: «<…> Опомнясь, под вечер вздохнуть, / Искать пристанища к покою, / Найти его, прилечь и наконец уснуть…» (139).
В некоторых случаях можно условно говорить о синтаксической анафоре из-за инициального повтора разных членов (сказуемого простого предложения и главного члена односоставного предложения), хотя и имеющих сходное морфологическое выражение: «<Так, умница! храни, лелей ты нежный цвет / Под собственной рукою / И удобряй его учения росою. / Пекись , чтоб излиял он райский аромат, / Когда желанный день созрения настанет <…>» (126).
Выдвижение в начало строк глагольного сказуемого (именно оно, за редким исключением, представлено в стихотворениях) можно объяснить актуализацией действий, а также намеренным созданием экспрессии, которая достигается за счет повтора одного и того же глагола: « Приходит нищ сюда – за прах сей бога просит; / Приходит дружество – вздох, стон в груди приносит <…>» (320). Выразительный прием анафорического использования сказуемых, выступающих в двух самостоятельных предложениях, встречаем в известном стихотворении «Стонет сизый голубочек…», в котором повторяется глагол в конце последней строки и в начале первой строки двух разных строф: «С нежной ветки на другую / Перепархивает он / И подружку дорогую / Ждет к себе со всех сторон. // Ждет ее …увы! но тщетно, / Знать, судил ему так рок!» (128). Подобный «подхват» наряду с традиционной внутристрофной анафорой (« Стонет сизый голубочек, / Стонет он и день и ночь <…>»), поддержанный также горизонтальным внутристрочным повтором (ср.: « Сохнет , сохнет неприметно / Страстный, верный голубок»), создает глубокое эмоциональное переживание и напряжение.
Среди отмеченных выше способов выражения главных членов не последнее место занимают императивы: экспрессивный потенциал таких форм во многом усиливается за счет концентра- ции в начале контактных строк. Формы повелительного наклонения включены как в прямую речь лирического героя, так и в прямую речь персонажей. Императивы выражают побуждение к действию, адресованное собеседникам, в качестве которых выступают люди, животные (персонифицированные герои басен), неодушевленные объекты (например, река Иртыш в стихотворении «Ермак»). Как и в случае с глаголами изъявительного наклонения, усиление выразительности императивов также достигается посредством повтора одного слова: «Гряди на трон России с богом, / Гряди, отечества отец!» (77).
Синтаксическая анафора с использованием подлежащего:
-
• подлежащее, выраженное существительным: «<…> Ни нимфы диких гор и бархатных лугов, / Ни боги светлых рек и тихих ручейков / Не слышали еще им незнакомой лиры» (121);
-
• подлежащее, выраженное личным местоимением: «<…> Он вечный мрак простер на вас!» / « Он шел как столп, огнем палящий <…>» (79);
-
• подлежащее, выраженное вопросительным местоимением: « Кто первый поспешит дать искренний совет? / Кто первый по тебе от сердца воздохнет? / Кто первый ободрит бессмертной лиры звуки <…>» (120);
-
• подлежащее, выраженное определительным местоимением: « Один , носок повеся, сел; / Другой вспорхнул, взвился, летит, летит стрелою <…> » (198).
Синтаксическая анафора с использованием определения:
-
• определение, выраженное полным прилагательным: « Надменный дуб, главу меж прочих возносящий, / И светлый оный щит, внизу его висящий» (257);
-
• определение, выраженное притяжательным местоимением: «Тверди во всякую минуту / Темирину над сердцем власть, / Ее ко мне жестокость люту, / Мою к ней пламенную страсть!» (271);
-
• определение, выраженное порядковым числительным: « На третий слушают, не поднимая глаз; / В четвертый – с робостью отказ; / На пятый – слабое упорство и смятенье; / В шестой – ни да, ни нет, и страх, и сожаленье; / В седьмой – без головы; / В осьмой – увы!» (347–348);
-
• определение, выраженное инфинитивом: «Итак, еще имел я в жизни утешенье / Внимать журчанию домашнего ручья, / Вкусить покойный сон под кровом, где родился, / И быть в объятиях родителей моих!» (154). Синтаксическая анафора с использованием дополнения:
-
• дополнения, выраженные падежными формами существительных: «Я видел войско сопо-стат: / Как змий, хребет свой изгибает, / Главой уже коснулось врат; / Хвостом всё поле покрывает» (84);
-
• дополнения, выраженные сочетаниями существительных с предлогами: «Да увенчают россияне / Из злата вылитый твой зрак, / Из ребр Сибири источена / Твоим булатным копием!» (82);
-
• дополнения, выраженные личным местоимением с предлогом: « <…> С тобой и дика степь Тибуллу будет раем; / С тобою он готов быть зноем прожигаем <…> (143);
-
• дополнения, выраженные определительным местоимением: «А я / Теперь же, будто на ладоне, / Всё вижу на версту вокруг / И всё пересказать готова, – слушай, друг <…>» (219).
Синтаксическая анафора с использованием обстоятельств:
-
• обстоятельства, выраженные сочетаниями существительных с предлогом: « В театре всякий день, оттоле / В Тиволи и Фраскати, в поле» (348);
-
• обстоятельства, выраженные наречиями: « Уже с них сыплет пот, как град; / Уже в них сердце страшно бьется <…>» (80).
Механизм возникновения анафоры тесно связан с синтаксическим строем, а именно типами предложений и распределением их компонентов в пределах смежных строк: «Волк, полуночный тать, / Схватил козленочка. “Не смей его терзать, – / Воскликнул Лев, – пусти!” И волк ему послушен. / Подлец всегда свиреп; герой великодушен» (341). Как видим, в представленном примере сказуемое первого предложения, оторванное от подлежащего осложняющим субстантивным оборотом, «открывает» вторую строку аполога. Во втором предложении с прямой речью слова автора, представляющие собой простое нераспространенное предложение, вынесены в начало третьей строки, и в силу инверсионного расположения главных членов сказуемое выступает в инициальной позиции. Образованная двумя глагольными предикатами анафора подчеркнула характерный для первой части аполога динамизм (ср. обилие глагольных форм во второй и третьей строках), противопоставленный именному характеру последних двух предложений. Нельзя также не отметить связь синтаксической и смысловой организации этого аполога с размером, а именно отличие первой строки, написанной трехстопным ямбом, от остальных шестистопных ямбических строк. Резкий метрический и синтаксический обрыв первой строки обусловил последующий анафорический строй, актуализировал динамизм действий и подчеркнул их внезапность.
В организации синтаксической анафоры можно выделить ключевые особенности и закономерности. Проявляя в основном экспрессивную самодостаточность, анафора часто выступает в комплексе с другими выразительными средствами и фигурами. Например, сочетание анафорического повтора с эпифорой: <…> Тав-ридец, чтитель Магомета, / Поклонник идолов калмык, / Башкирец с меткими стрелами, / С булатной саблею черкес / Ударят с шумом вслед за нами / И прах поднимут до небес! (74). В этом предложении анафорическое расположение однородных подлежащих в первой и третьей строках сочетается с эпифорой в четных строках.
Анафорический компонент в ряде случаев является частью такого приема, как синтаксический параллелизм. Вариант полного параллелизма представлен в стихотворении «Гимн богу», где три строки последней строфы являются стройным по форме и утвердительным по интонации аккордом, завершающим философские размышления лирического героя: «Седя-щий в неприступном свете, / Над мириадами миров, / Ты взором солнцы возжигаешь, / Ты манием миры вращаешь, / Ты духом ангелов творишь, / И словом, мыслию одною – / Сию пылинку пред тобою – / Громаду света истребишь!» (94). Анафора может быть частью не полностью реализованного параллелизма, выраженного в симметричном употреблении отдельных членов: «Признанием к богам и верою полна, / Уже она его во снедь для них готовит ; / Уже дрожащими руками птичку ловит <…>» (152), «Взгляни на ратно поле: / Взгляни на юношей, на этот милый цвет, / Которые летят на смерть по доброй воле, / На смерть прекрасную , сомнения в том нет, / На смерть похвальную , везде пре-возносиму <…>» (230).
В оде «Глас патриота на взятие Варшавы» на фоне лексического и синтаксического рефрена подчеркнута контекстуальная антонимия существительных: « С тобой нам рвы не глубоки, / С тобою низки страшны горы » (74). В стихотворении «Освобождение Москвы» дважды используется этот прием, подчеркивающий значимость описываемого исторического события: «Пирует смерть и ужас мещет / Во град, и в долы, и в леса! Там дева юная трепещет; / Там старец смотрит в небеса <…>» (85), « Трикраты день воссиявал, / Трикраты ночь его сменяла; Но бой еще не преставал / И смерть руки не утомляла <…>» (85).
Посредством анафорического повтора подлежащих, выраженных личными местоимениями, создается подчеркнутое противопоставление персонажей в басне «Змея и Пиявица»: «Да в цели нашей сходства нет: / Я , например, людей к их пользе уязвляю, / А ты для их вреда; / Я множество больных чрез это исцеляю, / А ты и не больным смертельна завсегда» (200). Тема басни связана с острыми социально-политическими вопросами, и под персонажами басни понимаются такие приемы, как сатира и критика. Анафора, наряду с антонимами и противительными союзами, способствует выражению отношения автора к критике и сатире, как к инструментам, использующимся против обличения общественных и политических недостатков самодержавного строя. Для поэта критика является лекарством, а сатира – отравой [3: 57].
Противопоставление персонажей, а также лирического героя и одушевленного объекта лирической эмоции через анафорическое использование личных местоимений я – мы встречается в стихотворениях «Слепец и Расслабленный», «К*** о выгодах быть любовницею стихотворца», «Тише, ласточка болтлива!..», «Песня (Ты клялась мне, ты божилась…)», через оппозицию я – она в стихотворении «Всё ли, милая пастушка…».
Среди стихотворений Дмитриева обращают на себя внимание те, для которых характерно комплексное использование анафор, охватывающих сразу несколько контактных строк. Анафора, представленная в трех и более параллельных строках подряд, хотя и не доминирует, но встречается нередко («Чужой толк», «На мир с Оттоманскою Портою», «Отъезд», «Я» и др.). Рассмотрим пример из стихотворения «Смерть князя Потемкина»: «Уныл внезапу лавр зеленый / Уныл и долу преклонен! / Восстани, свыше вдохновенный, / Восстани, бард, сын всех времен! / Бери обвиту крепом лиру; / Гласи на ней, поведай миру / Печаль чувствительных сердец, Стон воинов непобедимых, / В слезах среди трофеев зримых; / Гласи… Потемкина ко- нец!» (272–273). Примечательно, что разнотипные анафоры – лексическая, морфолого-синтаксическая – сосредоточены в самом начале стихотворения и определяют торжественно-приподнятый тон всего стихотворения, созданного по случаю кончины государственного деятеля и полководца Г. А. Потемкина.
Статистические данные, основанные на исследовании всех, включенных в полное собрание, стихотворений, а также анализ отдельных поэтических образцов с анафорическими построениями позволяют говорить о том, что анафора является важным компонентом в системе традиционных изобразительно-выразительных средств и средств синтаксической экспрессии, к которым обращался автор. Анафора, усиленная лексическим повтором, органично представлена в баснях, язык которых приближен к разговорному, и в одах, где она становится средством, поддерживающим, а в некоторых случаях и задающим эмоционально-приподнятые интонации.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Синтаксический словарь русской поэзии XIX века», № 17-04-00168.
Список литературы Анафора в поэзии И. И. Дмитриева: роль риторических фигур в синтаксической организации поэтического текста
- Виноградов В. В. Из наблюдений над языком и стилем И. И. Дмитриева//Виноградов В. В. Избранные труды. Язык и стиль русских писателей. От Карамзина до Гоголя. М.: Наука, 1990. С. 24-147.
- Глушаков П. Семантическое значение анафоры в структуре поэтического текста//Cuademos de Rusistica Espanola. 2006. № 2. С. 68-80.
- Макогоненко Г. «Рядовой на Пинде воин» (Поэзия Ивана Дмитриева)//Дмитриев И. И. Полное собрание стихотворений. Л.: Советский писатель, 1967. С. 5-68.
- Москвин В. П. Стилистика русского языка: Теоретический курс. Ростов н/Дону: Феникс, 2006. 630 с.
- Патроева Н. В. Проект синтаксического словаря русской поэзии XVIII -первой половины XIX века: первые итоги//Вестник Донецкого национального университета. Сер. Б. Гуманитарные науки. 2016. № 1. С. 52-55.
- Суодене Э. Г. Анафора в лирике М. И. Цветаевой (стилистический аспект): Автореф. дис. канд. филол. наук. Минск, 1990. 23 с.