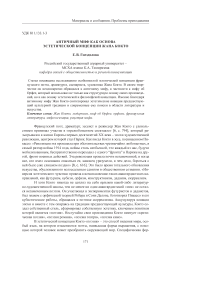Античный миф как основа эстетической концепции Жана Кокто
Автор: Гнездилова Елена Валерьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию особенностей эстетической концепции французского поэта, драматурга, сценариста, художника Жана Кокто. В своем творчестве он неоднократно обращался к античному мифу, в частности к мифу об Орфее, который использовал не только как структурную основу своих произведений, но и как основу эстетической и философской концепции. Именно благодаря античному мифу Жан Кокто синтезировал эстетические новации предшествующий культурной традиции и современные ему поиски в области литературы и искусства.
Жан кокто, модернизм, миф об орфее, орфизм, французская литература, мифологизация, рецепция мифа
Короткий адрес: https://sciup.org/146281348
IDR: 146281348 | УДК: 811.133.1-3
Текст научной статьи Античный миф как основа эстетической концепции Жана Кокто
Французский поэт, драматург, эссеист и режиссер Жан Кокто с удовольствием принимал участие в «прелюбопытном спектакле» [6, с. 794], который разыгрывался в жизни Европы первых десятилетий XX века – эпохи художественной революции, центром которой стал Париж. Как писал Кокто в эссе, посвященном Пикассо: «Революция эта проходила при обстоятельствах чрезвычайно любопытных, в самый разгар войны 1914 года, войны столь необычной, что каждый из нас, будучи мобилизованным, беспрепятственно переходил с одного “фронта” в Париже на другой, фронт военных действий. Эта революция прошла почти незамеченной, и когда все, кто имел основания опасаться ее, наконец уразумели, в чем дело, бороться с ней было уже слишком поздно» [8, с. 616]. Это было время тотального обновления искусства, обусловленного колоссальным сдвигом в общественном сознании. «Инверсия эстетического чувства» привела к возникновению таких авангардистских направлений, как футуризм, кубизм, орфизм, конструктивизм, дадаизм, сюрреализм.
И хотя Кокто никогда не цеплял на себя ярлыков какой-либо литературно-художественной школы, тем не менее ни один авангардистский «изм» не остался незамеченным поэтом. Он участвовал в экспериментах футуристов и дадаистов, был знаком с орфической теорией Робера и Сони Делоне, боготворил Пикассо и его кубистические работы, обращался к поэтике сюрреализма. Аккумулируя новации эпохи и вместе с тем опираясь на традиции предшествующей культуры, Кокто создал собственный стиль, сформировал собственную эстетику, ключевым понятием которой является «поэзия». Неслучайно свои произведения Кокто именует «критическая поэзия», «поэзия романа», «поэзия театра», «поэзия кино».
В эстетической концепции Кокто «поэзия» – это способ видения мира, особый язык, на котором изъясняются поэты, наивысшая форма выражения, с помощью которой человек может преобразить окружающий мир. Специфическая фор- ма, особое построение произведения, основанное на синкретизме, свойственном мифологическому мышлению, на слиянии в художественной ткани произведения образных и понятийных категорий, способствуют не только эстетической привлекательности творения, но и выражению определенной идеи, того смысла, который автор стремится донести до читателя-зрителя.
Поэзия, поэтический язык, как известно, не существуют вне поэта, который, в соответствии с мифопоэтической традицией, выступает в роли демиурга. Для Кокто поэт – создатель мифов, который своими «чарами и заклинаниями» проясняет красоту и тайну мира, скрытую за видимостью вещей. Искусство поэта, по Кокто, должно быть «непосредственным, быстродействующим и синтетическим», он должен уметь передать в одной строке то, «что прежде растаскивалось на четыре строфы; ведь не страница грустного текста, а чудо хорошо сказанного слова вызывает у нас подлинно прекрасные слезы» [Там же, с. 616–618]. Рождая ритмы и отбирая слова, насыщенные мифологическим значением, освещая детали, которые до него оставались невидимыми, поэт пересоздает реальность. Но, в отличие от символистов, стремившихся прорваться сквозь пелену повседневности к трансцендентной Красоте, «перевести здешнее, временем связанное, в широчайший круг бытия», Кокто поэтизирует современную ему реальность. Эстетизация современности становится приметой модернизма в 1910–1920-е годы. Вместе с тем «видимый» мир в произведениях модернистов дается в качестве «смыслового знака», а не как добросовестная фотография. Подобная установка на «видимое», как отмечал Ю.Н. Тынянов [10, с. 328], носит универсальный характер и связана с отказом от поисков «натурального сходства», поскольку больше нет уверенности в том, что «подлинные представления» о мире на самом деле подлинны. Лишь соотнесенность «нескольких рядов зрительных представлений» дает возможность приблизиться к подлинности, а стремительно завоевавший признание монтаж, или конструктивизм, важен именно как способ соотнесения и «не только фабульного характера, но еще и в гораздо большей степени – стилевого». В искусстве и литературе авангарда совершается «смысловая перепланировка мира» [Там же]. Наиболее активно производит эту «перепланировку» кинематограф, преображая «видимое» в смысловые знаки, выражая тем самым тенденцию, присущую всей культуре 10–20-х годов XX века.
В качестве основы для такой «перепланировки» многие художники этой эпохи используют античный миф. Как отмечал С.С. Аверинцев, для литературы модернизма характерно «свободное, непатетичное отношение к мифу, в котором интуитивное постижение дополняется иронией, пародией и интеллектуалистическим анализом и которое осуществляется через прощупывание мифических первооснов часто в самых простых и обыденных вещах и представлениях» [1, с. 881]. Так, например, «мифологизация» житейской прозы с ее алогичностью доводится до необычайной последовательности в творчестве Ф. Кафки и Дж. Джойса, других авторов.
Жан Кокто на основе античных мифов создает особое мифопоэтическое пространство, творит миф современного бытия. Он одним из первых во французской драматургии модернизирует античный миф, прокладывая дорогу таким драматургам, как Ж. Жироду и Ж. Ануй. Впервые именно в его пьесах у Антигоны, Эдипа и Орфея греческими остаются лишь имена. В пространстве драматического текста они – парижане, пытающиеся распутать клубок глубоко личностных проблем, которые волнуют автора.
Для Кокто миф – способ прикоснуться к основам бытия, обнажить структурные компоненты внутреннего «Я», способ найти себя, идентифицировать соб- ственную личность. Учитывая, что Кокто основной эстетической категорией считал поэзию, а себя при всем многообразии талантов – поэтом, то становится объяснимым, почему именно миф об Орфее избирается им в качестве одной из главных тем творчества. Необходимо отметить необыкновенную популярность мифа об Орфее во французской литературе XIX – первой половины XX века. К нему обращались Леконт де Лиль, Теофиль Готье, Стефан Малларме, Гийом Аполлинер, Поль Валери и др. Причем для французских поэтов – предшественников Кокто образ Орфея и орфическое учение, ставшее основой герметической традиции, неразрывно взаимосвязаны. И, если В. Гюго в романе «Собор Парижской Богоматери» (1831), демонстрируя познания Клода Фролло в области оккультных наук, лишь упоминает Орфея как теолога, основателя древних мистерий («Дедал – это цоколь; Орфей – это стены; Гермес – это здание в целом» [5, с. 211]), то поэты-парнасцы во главе с Леконтом де Лилем рассматривали свой труд как «религию», способствующую спасению рода людского, а себя причисляли к новой теократии. Статус художника они приравняли к статусу священнослужителя, а искусство провозгласили единственным «действительным» богом. Патетичное отношение к Искусству, преклонение перед Красотой поэты выражали, обращаясь к мифу об Орфее, образ которого представлен и в «Античных поэмах» Леконта де Лиля и в «Эмалях и камеях» Теофиля Готье. «Культурократическое» истолкование стихотворчества как обмирщенного священнодействия наследуют от «парнасцев» символисты. Так, Поль Валери называет Орфея «богом юным», воздвигающим посредством пения храм внутри себя [3, с. 8].
Стефан Малларме дает «орфическое» определение поэзии, которая «посредством человеческой речи, сведенной к своему основополагающему ритму», является выражением «таинственного смысла сущего»; этим она дарует подлинность нашему пребыванию на земле и составляет «единственную настоящую духовную работу». Малларме несколько десятилетий вынашивал идею о Книге, в которой было бы воплощено «орфическое объяснение земли» (цит. по: [4, с. 322]). Он полагал, что искусство поэзии и есть некая Книга, которая содержит тайный смысл происходящих в жизни явлений, а сам поэт не творит свое искусство, а лишь «дешифрует Книгу».
Огромное значение приобретают в начале XX века идеи орфизма в изобразительном искусстве. Появляется такое направление в живописи, как орфизм. Вернее, даже не направление, а стиль, который разработал Робер Делоне, а название дал Аполлинер, который назвал «орфизмом» абстрактную живопись, «обогащенную музыкой и чувственными ассоциациями, искусство диониссийской радости» (цит. по: [9, с. 99]). Идеи пантеистического синтеза преобладали в начале XX века в разных видах искусства. Теософский пантеизм, являвшийся основой представления о синтезе искусств, сводил вместе музыку и миф, живопись и поэзию.
Жан Кокто, наследуя предшествующую культуру, демонстрирует в творчестве синтез иного рода. Он подходит ко всем явлениям реальности как художник-универсалист, как художник-исследователь. У него нет ностальгии по ушедшей эпохе, а есть страстное желание разобраться во всем, что происходит в жизни, исследовать природу поэтического творчества, вооружившись новейшими открытиями в области философии и психологии.
Стремление к целостному изображению человека, к единству реального и ирреального, сознательного и бессознательного, мужского и женского отражено на всех уровнях поэтики его драматических произведений. Используя миф об Орфее в качестве «инструмента структурирования текста» [8, с. 178], Кокто создает траги- фарс о жизни современного поэта. Первое драматическое произведение, в котором Кокто обращается к мифу об Орфее, – одноактная пьеса «Орфей» (1925). Орфей у Кокто – известный поэт Фракии, у которого были и слава, и богатство. Он писал стихи, вызывая восторг публики. Вся Фракия знала их наизусть. Когда-то он был верховным жрецом Солнца. Но с появлением некой таинственной лошади все изменилось в его жизни. Он оставил свою должность и переехал в деревню. Теперь вся его жизнь состоит в том, что он холит лошадь, задает ей вопросы и ждет, что она ему ответит. Общение с лошадью происходит на манер спиритического сеанса: сколько раз лошадь ударит копытом, такую по счету букву из алфавита и записывает Орфей, складывая таким образом слова и фразы. Так лошадь «продиктовала» Орфею мистическую фразу «Жена Орфея преодолеет Аид», которую поэт считает формулой, способной преобразить поэзию. Именно поэтому он отправляет этот текст на Всеф-ракийский конкурс поэзии. В этой пьесе Кокто обращается к практике дадаистов, школа которых к 1925 году утратила свою роль и фактически распалась как литературно-художественное объединение. Однако влияние их идей на творчество Кокто еще ощутимо в этой пьесе. Он не только иронизирует над их идейными установками, направленными на тотальный нигилизм и констатацию абсурдности жизни, но ищет форму для выражения значимости и особой роли подсознательного и бессознательного в жизни поэта, что в данном случае является характерной приметой времени.
Во Франции, как и в других странах Европы, психоаналитические идеи З. Фрейда все более завоевывают популярность. Более того, теория Фрейда становится второй по значимости после философии А. Бергсона теоретической составляющей сюрреализма. К середине 1920-х годов сюрреализм как стиль художественного мышления стал преобладать в литературе и искусстве Франции. Кроме психоанализа, большое влияние на формирование эстетической концепции Кокто оказывают идеи Бретона. Он, в частности, писал о том, что слово является своеобразным мостом между мифом и реальностью, но, заключенное в рамки собственного значения, навязанного ему обществом, оно теряет свою магическую функцию. Реальная звуковая оболочка приобщает слово к миру вещественному. Поэтому языковые эксперименты являются частью сюрреалистической теории, стремившейся восстановить разрушенный баланс между изначально противоположными, но одинаково значимыми гранями бытия, между рациональным и иррациональным в человеке и мире. Язык, по мысли Бретона и других сюрреалистов, должен стать инструментом воссоздания истинной реальности, сочетающей телесное и духовное, – «сюрреаль-ности», а поэзия, согласно сюрреалистической концепции, являлась способом существования в этой идеальной вселенной. В связи с этим задача художника состоит в том, чтобы преодолеть вертикальный путь в глубины своего «Я» с целью поднять на поверхность сокровища бессознательного и осуществить затем синтез внутренней и внешней реальностей. Следующим шагом должно стать воссоединение «полноценного» человека с миром, но не с однобоким миром фактов, а с миром сущности, мифа, архетипов. Дезинтеграция языка, освобождение его первоэлементов от искусственных логических связей между собой и самостоятельное создание ими новых, истинных связей видится средством достижения поставленной цели.
И хотя Кокто никогда не причислял себя к сюрреалистам, а в каких-то произведениях ставил своей целью противостоять им, тем не менее он «боролся в сущности за то же, что и они, но работал один, они же выступали группой» [Там же, с. 739]. Впервые обращаясь к мифу об Орфее в этом трагифрсе, Кокто наполняет античный миф современным содержанием. Орфей для него прежде всего поэт, а история Орфея – миф, в котором жизнь и смерть сходятся лицом к лицу. В пьесе «Орфей» (1925) Кокто еще не придает особого значения нисхождению Орфея в Аид, не детализирует пребывание Орфея и Эвридики в Аиде. Он лишь схематично обозначает существование мира ирреального. Реальность является здесь местом встречи видимого и невидимого. Но вместе с тем в этой пьесе автор обозначает круг тех выразительных средств, с помощью которых он будет и в дальнейшем воплощать тему поэта и поэзии. Это, прежде всего, введение в сюжет античного мифа таких персонажей, как ангел Эртебиз и Смерть в образе прекрасной женщины. В начале трагифарса функцию посредника между реальным и ирреальным выполняла лошадь. Посредством этого образа-символа Кокто ставит в своей драматургии еще одну важную проблему, касающуюся его представлений о поэтическом творчестве. Поэту не нужны посредники (даже такие мистические, как лошадь), погружение в суть бытия возможно только путем исследования собственных глубин.
Исследование темы поэта и поэзии на материале мифа об Орфее Кокто продолжил в фильме «Кровь поэта» (1930), первом кинопроизведении, где он не только выступил как сценарист, но и проявил свой талант режиссера. Позднее, размышляя о фильме, Кокто утверждал, что в «Крови поэта» он «исполнил одним пальцем то, что затем оркестровал» в следующем своем творении «Орфей» (1950) – фильме, который считается знаковым в истории поэтического кино. Поэтому «Кровь поэта» можно рассматривать как своеобразный мост, связующее звено между пьесой «Орфей», поставленной Ж. Питоевым в 1925 году, и кинофильмом «Орфей», созданном в 1950 году Кокто-сценаристом, Кокто- режиссером, Кокто-художником.
Говоря о Кокто-режиссере, необходимо отметить уникальность его положения в кинематографе. Он был первым из крупных литераторов, кто заинтересовался возможностями кино как искусства, способствующего передаче мысли, почувствовал могущественность этого оружия, которая выражается в способности проводить мысль даже в той толпе, которая этому сопротивляется, в толпе, довольствующейся «стилем низкопробных переводов и ежедневных газет» [Там же, с. 573]. Кино было для Кокто еще одним средством самовыражения, но и здесь он оставался поэтом. Он изучил технику нового искусства, вернее, он ее «переизобрел для собственного применения» и создал кинематографическую поэзию, которая стала неотъемлемой частью его творчества наряду с поэзией театра, поэзией романа, графической поэзией.
Большое внимание Кокто уделяет созданию сценария. Он не допускает небрежности или схематичности. Фактически его киносценарии по праву могут считаться полноценными драматическими произведениями, потому что в них он скрупулезно конструирует будущее кинопроизведение. Посредством образов он соединяет несоединимое, создавая собственный уникальный киноязык – стиль, эквивалентный его литературному стилю. Благодаря специфике изобразительных средств кинофильм для Кокто в большей мере, чем какое-либо другое художественное произведение, является «предметом, трудным для сборки» Такое определение возникает в поэтике Кокто, как и многие другие имена и названия, случайно. Как вспоминал поэт в беседе с А. Френо, когда-то в каталоге сюрпризов «обманок» для свадеб и банкетов он обнаружил название: «Предмет, трудный для сборки». Так и не узнав, что это был за предмет, Кокто взял на вооружение саму фразу, которая стала ключевой в его кинематографическом синтаксисе. Усложненность образного языка, «трудность сборки» уподобляют его фильмы зашифрованной Книге, которую необходимо разгадывать. Такое стремление сотворить посредством языка, образов новую реальность в произведении является одной из тенденций времени. Этот принцип активно рабо- тает в поэтике сюрреалистов, которые, в свою очередь, модернизировали открытия символистов, уделявших особое внимание принципу внутритекстовых связей в произведении. Благодаря техническим возможностям кино Кокто более тщательно «прописывает» то, о чем он пытался сказать в трагифарсе «Орфей». В частности, связь с ирреальностью посредством зеркала выглядит уже не так условно, как в произведении, предназначенном для сцены, а изображение самой ирреальности, в которую погружается поэт, становится более подробным и изощренным.
Это произведение Кокто представляет интерес именно как связующее звено между трагифарсом «Орфей» (1925) и фильмом «Орфей» (1950). И хотя в «Крови поэта» Кокто не упоминает имени Орфея, но именно в нем он продолжает разрабатывать тему, обозначенную в пьесе «Орфей», продолжает исследовать природу поэтического творчества и природу личности поэта.
Работая над фильмом «Орфей», Кокто сформировал эстетическую концепцию «ирреального реализма», которая имеет принципиальное отличие от «сверхреальности» сюрреалистов. Так, если сюрреалисты «собирают вещи наново, заменяя все части до одной разрозненными элементами, произвольно набранными из непосредственного чувствительного содержания вселенной в собственно сюрреалистический объект» [2, с. 246], то Кокто конструирует произведение, объединяя реальность и ирреальный мир как две самостоятельные области. Используя опыт психоаналитических исследований, Кокто находит «высшую реальность» в воссоздании в поэтическом произведении как обыденного восприятия действительности с помощью обычного сознания, так и тех откликов, порывов, инстинктов, которые вызывает та же реальность в сферах подсознательного и бессознательного. Этот более широкий круг проблем, чем те, которые затрагивал традиционный реализм, представляется Кокто открытием его метода, то есть тем, что он назвал «ирреальным» реализмом. Основой в этом конструировании пространства для него является мифологема Орфея, в структуре которой заложено единство мира земного и небытия, а в семантике – способность поэта пребывать в двух мирах одновременно, способность переходить из реального пространства в ирреальное.
Используя технику монтажа, Кокто конструирует произведение, объединяет явь, мир реальный, в котором живет Орфей, и мир ирреальный, мифологический, небытие. Причем в изображении мира ирреального Кокто придерживается принципа правдоподобия, подробности деталей. Учитывая, что Кокто возвращается к теме Орфея в 1950 году, понятно, почему его интересует не «символичность изображения» ирреальности, как было в «Крови поэта», а момент стыка, «пограничности», встречи двух сфер человеческого существования, также заложенный в мифологеме Орфея. Такая смена акцентов обусловлена не только изменениями, произошедшими в общественной жизни и Франции, и Европы в целом, но и обстоятельствами личной жизни Кокто, который к этому времени потерял очень много близких и дорогих для него людей.
«Поскольку моя духовная походка была походкой человека, который хромает – одна нога в жизни, другая в смерти, – вполне естественно, что таким образом я пришел к мифу, где жизнь и смерть сходятся лицом к лицу», – говорил Кокто в беседе с А. Френо [7]. Кроме того, кинофильм был для Кокто наиболее подходящей формой для того, чтобы воплотить в произведении «инциденты на пограничной полосе», которая отделяет один мир от другого. Под «инцидентами» Кокто подразумевал все те же слагаемые поэтического творчества. Он стремился к тому, чтобы кинематографические трюки походили на шифры поэтов и воспринимались зрителями как некая иная реальность.
Фильм Жана Кокто «Орфей» (1950) по праву считается одним из самых ярких и впечатляющих фильмов европейского модернизма и неомифологизма. В нем органично и естественно сочетаются жанры поэтического кино, психологической драмы, детектива, триллера и приключенческого мистического фильма. В «Орфее» античная мифологема мастерски наложена на современную поэту городскую реальность. Это создает неповторимую атмосферу подлинного неомифологического произведения, современного и вечного. В очередной раз, обратившись к мифу об Орфее, Жан Кокто совершенно ясно формулирует свои цели и задачи. «Задача, поставленная в “Завещании”, – перевернуть представление о бесстыдстве, снимая с себя собственное тело и выставляя напоказ обнаженную душу» [8, с. 29].
Таким образом, Орфей для Кокто – это художник par excellence . И во всех произведениях, посвященных Орфею, Кокто стремится исследовать особенности творческой природы художника. Понимание Жаном Кокто мифологемы Орфея заставляет вспомнить о Сергее Эйзенштейне, который достаточно плодотворно общался с драматургом, будучи в Париже. Эйзенштейн разделял представления Кокто об Орфее как о художнике par excellence . Его эстетическая концепция построена на одновременном утверждении необходимости чувственного (регрессивного) и логического (прогрессивного) начал, объединенных в каждом произведении искусства. В произведении искусства, считал Эйзенштейн, работают оба разряда мышления в единстве: с одной стороны, обостреннейшее идеологическое осознание темы, с другой стороны, выражение ее путем перевода в разряд образного ощущения, то есть чувственного мышления. Мифологема Орфея является основой концепции творчества и эстетики Кокто. По мнению художника, для постижения Абсолюта необходимо погрузиться в собственное «я», обратившись к первоосновам бытия, к истокам мифологического мышления. Орфей Кокто ошибается, путается, находит себе ложных кумиров. И только столкновение со смертью (мотив утраты Эвридики и прохождение через подземное царство) возвращает его к истинным ценностям. В пространстве текста он отражает действительность, познанную с помощью сознательного и бессознательного. Творческие поиски Кокто оказывают мощное влияние не только на литературу, но и на всю культуру XX века.
Список литературы Античный миф как основа эстетической концепции Жана Кокто
- Аверинцев С. С. Мифы//Краткая литературная энциклопедия: в 9 т. Т. 4. М.: Сов. энцикл., 1962. С. 880-881.
- Бретон А. Кризис предметности//Иностранная литература. 1996. № 8. С. 245-249.
- Валери П. Избранные стихотворения. М.: Русский путь, 1992. 81 с.
- Великовский С. И. Верлен. «Проклятые поэты». Рембо. Малларме и символизм//История всемирной литературы: в 8 т. Т. 7. М.: Наука, 1991. С. 315-324.
- Гюго В. Собор Парижской Богоматери. М.: Эксмо, 2006. 591 с.
- Карпентьер А. Жан Кокто и эстетика окружающей среды//Кокто Ж. Петух и Арлекин. СПб.: Кристалл, 2000. С. 793-802.
- Кокто Ж. Беседы о кинематографе //Мастерская индивидуальной режиссуры. URL: http://you-mir.ru/zhan-kokto-besedy-o-kinematografe (дата обращения: 01.03.2019).
- Кокто Ж. Петух и арлекин: сборник. СПб.: Кристалл, 2000. 878 с.
- Турчин В. С. По лабиринтам авангарда. М.: Изд-во МГУ, 1993. 248 с.
- Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. 578 с.