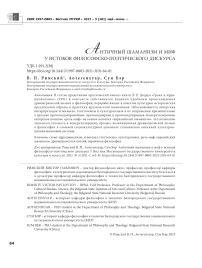Античный шаманизм и миф у истоков философско-поэтического дискурса
Автор: Римский Виктор Павлович, Аотегенхуар, Сум Бэр
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 3 (101), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен критический анализ книги Э. Р. Доддса «Греки и иррациональное» (1951) в контексте собственного видения проблемы происхождения древнегреческой поэзии и философии, переработавших в качестве культурно-исторических предпосылок образы и практики архаического шаманизма. Обосновывается авторская интерпретация этногенеза, глоттогенеза и культурогенеза в их сопряжении применительно к архаике протоиндоевропейцев, протоиндоариев и протоиндоиранцев. Конкретизировано авторское понятие «речь-миф» на основе понятия «евразийский шаманизм», что позволило логически уточнить и конкретизировать процесс возникновения древнегреческой поэзии и философии в сложной социокультурной динамике становления античной культурно-цивилизационной системы.
Иррационализм, этногенез, глоттогенез, культурогенез, речь-миф, евразийский шаманизм, древнегреческая поэзия, первичная философия
Короткий адрес: https://sciup.org/144162111
IDR: 144162111 | УДК: 1:291.2(38) | DOI: 10.24412/1997-0803-2021-3101-64-81
Текст научной статьи Античный шаманизм и миф у истоков философско-поэтического дискурса
Актуальность понимания первоначал
В контекстах философии XIX–XX веков схема возникновения греко-римской культуры, философии и науки укладывалась в парадигму «от мифа к логосу», которая до сих пор остаётся актуальной и реанимируется в школьных историко-философских публикациях. Подобные европоцентристские образы Античности явились продуктами перекодирования греко-римской культуры в католическом Средневековье и Возрождении, а затем её приватизации в Просвещении и цивилизации модерна. Мы уже подвергали критике модернизаторские концепты и образы Античности [см.: 22; 23; 24; 25; 26; 34 и др.], показав, что не только миф был далёк от его понимания как прямолинейного, «синкретического» истока «античного логоса», но и древнегреческая (и древнеримская) культура и философия базировались на огромном потенциале (силе) иррационализма .
По этому поводу ещё в середине ХХ века А. Боннар воскликнул: «Более того, в течение всей своей истории, включая и период ослепительного, всестороннего расцвета и созданных им шедевров, век Софокла, Гиппократа и Парфенона, греческий народ, вместе с “Элладой Эллад” – Афинами, этим горячим и трепетным сердцем Греции, придерживался суеверий и нравов, то несколько странных, то прямо “полинезийских”, порой просто забавных, а иногда таких чудовищно жестоких, что чувствуешь себя здесь за тысячи вёрст от всякой цивилизации ... О Греция искусств и разума Тэна и Ренана, розово-голубая Греция, Греция-конфетка, как ты вымазана землёй, пахнешь потом и перепачкана кровью!» [3, с. 16, 20]. Эти слова Боннара были сказаны в то время, когда появились «вновь открывшиеся обстоятельства» в контексте культурно-антропологических и этнографических описаний и интерпретаций «остывших»
архаических культур, вследствие чего стали возможны и кросс-культурные исследования греко-римских древностей.
Имея в виду «вновь открывшиеся обстоятельства», мы посчитали возможным обратиться к проблематике генезиса первичной «философской рефлексии» и ещё раз ответить на ряд существенных вопросов.
Как же реально происходил генезис первичной философской рефлексии? Какую роль играла в этих процессах мифология и религия? Как относились первые античные мыслители к мифу и религии?
Толчком возвращения к данной проблематике послужили сразу две одновременные публикации переводов ушедшей на обочину истории культуры и философии книги британского культуролога и филолога Э. Р. Доддса «Греки и иррациональное» [см.: 8; 9; 38], вышедшей в русле «вновь открывшихся обстоятельств» тогда же, в 1950 году. Не поздно ли, если даже после русских переводов прошло уже двадцать лет?
Думаем, что обращение к классической древности, в том числе к греческой, никогда не бывает «поздно», так как Хайдеггер как-то заметил: «Начало есть то, что в сущностной истории приходит последним … Такое предваряющее и определяющее всю историю мы называем изначальным (das Anfängliche). Поскольку оно не остаётся в прошлом, а предлежит будущему, изначальное снова и снова дарует себя той или иной эпохе» [35, с. 15]. Это справедливо также и не только по метафизическим соображениям, так как «европейский модерн» обернулся в наши дни постмодернистской хаотизацией рационализма (науки и философии), иррационализмом политкорректности и трансгуманизма.
Античный рационализм и иррационализм: версия Э. Р. Доддса
Книга Доддса в середине ХХ века оказала провокационное воздействие на науку (правда, сейчас острота её идей убавилась). В чём же состояла эта «провокационность» по отношению к «классической академичности» в трактовках Античности? Вот основной посыл Доддса: «Почему в таком случае мы должны приписывать древним грекам какой-то иммунитет от “первобытных” типов мышления, который не обнаруживается ни в одном из обществ, доступных нашему наблюдению? ... Специалистов в области классики уже мало оправдывает принятая в их среде – и до сих пор разделяемая многими из них – практика оперирования устаревшими антропологическими концепциями и игнорирование новых направлений в антропологии, сложившихся в последние тридцать лет, вроде наметившегося в недавнее время альянса между социальной антропологией и социальной психологией … Но, согласитесь, непривычно находить такие верования, такое чувство постоянной, обыденной, зависимости от сверхъестественного в поэмах, считающихся столь “нерелигиозными” – в “Илиаде” и “Одиссее”. И мы можем спросить себя, а почему люди столь цивилизованные, столь ясно мыслящие, столь рациональные, как ионийцы, не убрали из своих народных эпических поэм эти параллели с Борнео, то есть своё собственное первобытное прошлое, как они исключили из них страх перед мёртвыми, страх перед нечистотой и другие первобытные страхи, которые, несомненно, должны были играть определённую роль в древних устных сказаниях, ставших источником поэм?» [9, с. 6, 7, 21– 22], – писал он, ссылаясь на Л. Леви-Брюля и обставляя собственные прозрения ого- ворками, будто изгородью, против академического догматизма.
Доддс пытается реконструировать некий религиозный «наследственный конгломерат», понимая под ним «унаследованную от предков структуру иррациональных обычаев и правил» [9, с. 187], в котором большую роль играли не только «органические» верования эллинов, но и заимствования из неких шаманских практик , полученные, предположительно, в результате древних контактов с «северными народами» и повлиявшие на представления о непримиримом дуализме души и тела, метемпсихозе (реинкарнации души), о значении очистительных практик не только в простонародье, но и среди интеллектуальной элиты – от Гомера, орфиков и первых поэтов до Платона и Аристотеля. Доддс называет их «новой религиозной системой».
Дуализм души и тела в орфизме и пифагореизме Доддс считает заимствованным «новой религиозной системой» Древней Эллады из «северного шаманизма». «И именно в это представление, – делает он выводы в центральной, пятой, главе книги, – новая религиозная система внесла решающий вклад: наделив человека тайной самостью божественного происхождения и таким образом расторгнув связь души и тела, новая система ввела в европейскую культуру новое понимание человеческого существования, которое мы назовём “пуританским” (очистительным. – В. Р., А., С. Б.). Откуда возникло это новое представление о человеке?» [9, с. 145]. Здесь он связывает «новые религиозные представления» с шаманскими практиками путешествия как во сне, так и в экстазе, когда душа шамана отлетает в некие «иные миры». Но сразу же возникает недоумение: на роль сна в возникновении анимизма и представлений об ак- тивной, свободной душе (духах) указывал ещё Э. Тэйлор [33], считая этот феномен общим для всех народов мира, то есть универсальным и общечеловеческим. Тогда причём здесь шаманизм?
Сам Доддс оговаривается: мол, идеи о посмертном существовании души (то есть анимизм) и посмертном воздаянии за «преступления» или «благое поведение» наблюдались у всех народов мира. Тогда что же нового привнёс «заимствованный шаманизм» в якобы «традиционные» верования эллинов? Новым был, по мысли Доддса, непримиримый дуализм души и тела , которого Гомер, например, ещё не знает: с этим, мол, и связаны экстатические и постнические практики очищения и освобождения души от тела , обретённые в шаманизме и закончившие (или пока нет?) свой путь в различных версиях гностико-манихейства.
Но как происходило это заимствование и возникновение у греков «новой религиозной системы»? Доддс рассматривает в этой связи различные точки зрения и в примечаниях полемизирует (правда, с оговорками) и с современными авторами, и с самим Геродотом, которые этот феномен, как и представления об антагонизме души и тела, реинкарнации и практики очищения связывали с индоевропейским культурным наследием и локализацией в Малой Азии и Египте. «Мнение Геродота о заимствовании теории метемпсихоза из Египта, – делает он вывод, – не соответствует действительности хотя бы потому, что у египтян такой теории не было … Заимствование данной теории из Индии не подтверждается источниками, да и вряд ли было возможно … Впрочем, не исключено, что индийское и греческое верования в переселение душ могли иметь один общий источник…» [9, с. 165, 166]. Что это за «общий источник»?
И он называет этот «источник» – в «скифской религии», которую идентифицирует однозначно как «шаманизм», а этногенез и культурогенез самих «скифов» с их «шаманизмом» локализует в уралоалтайском регионе , связывая с древними финно-угорскими, палеоазиатскими и пра-тюркскими этнокультурами.
Правда и здесь Доддс делает ряд огово- рок и реверансов в сторону «универсальности шаманизма», в том числе цитируя и классиков антропологии: «Таким образом, греческие шаманы архаической эпохи представляют собой своеобразную реставрацию более древнего типа личности … Нечто подобное, видимо, происходило в Индии, где вера в реинкарнацию возникла относительно поздно и, кажется, не была ни составной частью верований аборигенов, ни элементом религии пришедших в Индию индоевропейских племён. В. Рубен … обнаруживает истоки индийской веры в реинкарнацию в контактах жителей Индии с шаманской культурой Центральной Азии. Любопытно, что в Индии, как и в Греции, теория реинкарнации и интерпретация сновидений как психических путешествий появились одновременно ... Видимо, они являлись элементами общей системы верований. Если это так и если шаманизм является источником второго элемента, то тогда он, скорее всего, является источником и первого … “Данное учение о трансмиграции или реинкарнации души можно обнаружить у многих первобытных племен” (Fraser. The Belief in Immortality. I. 29). “Вера в реинкарнацию имеет место во всех первобытных цивилизациях собирателей, охотников и рыболовов” (P. Radin. Primitive Religion, 270)» [9, с. 174, 177].
Но при всех оговорках для Доддса однозначным остаётся первичность шаманиз- ма палеоазиатов и северных народов (к ним он относит и «скифов») по отношению к индоевропейцам, каковыми были эллины во всём своём этнокультурном многообразии. «В Скифии и, вероятно, во Фракии, – утверждал он, – греки вступили в контакт с людьми, которые, как показал швейцарский исследователь Меули, находились под влиянием шаманистской культуры … Меу- ли приходит к выводу, что последствия этого контакта дали о себе знать в конце архаической эпохи в появлении целого ряда iatromanteis – провидцев, целителей и религиозных учителей – некоторые из которых, согласно греческой традиции, связаны с севером; все эти фигуры без исключения имеют ярко выраженные шаманские черты» [9, с. 146]. Однако всё было, на наш взгляд, гораздо сложнее, так как мы сталкиваемся с тем, что религиозно-мифологические заимствования и трансформации всегда связаны с этнокультурными миграциями и контактами и глубже – с этногенезом и культурогенезом различных «племён и народов».
Прародина древних обществ и этнокультурных сообществ
Выше мы отметили, что «прародиной шаманизма» Доддс считает урало-алтайский регион, где и происходил этногенез и культурогенез древних «скифов». Но какова их этнокультурная идентификация? Б. А. Рыбаков в своё время показал, что ещё со времён Античности происходит большая путаница в этнической, культурной и языковой идентификации тех «скифов», с кем имели дело эллины, исследуя Геродотову «Историю» [27]. Интерпретация этого источника знаний эллинов о «скифах» с опорой на современные научные данные показала, что под этим этнонимом скрыва- ются собственно скифы-индоиранцы (кочевые скотоводы) и протославяне-земледельцы с протобалтами и прочими «индевро-пейцами», древними финно-уграми, которые в сложном этнокультурном симбиозе жили на огромном пространстве межморья Восточной Европы.
В частности, об этногенезе протославян-индоевропейцев (сколотов) в их культурном контакте со скифами-индоиранцами Рыбаков писал: «Особенно драгоценным для нас является рассказ Геродота о ежегодном земледельческом празднике у “скифов”, во время которого чествовались якобы упавшие с неба священные золотые земледельческие орудия – плуг и ярмо для быков – и другие предметы. Поскольку Геродот одиннадцать раз писал о том, что настоящие скифы-скотоводы, кочующие в кибитках, не имеющие оседлых поселений, варящие мясо в безлесной степи на костях убитого животного, не пашут землю, не занимаются земледелием, постольку для нас ясно, что при описании праздника в честь ярма и плуга он имел в виду не кочевников-скифов, а народ, условно и ошибочно называемый скифами. Это самое Геродот и сказал своими словами: “Всем им в совокупности (почитателям плуга) есть имя – сколоты по имени их царя. Скифами же их назвали эллины”» [28, с. 227]. И в таком случае непонятно, кто здесь на кого влиял больше или меньше в формировании комплекса шаманских практик и экстатических ритуалов: скифы-индоиранцы, курившие коноплю, финно-угры с их грибами или протославяне с отварами из кореньев (сказочная баба Яга)?
Здесь мы с необходимостью сталкиваемся не только с проблемой прародины скифов-индоиранцев или славян-индоевропейцев, но и с поисками их «общей пра- родины». Прежде всего необходимо внести ясность, в том числе понятийную, в этногенез индоевропейцев и индоиранцев. При этом мы упираемся как в идеологическую и мировоззренческую боязнь и путаницу в употреблении понятий «арии», «арийцы» и «арийское», так и в самый сложный и тёмный вопрос: было ли это общее прошлое индоевропейцев и индоиранцев, часто называемое «арийским»?
Вот что пишут по поводу «арийской» терминологии видные отечественные культурологии и историки, глубоко исследовавшие «индоиранскую древность»: «И индийские, и иранские племена называли себя ариями, а свои страны – арийскими. Уместно отметить, что имевшее распространение в расистской литературе одиозное применение термина “арии”, “арийцы” в отношении всех индоевропейских народов не имеет под собой научной основы. Единственно обоснованным является его употребление для обозначения индоиранских племён и народов, как они и называются в научной литературе. В качестве самоназвания слова “арий”, “арии” определённо встречаются лишь в индоиранских языках. Так называли себя творцы Вед и индийских эпических сочинений, составители “Авесты”, авторы древнеперсидских надписей. От слова “арии” происходят названия различных индийских и иранских племён и областей. Центральная часть Индии, долина священного Ганга, называлась в древности Арьяварта – “страна ариев”, того же происхождения современное название “Иран”» [2, с. 15]. Однако «ариями» называли себя и собственно «индоевропейцы» – например, армяне, одни из древнейших «протоевропейцев», язык которых близок индоиранским и балтославянским языкам, сохранили этот концепт не только в каче- стве этнонима, но и в названии сакральной горы Арарат и страны. Да и древние греки величали собственную элиту «аристократами» (как и европейцы поздних времён), а её доблести «аретэ».
При этом Г. М. Бонгард-Левин и Э. А. Грантовский то называют просто «ариями» или «индоариями» протоиндийские этносы, то пишут об «общеарийском» состоянии «индоариев» и «индоиранцев». Так что подобная аргументация ничего не даёт для прояснения этногенеза древних народов и только вносит путаницу. Даже если признать, что у истоков индоариев и индоиранцев лежала общая «индоевропейская семья», то как мы будем номинировать «протоевропейцев» после их отделения от ближайших «родственников»? Может быть «яфетическими народами», по примеру Н. Я. Марра? [16] Тогда в чём же отличие «индоевропейцев» до и после разделения?
Бонгард-Левин и Грантовский вынуждены в своей работе номинировать «индоевропейцев после разделения» путём перечисления собственно их «исторических» названий (греки, германцы, славяне и т.д.), что мало даёт для понимания реального этногенеза этих древнейших этнокультурных обществ и сообществ. Как мы видели, Рыбаков считает возможным писать о « пра славя-нах». Некоторые авторы пытаются избежать подобной путаницы и, соблюдая «научную политкорректность», пишут о « прото индоевропейцах» [29], которые имели, как минимум, три «прародины» в эпоху перехода к цивилизационным стадиям.
В этом контексте мы считаем возможным употреблять понятия «палеоарии», «протоиндоарии», «протоиндоиранцы» и «протоиндоевропейцы», которые вполне корректны при поиске их «прародины» и необходимы для прояснения вопроса о «прародине шаманизма» с его экстатическими практиками.
Такое понятийное уточнение соотносится, например, и с возможными «тремя прародинами» праиндоевропейцев в схематической модели В. А. Сафронова (Малая Азия, Балканы и Восточная Европа) и близких по идеям учёных [4]. Однако им не слишком противоречит и концепция С. А. Григорьева, который локализует прародину палеоариев (индоевропейцев в его терминологии) на Ближнем Востоке (Курдистан и близкие регионы). Так, он пишет: «Исходным районом для индоевропейских миграций является Курдистан. Собственно, движение населения оттуда началось ещё в верхнем палеолите, когда мы вправе говорить о языках ностратического состояния» [6, с. 433]. К ностратической гипотезе этнокультурогенеза мы ещё вернёмся.
Отметим, что длительные процессы этногенеза протоариев и сложные пути их разделений, миграций, культурных контактов и симбиозов охватили всю Евразию. «Цивилизация праиндоевропейцев оказалась настолько высокой, устойчивой и гибкой, что выжила и сохранилась, несмотря на мировые катаклизмы, включая и глобальные изменения климата в начале III тыс. до н.э. Именно позднеиндоевропейская цивилизация дала миру великое изобретение – колесо и колёсный транспорт, причём создала его в момент жизненной необходимости. Наступление аридности требовало резкой смены хозяйства, перехода к полукочевому и кочевому скотоводству, поскольку земледелие не давало гарантированных урожаев. Индоевропейцы оказались на уровне требований времени и создали кочевой уклад экономики, только и позволивший им пройти бескрайние просторы евразийских степей, дойти до Китая и Ин- дии. В этой связи не следует рассматривать кочевое хозяйство как примитивное сравнительно с земледельческим; это означало бы лишиться исторической перспективы, поскольку известные две формы древнейшего кочевничества – индоевропейская и семитская – происходят от высоких цивилизаций Винчи – Лендьела и Шумера соответственно» [29, с. 276], – писал В. А. Сафронов о культурном вкладе древних европейцев в мировую культуру.
Поэтому неудивительно: где бы ни была прародина «палеоариев», они вполне могли долго обитать в архаические времена во всех обозначенных «точках сбора» : и в Передней Азии с Балканами, и на Ближнем Востоке, и в лесостепном Причерноморье, и в урало-алтайском регионе, и даже в Китае. Поэтому можно с большой уверенность сказать: прародина наших палеопредков – геоэтнические и культурные просторы Евразии.
Евразийский шаманизм и его универсализм
Именно в всех этих регионах этнокультурных миграций, контактов и симбиозов во время перехода от верхнего палеолита к неолиту и формируется специфический феномен евразийского шаманизма . Мы считаем возможным употреблять понятия «евразийский шаманизм» и «евразийские шаманские практики», как более содержательные и отражающие диалектику всеобщего, особенного и единичного в генезисе культурно-религиозных форм и мифов.
Здесь следует отметить, что некоторые вполне серьёзные исследователи смещают «протоиндоевропейский» (палеоарийский в нашей терминологии) этногенез вообще в верхний палеолит, подкрепляя археологическими находками лингвистические факты в рамках ностратической языковой гипотезы (В. М. Иллич-Свитыч) [12]. Ностратиче-ская гипотеза исторического глоттогенеза, этногенеза и культурогенеза в их сопряжении не является общепринятой, хотя итоговый труд Иллич-Свитыча по сбору, описанию и интерпретации палеолингвистиче-ского материала вряд ли имеет сравнимые работы в мировой науке.
Иллич-Свитыч в своих реконструкциях исходил из гипотезы существования в верхнем палеолите единого праностратическо-го (общего, родственного) языка, из которого в процессе антропогенеза и культуро-генеза отделились алтайские, картвельские, дравидийские, индоевропейские, уральские, афразийские, чукотско-камчатские и эскимосско-алеутские языки и этнокультурные общности. С. А. Григорьев по поводу доказательности данных идей пишет: «В последнее время ностратическая теория была подкреплена генетическими исследованиями, подтвердившими родство индоевропейских, эламо-дравидских и алтайских народов … Эта теория взаимосвязана с теорией о ближневосточном происхождении индоевропейцев и подкрепляет последнюю. Нам не составит большого труда продемонстрировать эту теорию на археологическом материале, поскольку отдельные узлы этой проблемы были надёжно отработаны другими исследователями, и отсутствие попыток создания общей модели объясняется имевшими место трудностями в локализации индоевропейцев … Эта гипотеза тоже подкрепляется генетическими исследованиями. Так называемая “африканская теория “ утверждает, что все существующие сегодня последовательности ДНК восходят к одной женщине, жившей около 100–200 тысяч лет назад и входившей в состав крупной популяции, состоявшей из 10 000 осо- бей. Впоследствии остальные линии (около 9 999) пресеклись. Данные выводы в последнее время начинают подтверждаться и при исследовании мужских генов» [6, с. 329]. За последние 20 лет эта гипотеза получила ещё новые подтверждения в исследованиях палеогенетиков.
Именно ностратическая гипотеза имеет значение и при исследовании истоков евразийского шаманизма в верхнем палеолите и мезолите. Поэтому мы хотим предложить собственное видение проблем единого евразийского шаманизма, уходящего в глубины верхнего палеолита (это опять подводит нас к ностратической гипотезе). Это вполне согласуется и с нашими идеями о возникновении речи-мифа в верхнем палеолите.
В ряде наших работ, указанных выше, были исследованы дуальноэтнические отношения как базовый элемент первобытного социума, сумевшего самоорганизоваться в формах речи-мифа, первичной ментальной практики (ещё не сознания!) и единого семиотического комплекса. Магические, в том числе и экстатические, практики (инициации, жертвоприношения, музыка, пляски и т.п.) входили в речь-миф как универсальную ментально-семиотическую систему, регулировавшую жизнедеятельность человека в архаических культурах. При этом мы считали и считаем некорректным для речи-мифа первобытности говорить о «религии» или «первобытной религии». Первичные архетипы шаманских ритуалов и практик формировались в речи-мифе, оставаясь неким универсальным истоком развитых форм шаманства.
-
С. А. Токарев, обосновывая универсалистскую теорию происхождения шаманизма, вслед за такими авторами, как С. Н. Да-виденков, Д. К. Зеленин, В. Г. Богораз-Тан,
Г. В. Ксенофонтов, И. А. Лопатин, А. В. Потанина, Л. Я. Штернберг [см.: 1; 7; 10; 11; 13; 14; 15; 21; 37], много внимания уделяет невротической гипотезе в подтверждение своих идей. «Все наблюдатели в один голос сообщают, что шаман – это прежде всего нервный, истерический человек, склонный к припадкам, иногда эпилептик. Момент шаманского “призвания”, субъективно осознаваемый как голос духов, требующих от человека вступления в шаманскую профессию, есть объективно нервное заболевание, которое, кстати, по большей части постигает человека в период полового созревания. Самое камлание шамана имеет большое сходство с истерическим припадком» [30, с. 279]. Для Токарева шаманизм – ментально-культурная канализация неврозов и институализация «больных людей» в особом профессиональном сообществе. Однако это не совсем точно.
Но, как показал Б. Ф. Поршнев [см.: 18; 19; 20], палеопсихика неоантропов напоминает многие патологии и девиации современного человека. С нашей точки зрения, можно утверждать, что все первобытные люди были невротиками, истериками, эпилептиками и т.п. Но это было их «нормальное состояние», состояние генетической психики, то есть они все были … шаманами. Это подтверждают и данные современной исторической психологии [36, с. 211–217]. Эволюция речи-мифа и первобытного мышления была связана с изменением высших психических функций и речевого общения. Развитие речи как второй сигнальной системы на этой стадии, вероятно, привело к дальнейшему усилению функциональной асимметрии мозга, что в целом и позволило стабилизировать подвижные, «невротические» психические структуры первобытных людей.
Речь-миф как ностратический феномен распадается в эпоху мезолита. Григорьев пишет: «В мезолите отчленяются носители урало-алтайских языков, которые локализуются первоначально в Восточном Прикаспии, но с неолита можно говорить об отделении финно-угорских языков (Восточный Прикаспий) от алтайских (междуречье Амударьи и Сырдарьи). Появление комплексов типа Джармо в Иранском Курдистане знаменует выделение в докерамиче-ском неолите эламо-дравидских языков. Последующее смещение части этих популяций на восток, вплоть до Южного Туркменистана, а части – на юго-запад вдоль Загроса приводит к отделению дравидов от эламитов. Западнее, на территории Иракского и Турецкого Курдистана, в VI тыс. до н.э. начинается формирование индоевропейцев, что связано с комплексами типа Телль Магзалия» [6, с. 433]. B этот период многие мифологические ритуалы начинают исчезать или трансформироваться как способ регулирования психики (коллективной и индивидуальной) и производства идеального в знаково-символических формах речи-мифа. Возникают подчинённые ритуально-магические действия и практики в структурах специализированных и усложнённых форм деятельности : производственной, семейно-брачной, обменной, обрядовой. Хотя ритуалы, речения, ношение фетишей всё ещё оказывают положительное суггестивное действие на индивида, организуя его жизнедеятельность, волю и целенаправленность, но они всё более и более приобретают форму магии, заговора, молитвы и т.п., то есть символических действий, часто лишённых каких-либо утилитарных приложений и самоценности.
С переходом к неолиту, когда начался переход от собирательства, охоты и рыбо- ловства к земледелию и скотоводству (оседлому и кочевому) в производящей экономике, как мы считаем, и начинается глубинный «палеоарийский» этногенез. При переходе к первым протоцивилизациям порядка четырёх тысяч лет назад, что зафиксировано уже не только в мифопоэтической, но и в письменной традиции, генерируются сложные процессы разделения первичного этносубстрата палеоарийцев на протоиндоевропейцев, протоиндоариев и протоиндоиранцев во всём их культурном многообразии (племенном, религиозно-мифологическом, языковом, диалектном и т.д.).
Однако здесь мы находимся лишь в начале более глубоких исследований формирования сложного комплекса достаточного универсального евразийского шаманизма , который в сложных культурно-этнических миграциях приобретал специфические и локальные черты в различных этногеогра-фических регионах, в том числе и в Древней Элладе.
Греческий шаманизм и философско-поэтическая рефлексия
Исследование Григорьева, как и других учёных, показывает, что палеоарии (пра-индоевропейцы) в своих тысячелетних миграциях доходили не только до урало-алтайского региона, но и в конце III тыс. до н.э. – до Китая [6, с. 322–326]. «Многие исследователи, – пишет он, – отмечали парадоксальность формирования культур эпохи бронзы Китая, которая выразилась во внезапном появлении достаточно развитых технологий производства. На базе автохтонного развития подобный стремительный прогресс невозможен. Он наверняка является свидетельством мощного внешнего воздействия исходившего, по-видимо-му, из Центральной Азии … Таким обра- зом, в ранней истории Китая заметную роль играли иранские и древнеевропейские группы. Они оказали глубочайшее воздействие на Китай, способствуя формированию китайской государственности, а возможно, и стояли у истоков отдельных китайских династий» [6, с. 322, 326]. Влияние сказа- лось на появлении металлического оружия, колесниц, керамики, жертвоприношений и погребальных обрядов.
И вот здесь мы хотим вернуться к гипотезе Доддса, который утверждал, что на «греческий шаманизм» повлияли шаманские практики урало-алтайского региона, и хотим задать ряд провокационных вопросов. Почему мы находим влияние протоиндоевропейцев на китайскую культуру, но в ней (в мифологии, религии и философии) не наблюдается влияния «урало-алтайского шаманизма»? Может, всё было наоборот: экстатические ритуалы и практики палеоариев, а затем протоиндоевропейцев и протоиндоиранцев влияли на сибирский шаманизм? Ведь многие авторы реконструируют воздействие буддизма, укоренённого в традициях индоариев, на практики сибирского шаманизма. Наверное, здесь и происходил культурно-религиозный и мифологический симбиоз, как и в случае со древними «геродотовыми скифами»?
Л. Я. Штернберг, всемирно известный отечественный революционер, антрополог и этнограф, ещё в 1925 году в своей работе «Культ орла у сибирских народов» фактически первым (задолго до западных авторов!) обосновывал идею – и близкую к пониманию проблемы Доддсом, и отличную, более объективную и релевантную, указывая на этническую прародину и географический регион «евразийского шаманизма». «Комплекс этих особенностей мы находим, с одной стороны, у представителей всех урало-алтайских народностей: манчжуров, тунгусов, монголо-бурят, тюрков и финнов, причём наиболее полное совпадение находим у самых дальних урало-алтайцев: тюрков крайнего северо-востока Сибири, у якутов и у самых западных финнов Европы, – уточнял он. – С другой стороны, этот же комплекс находим у народов средиземноморской культуры (в обширном смысле этого слова), начиная с индейцев, иранцев, семитов, греков, римлян и, наконец, у германцев» [37, с. 125]. Он высказал также идею, что необходимо искать исходный «комплекс культовых обрядностей и действий» в специфике древних мифов, которые были связаны с ментальными и ритуальными практиками шаманизма.
Он, опираясь на лингвистику, писал: «с другой стороны – совпадение терминов этого комплекса (туру – для шаманского дерева), общность названий шаманских принадлежностей, о которых мы говорили выше, общее название бубна у гиляков (хась), у бурят (хэсэ), у енисейцев (хать), у монголов (кеце), полное совпадение некоторых деталей бубна, особенно в форме внутренней крестовины и в орнаментальных мотивах, совпадение термина шаман у большинства сибирских народов с индийским термином s га m a n a, s am ana – всё это говорит за то, что комплекс этот имел какой-то общий центр происхождения, откуда он постепенно распространился после долгого странствования первого усвоившего его народа и долгого тесного общения или, быть может, скрещивания с другими урало-алтайскими народами (жирное выделение наше. – В. Р., А., С. Б.)» [37, с. 125]. Но ведь очевидно, что даже сам термин «шаман» имеет явное праиндоевропей-ское и праиндоиранское происхождение! Тогда кто же из них «первичен» в шама- низме, «палеоазиаты» или «палеоевропейцы» вместе с древними протоиндусами и протоиранцами?
Штернберг связал «греческий шаманизм» с культом орла у разных народов мира и с мифологемой «мирового дерева»: «Шаманство у греков, как и у якутов, связано не только с орлом, но и с мировым деревом … Европейская мифология, естественно, ведёт нас к своему древнейшему источнику – к индоиранскому мифу» [37, с. 117, 118]. При этом он очень осторожно относился к идеям о «культурных заимствованиях» и «бродячих мифологических сюжетах и ритуалах». Лев Яковлевич выдвинул и важные методологические принципы диалектики общечеловеческого, особенного и локального в исследовании архаических культур: «У рассмотренных нами народностей, наряду с отдельными общечеловеческими мотивами культа орла, имеется общий комплекс особенностей , вплоть до деталей, которые должны быть признаны совершенно индивидуальными , только этой группе народов свойственными … Особенности эти такого характера, что нахождение их у отдалённых друг от друга народов не может быть результатом конвергент-ности. Они должны были сложиться в результате былого тесного общения (курсив наш. – В. Р., А., С. Б. )» [37, с. 124, 125]. Здесь если и был шаманизм, то сугубо эллинский, входивший в общий комплекс евразийского шаманизма .
В этот период формируются две группы шаманов – сакральные и профанные, – в деятельности которых коренятся истоки различных форм духовного производства. Плодом их своеобразного «творчества» была фундаментальная переработка родоплеменной мифологии и ритуально-обрядовых систем, приспособление их к новым социокультурным условиям. С одной стороны, были созданы развитая анимистическая мировоззренческая система и сложный синкретический литургический комплекс обрядов и праздников (сакральное шаманство), с другой – мифоэпический фольклор, героический эпос, народное карнавальное действо, «смеховая культура», их обработка в профессиональном художественном творчестве.
Развитие контрсуггестии, мышления и эстетического феномена словесного мифа, эпоса осуществлялось, прежде всего, в сфере профанного шаманства. В древнеарийской культуре певцы принадлежали чаще всего к жреческим родам, но существовали и «корпорации» поэтов, которые и были хранителями «вед». «С поэтом связана функция памяти, – как бы уточняет В. Н. Топоров, опираясь на структурнофункциональный анализ архаической мифологии, – видения невидимого – того, что недоступно другим членам коллектива, – и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Поэт как носитель обожествленной памяти выступает хранителем традиций всего коллектива» [31, с. 20]. В Элладе у истоков институализации искусства мы наблюдаем фигуру военного царя (вождя) в окружении прорицателей-мудрецов (например, Агамемнон в «Илиаде»), старейшин и по-этов-аэдов, воспевающих подвиги войска. Именно в этих формах и осуществлялся генезис первичных форм искусства и философии. Образуется особая прослойка людей, которым «доверяется» развитие эстетических и рациональных ценностей.
И. М. Тронский так описывает творчество древнегреческого поэта-аэда гомеровского типа: «Содержанием песни аэда служат “деяния мужей” и богов, то есть мифологические сказания о богах и героях, ко- торые представляются не вымыслом певца, а истиной, действительной историей. Мифологическое прошлое – прообраз для настоящего, и певец, «чаруя» слушателей, одновременно является их воспитателем. Дар песнопения понимается как “знание”, полученное певцом от Музы, богини поэзии. Аэд начинает свою песню обращением к Музе с просьбой вещать его устами» [32, с. 47]. Геродот говорил, что Гомер довольно свободно обошёлся с мифом о похищении Елены, так как некоторые варианты этой истории не укладывались в эстетическую систему «Илиады»: «Но так как она не так хорошо подходила к его эпосу, как то другое, принятое им сказание о Елене, то Гомер нарочно отбросил эту историю» [5, с. 116]. Геродот сам постоянно умалчивает о мифах эзотерических, связанных с тайными ритуалами, и довольно подробно описывает ритуал. Это говорит не только о том, что религиозные мифы утаивались, а скорее, об их бедности, о ритуальности всей культовой практики древних обществ, начиная с Китая и заканчивая Элладой. И подтверждает, что эпос Гомера и Гесиода обслуживал скорее мирские, а не сакральные потребности античных греков. Поэтому и допускалось вольное толкование их текстов как продукта индивидуального творчества.
Поэтому Доддс не совсем точен, когда пишет в своей книге: «Фрагменты из Пиндара и Ксенофонта, с которых мы начали эту главу, наводят на мысль, что одним из источников пуританистического противопоставления души и тела могло быть наблюдение различий между “психической” и телесной видами деятельности: “душа” (psyche) наиболее активна тогда, когда тело спит или, как добавляет Аристотель, когда оно на шаг от гибели. Именно это я и имею в виду, называя psyche тайной, “оккультной”
самостью. До сих пор верования подобного рода являются основным элементом шаманской культуры, ещё существующей в Сибири; следы же её былого существования встречаются на всём обширном пространстве от Скандинавии через весь евразийский континент вплоть до Индонезии; столь широкий ареал распространения ясно свидетельствует о глубокой древности этих верований» [9, с. 146]. Действительно, экстатические практики присущи всем архаическим культурам мира, они были составной частью традиционных дионисийских мистерий, транса и предсказаний эллинских пифий и прочих оракулов.
Но главное не это: в древнегреческом культе всегда шла речь об освобождении души от тела – и не столько в экстазе или посте, сколько в погребальных обрядах сожжения покойника, о чём свидетельствовал и Гомер. Причём очень долго погребальных костров удостаивались преимущественно аристократы (тяжело вооружённые всадники), а простые общинники (гоплиты) погребались в земле. Так что ничего нового, чего не было в гомеровской древности, «чужеродного» и «шаманского» ни в представления орфиков, ни в поэтические образы Пиндара или первых трагиков, ни в первые философские системы не было внесено.
Например, любой современный этнограф, непредвзято прочитав некоторые фрагменты Демокрита, свободно мог бы сопоставить их с верованиями первобытных народностей и правомерно назвать эти представления в соответствии с принятой систематикой анимизмом. Демокрит понимает чаще всего богов как образы. Но что же такое эти образы? Образы и истечения не лишены ощущения и желания, исходят от предметов живых и неодушевлённых, представляют их копии, уносятся и, попа- дая в тело человека, говорят и сообщают принимающим мнения, мысли и стремления испустившее их тел (254)1. Они во время сна порождают призраки, благодаря которым можно предвидеть будущее (253). Одни из них зловредны, другие благотворны и, как свидетельствует Секст Эмпирик, Демокрит молился, чтобы ему попадались счастливые, благотворные образы (255).
Анимистские взгляды Демокрита прямо связаны с его практикой предсказателя и верой в знамения (257). Диоген Лаэртский и другие доксографы приводили мнения, что Демокрит прославился предсказаниями будущего. С этими следами анимизма и шаманской пророческой боговдохновенной практики согласуются и данные об ученичестве Демокрита у персидских магов и халдеев, от которых он якобы воспринял знание о богах и звёздах, о его путешествии к египетским жрецам и индийским гимно-софистам. И как бы ни преувеличивались в этих версиях «импортные» увлечения Демокрита, связь с персидской мудростью вполне вероятна, если иметь в виду отношения Абдер с Великими царями [подробнее см.: 24, с. 129–145]. Отблески шаманско-пророческой практики лежат на многих фактах из биографии Демокрита: гадате-
-
1 Фрагменты цитируются по данному изданию [см.: 17].
Список литературы Античный шаманизм и миф у истоков философско-поэтического дискурса
- Богораз В. Г. К психологии шаманства у народов Северо-Восточной Азии читано 30 декабря 1909 г. в соединённом заседании подсекций этнографии и антропологии XII Съезда естествоиспытателей и врачей. Москва : Типография Имперского Московского Университета, 1910. 36 с.
- Бонгард-Левин Г. М., Грантовский Э. А. От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и история. Издание 2-е, испр. и доп. Москва : Мысль, 1983. 206 с.
- Боннар А. Греческая цивилизация. Том I. От Илиады до Парфенона / перевод с французского О. В. Волкова ; предисл. В. И. Авдиева. Москва : Искусство, 1992. 269 с.
- Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы: реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры = Indo-European and the Indo-Europeans : [в 2 ч.] / с предисловием Р. О. Якобсона. Тбилиси : Изд-во Тбилисского ун-та, 1984.5. Геродот. История в девяти книгах / перевод и примеч. Г. А. Стратановского ; под общ. ред. С. Л. Утченко ; ред. пер. Н. А. Мещерский. Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1972. 600 с.
- Григорьев С. А. Древние индоевропейцы. Издание 2-е, доп. Челябинск : Цицеро, 2015. 660 с.
- Давиденков С. Н. Психофизиологические корни магии // Природа. 1975. № 8. С. 68-78.
- Доддс Э. Р. Греки и иррациональное / перевод с английского, коммент. и указатель С. В. Пахомова ; послесл. Ф. X. Кессиди. Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. 507 с.
- Доддс Э. Р. Греки и иррациональное / перевод с английского М. Л. Хорькова. Москва ; Санкт-Петербург : Московский философский фонд ; Университетская книга ; Культурная инициатива, 2000. 318 с.
- Зеленин Д. К. Культ онгонов в Сибири : Пережитки тотемизма в идеологии сибирских народов : 84 рис. в тексте. Москва ; Ленинград : Изд-во Академии наук СССР, 1936. 436 с. : ил.
- Из архива. Избранные труды В. Г. Богораза по шаманству (1934-1936 гг.) / подгот. М. М. Шахнович, Е. А. Терюковой ; [примеч. М. М. Шахнович]. 2-е издание. Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2019. 464 с.
- Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков: (семитохамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский) / под редакцией и с вступительной статьёй В. А. Дыбо ; Академия наук СССР, Институт славяноведения и балканистики. Москва : Наука, 1971-1984. Т. 1-3.
- Ксенофонтов Г. В. Культ сумасшествия в урало-алтайском шаманизме. К вопросу об «умирающем и воскресающем» боге. Иркутск, 1929. 19 с.
- Ксенофонтов Г. В. Шаманизм. Избранные труды. Публикации 1928-1929 гг. Якутск : Север - Юг, 1992. 320 с.
- Лопатин И. А. Гольды. Амурские, Уссурийские и Сунгарийские: опыт этнографического исследования с картой расселения гольдов и с 86 ил. на 34 отд. табл. по фотограф. снимкам автора и оригинальным рисункам с натуры. Владивосток : [б.и.], 1922. 370 с. : ил.
- Марр Н. Я. Избранные работы / [предисл. В. Аптекарь] ; Академия наук СССР, Государственнаяакадемия истории материальной культуры. Ленинград : ГАИМК, 1933-1937. Том 3 : Язык и общество. 1934. XVIII, 421, [2] с., 2 л. портр.
- Материалисты древней Греции : собрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура / [общая ред. и вступ. ст. проф. М. А. Дынника] ; Академия наук СССР. Институт философии. Москва : Госполитиздат, 1955. 239 с.
- Поршнев Б. Ф. Контрсуггестия и история // История и психология : [сборник] / под ред.Б. Ф. Поршнева и Л. И. Анцыферовой ; АН СССР. Институт всеобщей истории. Институт философии. Москва : Наука, 1971. С. 7-35.
- Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). Москва : Мысль, 1974. 487 с.
- Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории (Проблемы палеопсихологии). 2-е издание. Москва : Фэри-В, 2006. 635 с.
- Потанина А. В. Из путешествий по Восточному Тибету и Китаю. Москва: Типография Елизаветы Гербек, 1895. 296 с. : ил.
- Римский В. П. Демоны на перепутье: культурно-исторический образ тоталитаризма. Белгород : Изд-во БелГУ, 1997. 199 с.
- Римский В. П. К проблеме генезиса религии // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 1983. № 1.
- Римский В. П. Миф и религия. К проблеме культурно-исторической специфики архаических религий. Белгород : Крестьянское дело, 2003. 184 с.
- Римский В. П. Проблема соотношения мифа и религии (методологический анализ) : автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата философских наук : 09.00.01 - Онтология и теория познания / Римский Виктор Павлович. Ростов-на-Дону, 1985. 21 с.
- Римский В. П., Насу, Симора П. У. Антропогенез, этногенез и происхождение сознания // Гуманитарные ведомости ТГПУ имени Л. Н. Толстого. 2021. № 1 (37). С. 19-35.
- Рыбаков Б. А. Геродотова Скифия : Историко-географический анализ. Москва : Наука, 1979. 247 с.
- Рыбаков Б. А. Язычество древних славян / АН СССР, Отделение истории, Институт археологии.Москва : Наука, 1981. 782, [1] с., [2] л. ил. : ил.
- Сафронов В. А. Индоевропейские прародины / Горьковский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, Исторический факультет. Горький : Волго-Вятское книжное изд-во, 1989. 399, [1] с. : ил.
- Токарев С. А. Ранние формы религии / под общей ред. акад. В. П. Алексеева : сост. И. В. Тарасова. Москва : Политиздат, 1990. 622 с.
- Топоров В. Н. Первобытные представления о мире (общий взгляд) // Очерки истории естественно-научных знаний в древности / отв. ред.: А. Н. Шамин. Москва : Наука, 1982. С. 8-40.
- Тронский И. М. История античной литературы. Издание 4-е, испр. и доп. Москва : Высшая школа, 1983. 464 с.
- Тэйлор Э. Первобытная культура. Москва : Соцэкономгиз, 1939. 567 с.
- Учреждающая дискурсивность Михаила Петрова: ителлектуал в интерьере культурного капитала / [В. П. Римский, Е. О. Болоненко, Е. А. Бондаренко и др.] ; под ред. В. П. Римского. Москва : Канон+, 2017. 455 с. : портр.
- Хайдеггер М. Парменид / перевод с немецкого А. П. Шурбелева. Санкт-Петербург : Владимир Даль, 2009. 382, [1] с.
- Шкуратов В. А. Историческая психология / Институт «Открытое общество». 2-е издание, перераб. Москва : Смысл, 1997. 505 с.
- Штернберг Л. Я. Первобытная религия в свете этнографии. Исследования, статьи, лекции / под ред. и с предисл. Я. П. Алькора. Ленинград : Издательство института народов Севера ЦИК СССР имени П. Г. Смидовича, 1936. 572 с. : ил.
- Dodds E. R. The Greeks and the Irrational. Berkeley, Los Angeles, London : University of California Press, 1951.