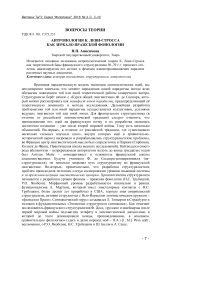Антропология К. Леви-Стросса как зеркало пражской фонологии
Автор: Анисимова Наталья Петровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории
Статья в выпуске: 4, 2016 года.
Бесплатный доступ
Излагаются основные положения антропологической теории К. Леви-Стросса как теоретической базы французского структурализма 50–70 г.г. прошлого столетия, анализируются его истоки и феномен взаимопроникновения парадигм различных научных дисциплин.
История лингвистики, структурализм, антропология
Короткий адрес: https://sciup.org/146121960
IDR: 146121960 | УДК: 811.161.1’373.231
Текст научной статьи Антропология К. Леви-Стросса как зеркало пражской фонологии
Принимая парадигмальную модель эволюции лингвистических идей, мы неоднократно замечали, что момент зарождения новой парадигмы всегда ясно обозначен появлением той или иной теоретической работы конкретного автора. Структурализм берёт начало с «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра, который можно рассматривать как манифест новой парадигмы , предопределяющий её теоретическую доминанту и методы исследования . Дальнейшая разработка проблематики той или иной парадигмы осуществляется коллективно, усилиями ведущих лингвистов той или иной эпохи. Для французского структурализма (в отличие от российской лингвистической традиции) следует отметить, что проникновение его идей на французскую почву и их разработка оказались достаточно поздними - уже после второй мировой войны. Тому есть несколько объяснений. Во-первых, в отличие от российской традиции, где существовало несколько сильных научных школ, внутри которых ещё в сравнительноисторический период вызревали и разрабатывались структуралистские проблемы, во Франции центр лингвистической мысли был сосредоточен в Париже (Сорбонна, Коллеж де Франс, Практическая школа высших исследований). Наблюдался своего рода абсолютизм - непререкаемым авторитетом вплоть до конца тридцатых годов был Антуан Мейе - компаративист и основатель французской школы социолингвистики. Будучи учеником Ф. де Соссюра-компаративиста (не-структуралиста), он невольно закрывал путь структурализму во французской лингвистике. Во-вторых, примечательно, что разработка структуралистких проблем происходила поэтапно, следуя соссюровским уровням языковой системы и за пределами ведущих лингвистических центров . Хронологически структурализм начинается с разработки уровня фонемы - пражская фонология (Н.С. Трубецкой, Р.О. Якобсон). Морфемный уровень разрабатывается изначально в рамках функционализма А. Мартине, который имел эпистолярные контакты с Н.С. Трубецким, более десяти лет проработал в США, хорошо зная американский структурализм, активно сотрудничал с Нью-Йоркским лингвистическом кружком -«филиалом Праги». Синтаксический «ярус» создавался Л. Теньером в Страсбурге и изложен в фундаментальных «Элементах структурного синтаксиса». Как отмечает исследователь французского структурализма Ф. Досс, «русские и швейцарцы после первой мировой войны подхватили эстафету в лингвистической дисциплине, в которой до этого доминировали немцы, проповедовавшие, в основном, сравнительную филологию» (здесь и далее перевод мой - Н.А.) [1: 63]. Речь идёт, несомненно, о Р.О. Якобсоне, Н.С. Трубецком и Ш. Балли и А. Сеше.
«Первотолчком» для появления и развития широкого исследовательского направления в области гуманитарных наук, которое теперь принято называть французским структурализмом, послужил основной труд К. Леви-Стросса, который относится к области антропологии и называется «Structures élémentaires de la parenté», («Элементарные структуры родства» 1949 г.). Это яркий пример того, как теоретическая парадигма (принципы и методы) одной дисциплины (в данном случае, лингвистики), может быть скалькирована и адаптирована для другой дисциплины (в данном случае, антропологии), и в дальнейшем перенесена в качестве базовых постулатов для эволюции целого ряда гуманитарных дисциплин, включая лингвистику.
Революция, которую осуществил К. Леви-Стросс в антропологии, состоит в дебиологизации, т.е. выводе за пределы проблематики естественных наук феномена табуирования (запрещения) инцеста (кровосмешения). К. Леви-Стросс отказывается от объяснения запрета кровосмешения, исходя из этноцентрических моральных соображений. Структурная гипотеза рассматривает отношения родства как основу социальной репродукции. Под элементарными структурами родства К. Леви-Стросс понимает системы, которые предписывают союз с определённым типом родственников (parents). Другими словами, когда рассматривают всех членов некой группы как родственников, в них различают две категории: супругов (conjoints) возможных (разрешённых) и запрещённых [2: IX]. Таким образом, очерчивается круг родственников и круг союзников. В таком типе структур запрещены союзы с братьями, сестрами и параллельными кузенами (двоюродными братьями и сестрами), а также с двоюродными братьями и сестрами по материнской линии.
Для иллюстрации К. Леви-Стросс приводит пример австралийских племен кариера и аранда на основе различения родства по отцовской и материнской линии. В системе кариера племя разделено на две группы, которые в свою очередь делятся на две секции. Принадлежность к группам передаётся по отцовской линии, но сын принадлежит к другой секции. Таким образом создаётся чередование поколений, а также система союзов с двухсторонней скрещённой кузиной (cousine bilatérale croisée): двухсторонняя двоюродная сестра, так как она одновременно является дочерью сестры отца и дочерью брата матери Эго. В племени аранда создана подобная система, но по материнской линии. Речь идёт о симметричных союзах, которые К. Леви-Стросс относит к ограниченным обменам и которые противопоставлены системам также элементарным, но с неопределённым числом групп с односторонними союзами, в данном случае обмены становятся всеобщими. «В то время как система двухстороннего союза может функционировать по двум потомственным линиям, необходимы по крайней мере три линии, чтобы создать систему одностороннего союза. Если А находит супруга в В, то он должен отдавать своих женщин третьей линии С, которая, в свою очередь, отдаёт своих женщин в В, завершая цикл» [4: 26].
К. Леви-Стросс доказывает, что союз полов – это социально-культурный феномен. Запрет больше не рассматривается как чисто негативный факт, но как позитивный создатель социальной системы. Система родства анализируется как произвольная система представлений, в духе теории произвольного знака Ф. де Соссюра. К. Леви-Стросс порывает с натурализмом, рассматривая запрет инцеста как пробный камень (pierre de touche) перехода от природы к культуре. «Запрет инцеста выражает переход от естественного факта кровного родства к культурному факту союза» [2: 36]. Таким образом, запрет инцеста принадлежит одновремен- но двум областям, находясь на линии водораздела природы и культуры. Он составляет произвольное необходимое правило, которое человек привносит в природный порядок. В нём одновременно присутствуют частные правила, нормативный код (культура) и универсальные признаки (природа). «Запрет инцеста находится одновременно на пороге культуры, внутри кульруры, и в некотором смысле это сама культура [цит. раб.: 14]. Антропология выходит, таким образом, за пределы круга естественных наук и оказывается исключительно в области куьтуры.
Как указывает Ф. Досс [1: 38], К. Леви-Стросс в течение своего пребывания в Нью-Йорке во время второй мировой войны имел длительные научные контакты с Р.О. Якобсоном и прослушал курс структурной фонологии Н.С. Трубецкого. Фонология пражцев послужила теоретической базой разработки модели структурной антропологии. Для К. Леви-Стросса «Фонология не может не играть по отношению к социальным наукам такую же новаторскую роль, что и атомная физика, например, сыграла для всех точных наук» [2: 39]. Он переносит дифференциальную модель значения на антропологическую почву: «Как фонемы, отношения родства есть элементы значения; как фонемы, они приобретают значение только при условии интегрирования в системы» [цит. раб.: 40–41]. Антропология, как и фонология, занимается поиском инвариантов, исходя из множества найденных вариантов, не обращаясь к сознанию говорящего (sujet parlant), откуда проистекает превалирование бессознательных феноменов структуры. В этом отношении К. Леви-Стросс ссылается на Н.С. Трубецкого: «Современная фонология не ограничивается заявлением, что фонемы – всегда элементы системы, она показывает конктретные фонологические системы и выявляет их структуру» [3: 40]. Подобно тому как фонология приводит сложный языковой материал к ограниченному числу фонем, антропология при изучении систем, существующих в примитивных обществах, должна разложить, а затем сократить наблюдаемую реальность до ограниченного числа составляющих. Матримониальные системы организуются на основе соотношения между правилом родственной связи и правилом места жительства – отношение столь же произвольное, как и понятие знака у Ф. де Соссюра. Принимая соссюровскую дихотомию означающее – означаемое, К. Леви-Стросс адаптирует её к антропологии: приписывая означающему статус структуры и означаемому – статус смысла. У Соссюра речь идёт о соотношении звука и концепта (понятия). Если в этом смысле имеет место трансформация соссюровской модели, то в отношении дихотомии синхрония – диахрония автор структурной антропологии решительно принимает принцип превалирования синхронии, чем предвосхищает будущую полемику вокруг истории.
Речь, однако, не идёт о простом заимствовании лингвистических методов для решения задач антропологии. Напротив, антропология ставится во главу угла при изучении социальных явлений, включая в себя лингвистику. Интерпретация социальных явлений выступает результатом «теории коммуникации» из трёх уровней: коммуникация – обмен женщинами между группами следуя правилам родства; коммуникация товаров и услуг следуя правилам экономики, коммуникация как обмен сообщениями (messages) следуя правилам лингвистики [3: 95]. Включая эти три уровня в глобальный антропологический проект, К. Леви-Стросс постоянно проводит параллель между методами обеих дисциплин: «Система родства – это язык (langage)» [цит. раб.: 58]. «Следует признать, что существует формальное соответствие между структурой языка и структурой систем родства» [цит. раб.: 71]. Лингвистика возводится, таким образом, в ранг пилотной дисциплины (science pilote), исходной модели. Она должна помочь антропологии обосноваться в пространстве культуры, социума и порвать с прошлой принадлежностью к физической антропологии. Начиная с «Элементарных структур родства», К. Леви-Стросс обращается не только к лингвистике, но и к формализованым структурам математики (группа Бурбаки), в этом он следует эволюции структуралистской модели, как и Р.О. Якобсон: имеет место перенос внимания с членов некоего отношения на отношение между ними, независимо от их содержания. Это отражает общую направленность французского структурализма – придать гуманитарным наукам статус «научности» (scientificité), подобно ньютоновской физике.
Подведем итоги. Структурализм для французской лингвистической традиции получил статус превалирующей парадигмы через структурную антропологию К. Леви-Стросса, новую гуманитарную дисциплину, которая, в свою очередь, является зеркалом пражской структурной фонологии. Уже здесь мы обнаруживаем «подводные камни» канонического структурализма, которые неизбежно породят новые «замещающие» направления: синтаксическую семантику (отказ от изучения означаемого), прагматику или теорию высказывания (игнорирование субъекта высказывания), возврат к историко-культурному направлению («изгнание Клио»).
Список литературы Антропология К. Леви-Стросса как зеркало пражской фонологии
- Dosse F. Histoire du structuralisme. Paris: Edition La Decouverte, 1992, 472 p.
- Levi-Strauss Cl. Les structures elementaires de la parente. Paris: Mouton, 1967 (1949), 591 p.
- Levi-Strauss Cl. Anthropologie structurale. Paris: Plon, 1996 (1958), 450 p.
- Sperber D. et alii Qu’est -ce que le structuralisme? Le structuralisme en anthropologie. Paris: Points-Seuil, 1968, 446 p.