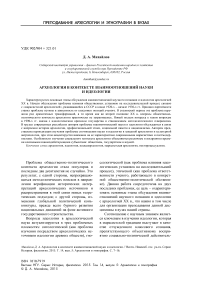Археология в контексте взаимоотношений науки и идеологии
Автор: Михайлов Дмитрий Алексеевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Преподавание археологии и этнографии в вузах
Статья в выпуске: 5 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Характеризуются основные этапы обсуждения взаимоотношений научного познания и идеологии археологией XX в. Начало обсуждения проблемы влияния общественных установок на исследовательский процесс связано с «марксистской археологией», развивавшейся в СССР в конце 1920-х - начале 1930-х гг. Принцип партийности ставил проблему истины в зависимость от классовых позиций ученого. В сталинский период эта проблема пережила ряд драматичных трансформаций, в то время как во второй половине XX в. вопросы общественно-политического контекста археологии практически не затрагивались. Новый подъем интереса к таким вопросам в 1990-х гг. связан с идеологическим кризисом государства и становлением методологического плюрализма. В трудах современных российских авторов проблемы взаимоотношений науки и идеологии обсуждаются в связи с вопросами истории археологии, профессиональной этики, социальной памяти и национализма. Автором представлена периодизация изучения проблемы соотношения науки и идеологии в западной археологии и культурной антропологии, при этом акцентируется внимание на ее характеристике современными марксистами и постмодернистами. Особенности изучения социального контекста археологии объясняются различием в восприятии времени ключевыми взаимодействующими субъектами: обществом, государством и наукой.
Археология, идеология, псевдоархеология, марксистская археология, постпроцессуализм
Короткий адрес: https://sciup.org/147219342
IDR: 147219342 | УДК: 902/904
Текст научной статьи Археология в контексте взаимоотношений науки и идеологии
Проблема общественно-политического контекста археологии стала популярна в последние два десятилетия не случайно. Это результат, с одной стороны, непрекращаю-щихся методологических поисков в направлении верификации исторических интерпретаций археологических источников и распространения в этой связи новых теоретических подходов; с другой стороны, изменения глобальной политической конъюнктуры, прежде всего бурного развития национальных движений на фоне активного государственного строительства.
Вопросы идеологии в археологической науке актуализируются в трех проблемных плоскостях: онтологической (как проблема изучения посредством археологических источников идеологии древних обществ), гно- сеологической (как проблема влияния идеологических установок на исследовательский процесс), этической (как проблема ответственности ученого, работающего в конкретной общественно-политической обстановке). Данная работа сосредоточена на двух последних проблемах, ее цель – охарактеризовать основные этапы обсуждения взаимоотношений научного познания и идеологии с археологией XX в., что важно в том числе для организации преподавания данной дисциплины в вузах нашей страны.
Соотношение с научным знанием является ключевым в изучении идеологии, которая в марксистской традиции выступает в качестве отчужденного классового сознания, препятствующего объективному восприятию социально-политической действитель-
Михайлов Д. А. Археология в контексте взаимоотношений науки и идеологии // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 5: Археология и этнография. С. 7–16.
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 5: Археология и этнография
ности. Возникающая гносеологическая дилемма советской социологической мыслью разрешалась через противопоставление реакционной, антинаучной буржуазной идеологии и научной, прогрессивной идеологии пролетариата. Соответственно проблема истины в советской исторической методологии ставилась в зависимость от того, на каких классовых позициях находится ученый. Предполагалось, что партийность и объективность не противоречат друг другу, поскольку интересы рабочего класса соответствуют объективному ходу общественноисторического развития [Ковальченко, 2003. С. 258–260].
Начало западной критики идеологии основывалось на отрицании ее познавательных возможностей. Гносеологической проблемы не смогли снять ни стремление обозначить угасание значения идеологии в общественной жизни неолибералами, ни дискредитация самого социального знания неопозитивистами, ни неофрейдистские и постмодернистские попытки получения рафинированного социального знания через введение новых категорий. Корреляция между социальной обусловленностью исторического знания и ее объективностью осталась, по выражению К. Гирца, «сфинксовой загадкой» [2004. С. 228]. «Понятие идеологии, – замечает В. М. Бухараев, – не удается ни элиминировать из научного знания, ни свести его содержание к совокупности культурных регуляторов и норм» [2008. С. 68]. Таким образом, положение о внеидеологич-ном субъекте не имеет теоретического обоснования, взаимоотношения науки и идеологии – это «и конфликт, и компромисс, включая такую его разновидность, как симбиоз» [Бухараев, Степаненко, 2006. С. 59].
Обсуждение проблемы соотношения научного познания и идеологии в археологии связано с распространением марксизма. Впервые проблемы политической актуальности археологии стали системно осмысляться в рамках «марксистской археологии», зародившейся в СССР на рубеже 1920-х – 1930-х гг. Ее содержанием стали социологизация в духе Н. Я. Марра, концентрация на социально-экономическом факторе как цели и критерии археологического исследования и критика с этих позиций «концепций механистического и идеалисти- ческого порядка», а также «формального вещеведения».
С точки зрения проблемы познания отстаивался принцип партийности. С. Н. Быковский, один из руководителей советской археологии того времени, подчеркивал глубокие различия «условий “тенденциозности” пролетарского историка и тенденциозности буржуазного историка» [1931. С. 27]. Осмысление прошлого с точки зрения пролетарской целесообразности привело к деквалификации самой археологии, которую стали противопоставлять официально принятому термину «история материальной культуры» [Генинг, 1982. С. 77–78; Формозов, 2006. С. 57].
Одним из направлений «марксистской археологии» стал анализ истории отечественной науки. В. И. Равдоникас попытался показать, как методологические принципы археологов зависят от их классовой принадлежности. К дворянско-феодальной археологии он отнес всех крупнейших археологов второй половины XIX в., начиная с «сына известного реакционера» А. С. Уварова. Характерно, что исключение составил только тяготеющий к западной науке М. И. Ростовцев. Говоря о буржуазном направлении в археологии, главным критерием которого считался формализм, Равдоникас сосредоточился на критике В. А. Городцова. Наконец, палеоэтнологическая школа Ф. К. Волкова была названа мелкобуржуазной, с характерными националистическими устремлениями [Равдоникас, 1930. С. 33–50].
Другим следствием «марксистской археологии» стал поиск общественно-политических корней теорий иностранных коллег. Особое внимание было уделено изобличению обслуживания западными учеными колониальных интересов империалистов [Шнирельман, 1993. С. 56]. Основная критика сосредоточилась на теоретических положениях национально ориентированного миграционизма, ярким представителем которого являлся Г. Коссина. Благодаря этому была раскрыта социально-экономическая, классовая сущность коссинизма, его связь с идеологией германского национализма [Клейн, 2000. С. 134]. «Беспощадная борьба с лженаучными фашистскими писаниями» оставалась актуальной и в последующие годы. Наряду с буржуазным идеализмом в духе времени критиковалась космополитическая идея мировой культуры, а также сме- стившийся из фашистской Германии в США «центр расистской пропаганды» [Задачи советских археологов…, 1953. С. 12–13].
Имела «марксистская археология» и куда более драматичные, внетеоретические последствия. Понимание истории в духе акад. М. Н. Покровского, как «опрокинутая в прошлое политика», с учетом революционного дискурса приводило к поиску в науке врагов и вредителей. «Бдительность, политическая прозорливость, овладение большевизмом, критика и самокритика являются необходимым условием для того, чтобы ликвидировать вредителей-двурушников и последствия их вредительства», – писала «Советская археология» в 1937 г. [О вредительстве…, 1937. С. 5]. Печальным подтверждением того, что «марксистская археология» не смогла открыть абсолютных «объективно-истинных» законов, стали репрессии в отношении ряда ключевых ее руководителей по идеологическим мотивам.
Сильное влияние на положение дел в отечественной археологии оказал патриотический поворот советской идеологии середины 1930-х гг. Его содержанием стал переход от преобладавших в первые годы советской власти идей интернационализма к постулатам, обосновывающим построение национального государства, что сопровождалось беспрецедентным давлением на гуманитарную науку [Shnirelman, 1995. P. 129]. В итоге от критики методологии Коссины отечественные исследователи перешли к критике его выводов, причем делалось это с теоретических позиций самого Коссины [Клейн, 2011. С. 149]. Отказ археологии в самостоятельности не только не избавил ее от национализма, но, напротив, открыл дорогу национализации прошлого. Особенно ярко официальный национализм проявился в изучении древней истории славян, которая стала частью официальной идеологии советского государства [Аксенова, Васильев, 1993; Клейн, 1993; Шнирельман, 1993]. После смерти акад. М. Н. Покровского историческая истина определялась лично И. В. Сталиным, что создавало ситуацию неопределенности, исключающую всякую возможность рационального объяснения того, кто прав или кто не прав [Юрганов, 2011. С. 484]. В такой обстановке объективное изучение проблемы взаимоотношений археологии и идеологии было невозможно.
В 1960–80-е гг. новое поколение советских ученых вопросов взаимоотношений идеологии и археологии практически не касалось. В целом большая часть отечественных археологов перешла на интерналист-ские позиции академического нейтралитета, что на практике выразилось в отходе на позиции эмпиризма [Клейн, 2004. С. 206]. Высказывались разные точки зрения на степень влияния в данный период идеологических установок на археологию [Гуляев, Беляев, 1995. С. 100; Шер, 1999. С. 212], но обсуждение самой проблемы практически не велось.
Изменение отношения государства и общества к науке в 1990-е, что особенно чувствительно проявилось в ограничении финансирования, заставило археологов вернуться к обсуждению вопросов идеологии. В. И. Гуляев и Л. А. Беляев констатировали, что «общество отвернулось от археологии», и связывали это в том числе с тем, что «ни для общества, ни для государственных и внегосударственных идеологических потребностей археология как одна из фундаментальных исторических наук не является сейчас зоной естественного притяжения» [Гуляев, Беляев, 1995. С. 101–102]. В настоящее время с этим сложно согласиться, поскольку мы знаем, что в национальных республиках шел процесс формирования национальных историй, активно привлекающих материалы археологии. Это не замедлило проявиться в масштабных «войнах памяти».
С исчезновением СССР появились предпосылки для широкого обсуждения методологических проблем, в том числе и вопросов, связанных с идеологией. Глубокая связь развития отечественной археологии с общественно-политическими процессами раскрыта в работе Л. С. Клейна «Феномен советской археологии» [1993]. По мнению Клейна, именно способность преодоления ученым своих философских и политических предпочтений определяет научность его исследования: «Теория, конечно, присутствует в фактах, и предвзятые идеи сидят в наших головах, но вся штука в том, что мы об этом знаем. На то мы и ученые, чтобы это знать и справляться с этим. И мы в той степени ученые, в какой с этим справляемся» [Клейн, 2004. С. 243–244].
На примере регионов Кавказа, Поволжья, Средней Азии В. А. Шнирельманом была показана роль официального и периферийных национализмов в формировании исследовательской повестки в археологии СССР [Виктор Александрович Шнирельман, 2009. С. 76–95; Шнирельман, 2013. С. 4]. Большое внимание он уделил развитию современных версий древнего прошлого, формирующих идеологию государств постсоветского пространства, подчеркивается сложность взаимоотношений науки и идеологии: «На самом деле люди выстраивают и конструируют прошлое, во-первых, исходя из окружающей их социополитической действительности и связанных с ней интересов, а во-вторых, для того, чтобы, опираясь на это интерпретированное соответствующим образом прошлое, выдвигать проекты на будущее… В итоге научные по видимости произведения многих наших современников имеют зримые черты социальной конструкции и по ряду параметров весьма близки к мифологии» [Шнирельман, 2000. С. 14]. Шнирельман понимает историю как разновидность социальной памяти и, соответственно, не видит оснований их резко противопоставлять. Следовательно, зыбкой является и грань между идеологически обусловленным произведением и работой неан-гажированного историка: «Ведь историки разделяют предубеждения и заблуждения, свойственные своей эпохе и своему социальному окружению…» [Шнирельман, 2006. С. 533].
Много внимания проблемам общественно-политической конъюнктуры в отечественной археологии уделил А. А. Формозов. Поднятые им проблемы этического плана, связанные с устремлениями археологов к широким историческим обобщениям в 1970-е гг., нашли развитие в характеристике особенностей организации археологической науки, профессиональных отношений, в историографических работах 2000-х гг. (см.: [Формозов, 2005; 2006]), вызвав неоднозначную реакцию научной общественности [Российская археология, 2006. С. 165–181]. При этом Формозов пытается противопоставить внутренние закономерности развития русской археологии внешнему влиянию «навязанных сверху партийных установок» [1995. С. 226].
Вряд ли можно утверждать, что в отечественной археологии сформировалось самостоятельное направление, изучающее ее взаимосвязь с общественно-политическими процессами. Осмысление связанных с этим методологических вопросов чаще всего ведется в рамках историографических исследований, число которых в последние годы значительно увеличилось.
Начало обсуждения роли идеологии в археологическом знании западной наукой начинается также с приходом марксизма. Первопроходцем в этом вопросе стал Г. Чайлд, который признавал влияние, оказанное на него советской наукой [Лынша, 2001. С. 14]. Чайлд различал истинное, преобразующее действительность сознание и сознание ложное, представленное в виде различных религиозных форм [Trigger, 1994. P. 22]. С эпистемологической точки зрения, Чайлд подчеркивал отличие идеологии от научного познания. Идеология как индивидуальная иллюзия или коллективное заблуждение способна мешать развитию социального знания, препятствовать его прогрессу. Диалектика развития знания, по Г. Чайлду, подразумевает постепенное его движение через преодоление ошибочных суждений [McGuire, Bernbeck, 2011б. P. 42].
В 1960-е гг. на западе господствовал процессуализм, с его позитивистской программой изучения культуры. Если истории неопозитивизм отказывал в статусе науки, то в случае с археологией применение методологии неопозитивизма, напротив, обернулось тотальной сциентизацией. «Новая археология» отстаивала строгость и независимость археологического исследования, которые достигались широким использованием методов естественнонаучных и точных дисциплин. Археологи-процессуалисты вслед за известным культурным антропологом Л. Уайтом понимали идеологию как синоним мировоззрения. Она трактовалась эссенциально, в отрыве от различных форм общественной жизни, как самостоятельная сфера культуры. Идеология в качестве истории идей лишалась аналитической мощи, использовать ее для решения гносеологических проблем было невозможно [Ibid. P. 46].
В конце 1970-х гг. позитивистский оптимизм сменился скепсисом относительно предмета, методов и целей археологии. Атака на процессуализм в основном ведется с двух направлений. Во-первых, со стороны марксизма. Ключевым, по мнению Р. МакГуайра, стал вопрос, поднятый в 1979 г. мексиканскими археологами: «Для кого археология?» (Arqueologia para quien? / Ar- chaeology for Whom?) [McGuire, 2007. P. 9– 10]. Сама формулировка вопроса подразумевает, что археология не является чистым знанием, а неизбежно обслуживает интересы определенных социальных групп. Известный археолог-марксист Б. Триггер считает, что археологи всегда будут вынуждены адаптироваться к политической и экономической ситуации, которая может как содействовать развитию науки, так и сдерживать ее. В то же время интерпретация прошлого в значительной мере определяется и внутренними факторами – знаниями археологов, методами, которые они используют для реконструкции прошлого. Очевидным является то, отмечает Триггер, что исследования археологов – это не простое отражение их этнической и классовой принадлежности или результат влияния на них какой-то авторитетной фигуры, даже если она способна к экономическому и политическому принуждению. Выводы археологов опираются на состояние науки в определенном месте в определенное время [Trigger, 1995. P. 265–266].
Наиболее контрастно связь археологии с общественно-политическими процессами проявляется в коммерциализации древностей, истоки чего Я. Хамилакис выводит еще из антикварного периода. В XVIII – начале XIX в. антикваров, торговцев, путешественников охватила лихорадка поисков античных древностей, торговля которыми приобрела большой размах. Коммерческие свойства частных коллекций передались и первым музеям, у которых обнаруживается много общего с торговыми лавками. Но особое коммерческое значение древности приобрели с их превращением в национальные ценности, в символический капитал, одновременно обеспечивающий престиж нации. Здесь Я. Хамилакис отметил интересное противоречие: с одной стороны, национализм пытался придать артефактам значение религиозных святынь, с другой – артефакты все больше превращались в товар [Hamilakis, 2007. P. 16–18]. Именно противоречие между статусом древностей как товара и как культурных ценностей создает основные проблемы этического характера [Layton, Wallace, 2006. P. 46].
Вторым направлением, поставившим под сомнение научную чистоту археологии, оказался постпроцессуализм. Радикальные позиции в отношении проблемы познаватель- ных возможностей археологии заняли последователи Я. Ходдера М. Шэнкс и Кр. Тилли. Философское обоснование отношений академической науки и политики, по мнению М. Шэнкса, содержится в одиннадцатом тезисе Маркса о Фейербахе: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» [Shanks, 2004. P. 492]. В работе «Социальная теория и археология» М. Шэнкс и Кр. Тилли дали характеристику двум образам археолога. Первый – археолог-детектив, который с помощью изощренных методов по крупицам собирает истинную картину прошлого. «Но все мы знаем, что в действительности все не так просто, – пишут Шэнкс и Тилли, – иначе мы бы уже давно изучили прошлое и принялись писать научную фантастику. Существует одна большая проблема с будущим, оно имеет раздражающую тенденцию создавать новое прошлое». Второй образ – археолог-врач. С помощью погружения нас в объективистские иллюзии, исторический метод пытается освободить нас от бремени выбора: выбора альтернативных значений, альтернативного прошлого. Такой подход исключает субъективность, что позволяет создать впечатление эпистемологической безопасности. В то же время лечебное назначение археологического метода одновременно отравляет изучение прошлого, пронизывая нашу практику двойственностями – субъект отделяется от объекта, факт от оценки, прошлое от настоящего [Shanks, Tilley, 1988. P. 7–8].
Шэнкс и Тилли призывают рассматривать археологический источник как символ, открытый для многочисленных интерпретаций, которые всегда должны быть обусловлены современной общественно-политической ситуацией. Они ставят вопрос относительно материальности археологического объекта. Артефакт – это материальный фрагмент, который не содержит прямого ответа на какой-либо вопрос, он не представляет собой прошлое и не обладает его свойствами. Артефакты, по М. Шэнксу и Кр. Тилли, – это символы, которые требуют прочтения, интерпретации, а не применения метода, заведомо воспроизводящего объект. Следовательно, к археологическому источнику не могут быть применены дедуктивный или индуктивный методы исследования. Эти авторы понимают интерпретацию как акт отказа от завершенности, универ- сальности истории, идеи последовательного единства, законченного развития. Интерпретация связана со стратегическим познанием, не оторванным от социальной среды, но полемически отвечающим особым условиям, уделяющим большое внимание политическим и историческим обстоятельствам, встроенным в современную структуру власти [Ibid.].
При всем разнообразии в понимании идеологии, в ее изучении современной археологией МакГуайр и Бернбек выделяют несколько общих теоретических положений [McGuire, Bernbeck, 2011а]. Во-первых, идеология понимается как процесс или как система отношений (между реальностью и представлениями о ней, субъектом и объектом, теорией и практикой, общественными интересами и способами их реализации). Во-вторых, идеология рассматривается в контексте различных видов и форм отношений социального неравенства. В-третьих, основная цель идеологии – производство и представление идей в конкретных социальных условиях. В-четвертых, анализ идеологии – это всегда критика идеологии, но при этом не может существовать оценки идеологии вне конкретных социальных условий.
Социальная обусловленность археологии производит серьезный идеологический фон, который проявляется не только в работах дилетантов, но и профессионалов. «Псевдоархеология, – отмечает Г. Фэган, – может стать ловушкой и для профессиональных археологов в случае, если их амбиции, идейные соображения или другие личные убеждения встают на пути честного исследования» [Fagan, 2006. P. 32]. Это превращает вопросы этики научного исследования в одну из центральных методологических проблем. В принятом в 1998 г. Кодексе этики Американской антропологической ассоциации, в частности, отмечается, что исследователи «должны тщательно рассматривать социальное и политическое значение той информации, которую они распространяют. Они должны делать все, что в их силах, чтобы гарантировать, что такая информация будет понята правильно и в соответствующем контексте, что она будет использоваться с ответственностью» [Кодекс этики…, 2000].
Итак, археология всегда оказывается вплетена в систему групповых интересов, среди которых в большей степени на нее влияют такие факторы, как политическая конъюнктура, коммерциализация древностей и особенности организации профессионального сообщества. С одной стороны, проблема идеологии в археологическом исследовании является неотъемлемой частью ключевой гносеологической проблемы истории, определяющей ее специфику, как гуманитарной науки. С другой стороны, поиски решения вопросов объективности исторических интерпретаций археологических источников существуют в постоянно трансформирующихся социальных условиях. В 1990-е гг. российским археологам пришлось приспосабливаться к рыночным отношениям, политическому плюрализму, резко изменившейся системе ценностей, динамично развивающемуся информационному пространству. Появление новых средств коммуникаций постоянно увеличивает количество социальных групп, чьи интересы могут быть связаны с интерпретацией археологических источников. Интересы эти вступают в конфликт не только с наукой, но и между собой, создавая дополнительное общественно-политическое напряжение.
Аналитическое распознавание различных способов восприятия прошлого позволяет решать многие проблемы лженауки и дилетантизма в археологии, создает условия для объективной оценки познавательных возможностей археологических источников. Принципиальные трудности в изучении общественно-политического контекста археологии связаны с тем, что ключевые субъекты рассматриваемых отношений – общество, государство и наука – существуют в разных темпоральных измерениях. Государственная политика в области идеологии, в зависимости от характера политического режима, может быть либо непредсказуемо изменчивой, либо разнонаправленной. Общественная реакция зависит от культурных установок, смены поколений и классовой констелляции. При этом восприятие прошлого обществом гораздо инертнее и дис-кретнее по сравнению с научным: постоянно включенный в познавательный процесс исследователь реагирует на изменения не только критичнее, но и значительно динамичнее. Поскольку перечисленные субъекты не существуют независимо друг от друга, проблема приобретает многомерность и многоплановость.
Список литературы Археология в контексте взаимоотношений науки и идеологии
- Аксенова Е. П., Васильев М. А. Проблемы этногонии славянства и его ветвей в академических дискуссиях рубежа 1930-1940-х годов // Славяноведение. 1993. № 2. С. 86-104.
- Бухараев В. М. «Эра иллюзий» перед лицом научной логики: карамболь Ивана Грозного в историческом сознании // Учен. зап. Казан. гос. ун-та. 2008. Т. 150, кн. 1. С. 65-73.
- Бухараев В. М., Степаненко Г. Н. Идеология и научное познание: от конфликта до компромисса // Учен. зап. Казан. гос. ун-та. 2006. Т. 148, кн. 1. С. 59-67.
- Быковский С. Н. Методика исторического исследования. Л.: ГАИМК, 1931. 204 с. Виктор Александрович Шнирельман: Библиогр. указатель. М.: Изд-во ИЭА РАН, 2009. 124 с.
- Генинг В. Ф. Из истории советской археологии // Теория и методы археологических исследований. Киев: Наук. дум., 1982. С. 68-89.
- Гирц К. Интерпретация культур. М.: РОССПЭН, 2004. 560 с.
- Гуляев В. И., Беляев Л. А. О современном состоянии археологии в России (полемические заметки) // Российская археология. 1995. № 3. С. 97-104.
- Задачи советских археологов в свете трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания и экономических проблем // СА. 1953. Вып. 17. С. 9-23.
- Клейн Л. С. Введение в теоретическую археологию. СПб.: Бельведер, 2004. Кн. 1: Метаархеология. 470 с.
- Клейн Л. С. Археология в седле (Коссина с расстояния в 70 лет) // Stratum plus. Кишинев: Высшая антропологическая школа, 2000. С. 88-140.
- Клейн Л. С. История археологической мысли: В 2 т. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2011. Т. 1. 623 с.
- Клейн Л. С. Феномен советской археологии. СПб.: Фарн, 1993. 128 с.
- Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М.: Наука, 2003. 486 с.
- Кодекс этики Американской антропологической ассоциации / Пер. с англ. Е. Ярской-Смирновой // Журнал социологии и социальной антропологии. 2000. № 1. С. 173-180.
- Лынша В. А. Гордон Чайлд и американский неоэволюционизм // ЭО. 2001. № 5. С. 3-17.
- О вредительстве в области археологии и о ликвидации его последствий // СА. 1937. № 3. С. 5-10.
- Равдоникас В. И. За марксистскую историю материальной культуры // Изв. ГАИМК. 1930. Т. 8, вып. 3-4. 94 с.
- Формозов А. А. О книге Л. С. Клейна «Феномен советской археологии» и о самом феномене // РА. 1995. № 3. С. 225-232.
- Формозов А. А. Человек и наука: из записей археолога. М.: Знак, 2005. 224 с.
- Формозов А. А. Русские археологи в период тоталитаризма. 2-е изд., доп. М.: Знак, 2006. 344 с.
- Шер Я. А. О состоянии археологии в России (продолжение полемики) [On the state of archaeology in Russia] // РА. 1999. № 1. С. 209-223.
- Шнирельман В. А. Быть аланами: интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в XX в. М.: НЛО, 2006. 696 с.
- Шнирельман В. А. Злоключения одной науки: этногенетические исследования и сталинская национальная политика // ЭО. 1993. №. 3. С. 52-68.
- Шнирельман В. А. Национализм и археология // ЭО. 2013. № 1. С. 9-25.
- Шнирельман В. А. Ценность прошлого: этноцентрические мифы, идентичность и этнополитика // Реальность этнических мифов. М.: Гендальф, 2000. С. 12-34.
- Юрганов А. Л. Русское национальное государство. Жизненный мир историков эпохи сталинизма. М.: Изд-во РГГУ, 2011. 765 с.
- Fagan G. G. Diagnosting Pseudoarchaeology // Archaeological Fantasies: How Pseudoarchaeology Misrepresents the Past and Misleads the Public / Ed. by G. G. Fagan. N. Y.: Routledge, 2006. P. 23-46.
- Hamilakis Y. From ethics to politics // Archaeology and Capitalism: From Ethics to Politics / Eds. Y Hamilakis, P. Duke. Left Coast Press, Walnut Creek, 2007. P. 16-18.
- Layton R., Wallace G. Is Culture a Commodity? // The Ethics of Archaeology / Eds. C. Scarre, G. Scarre. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2006. P. 46.
- McGuire R. H. Foreword: Politics Is a Dirty Word, but Then Archaeology Is a Dirty Business // Archaeology and Capitalism: From Ethics to Politics / Eds. Y Hamilakis, P. Duke. Left Coast Press, Walnut Creek, 2007. P. 9-10.
- McGuire R., Bernbeck R. Ideology and Archaeology: Between Imagination and Relational Practice // Ideologies in Archaeology / Eds. R. A. Bernbeck, R. McGuire. Tucson: Univ. of Arizona Press, 2011a. P. 1-15.
- McGuire R., Bernbeck R. A. Conceptual History of Ideology and its Place in Archaeology // Ideologies in Archaeology / Eds. R. A. Bernbeck, R. McGuire. Tucson: University of Arizona Press, 2011б. P. 15-60.
- Shanks M. Archaeology and Politics // A Companion to Archaeology. Malden, MA; Oxford: Blackwell, 2004. P. 490-508.
- Shanks M., Tilley C. Social Theory and Archaeology. Albuquerque: Univ. of New Mexico Press, 1988. P. 7-8.
- Shnirelman V. A. From Internationalism to Nationalism: Forgotten Pages of Soviet Archaeology in the 1930s and 1940s // Nationalism, Politics and the Practice of Archaeology / Eds. P. Kohl, C. Fawcett. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995. P. 120-138.
- Trigger B. G. Childe's Relevance to the 1990s // The Archaeology of V. Gordon Childe / Ed. by D. R. Harris. Chicago: Chicago Univ. Press, 1994. P. 9-35.
- Trigger B. G. Romanticism, nationalism, and archaeology // Nationalism, Politics, and the Practice of Archaeology / Eds. Ph. L. Kohl, C. Fawcett. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995. P. 263-279.