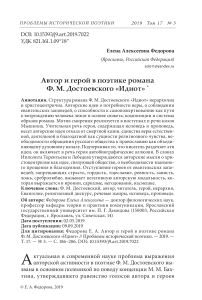Автор и герой в поэтике романа Ф. М. Достоевского "Идиот"
Автор: Федорова Елена Алексеевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.17, 2019 года.
Бесплатный доступ
Структура романа Ф. М. Достоевского «Идиот» иерархична и христоцентрична. Авторские идеи о потребности веры, о соблюдении евангельских заповедей, о способности к самопожертвованию как пути к возрождению человека лежат в основе сюжета, композиции и системы образов романа. Мотив смирения реализуется в поступках и речи князя Мышкина. Учительная речь героя, содержащая исповедь и проповедь, несет авторские идеи отказа от смертной казни, единства веры естественной, деятельной и благодатной как сущности религиозного чувства, необходимости обращения русского общества к православию как объединяющему духовному началу. Подчеркивая то, что писатель разделяет эти идеи, он включает в речь героя автобиографические аллюзии. В словах Ипполита Терентьева и Лебедева утверждаются авторские мысли о христоцентризме как идее, связующей общество, о необходимости взаимного прощения и благодеяния. Отступление героев от евангельских заповедей, запрещающих страсть, гордость, тщеславие, ревность, зависть, ложь, сребролюбие, вызывает негативную авторскую модальность, которая выражается в иронии, сарказме, негодовании, насмешке.
Ф. м. достоевский, автор, читатель, герой, иерархия, евангелие, религиозный дискурс, речевые жанры, исповедь, проповедь
Короткий адрес: https://sciup.org/147226212
IDR: 147226212 | УДК: 821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2019.7022
Текст научной статьи Автор и герой в поэтике романа Ф. М. Достоевского "Идиот"
А ктуальная в современной науке проблема выражения авторской активности в поэтике Ф. М. Достоевского вызвана в основном полемикой по поводу концепции М. М. Бахтина, утверждавшего равенство голосов автора и героев
[Бахтин, 1929, 1963], [Назиров], [Свительский], [Ветловская], [Miller], [Киносита], [Захаров, 2008], [Касаткина] и др.
Р. Г. Назиров обнаруживал авторское начало Достоевского в его полемичных реминисценциях и парафразах произведений мировой литературы [Назиров: 159]. Особенное внимание он уделял авторской концепции личности, которая предполагает неисчерпаемость героя, поэтому писатель, по мнению исследователя, может совмещать противоположные точки зрения на героя [Назиров: 176]. В. А. Свительский видел художественное единство произведений Достоевского в «монологическом отношении художника к миру»: взаимосвязь между идеями героев задается в композиции, испытывается в сюжете и соотносится с авторской шкалой ценностей [Сви-тельский, 1974: 185, 191]. Согласно концепции В. Е. Ветловской, роман Достоевского сродни философско-публицистическим ораторским жанрам, в которых авторская оценка имеет первостепенное значение. Идеи героев остаются или только частью системы воззрений автора, или опровергаются художественными средствами: Достоевский всегда устанавливает предел индивидуалистическому порыву или своеволию [Вет-ловская: 17, 402–408].
По мнению В. Н. Захарова, в романах Достоевского существует иерархия голосов автора и героев, в поэтике его произведений парадоксально сочетаются «два противоречивых принципа»: «принцип относительной самостоятельности и свободы героя» и «принцип художественной необходимости» [Захаров, 1983: 72]. Каждый из героев, считает исследователь, «способен “умное слово сказать”, это привилегия не только авторитетных и “умных”, но скомпрометированных и “глупых”. Всех их Достоевский наделяет своей проницательностью; не скупясь, нередко отдает им и свои мысли» [Захаров, 1983: 67].
В настоящее время исследователи увлечены проблемой авторского дискурса в художественном тексте [Осадчая], [Ельницкая]. При этом перенос акцента на проблему взаимодействия автора и читателя, на специфику формы повествования приводит исследователей к диаметрально противоположному пониманию роли автора в тексте Достоевского. Если для А. Н. Кошечко «личность автора» — это «ментальная точка отсчета, которая обеспечивает цельность и связность текста» [Кошечко: 80], то для А. Н. Безрукова автор становится «проекцией нарративного характера» [Безруков: 50]. Анализируя речь Мышкина о вере, Безруков утверждает, что «смысловое борение в гранях понятий веры и безверия, атеизма и религии не дает целостно закончить текстовый (смысловой) блок ни автору, ни читателю» [Безруков: 51]. В. И. Габдуллина определяет авторский дискурс как коммуникативную стратегию текста, адресованную читателю, которая воплощается в романе «Преступление и наказание» в речевой сфере как всеведующего автора, так и Раскольникова и других персонажей, а имплицитная форма воплощения авторского дискурса реализована в притчевой стратегии текста («притча о блудном сыне») [Габдуллина, 2010: 92].
На наш взгляд, текст Достоевского иерархически организован, в нем авторское и «чужое» слово обращено к евангельскому слову. Авторская позиция Достоевского выражается в сюжете, композиции, евангельских цитатах, маркированных словах, курсиве (см. об этом: [Зунделович], [Чирков], [Ветлов-ская], [Захаров, 1979]).
Значение Евангелия в творчестве Ф. М. Достоевского исследовали Л. П. Гроссман [Гроссман], Н. М. Чирков [Чирков], Р. В. Плетнев [Плетнев], Г. Ф. Коган [Коган], И. А. Кириллова [Кириллова], Д. Григорьев [Григорьев] и др. Изданы описание и комментарии к Евангелию Достоевского1 (см. об этом: [Текст Евангелия с пометами Достоевского], [Захаров, 2010a, 2010b]). Особое значение в произведениях Достоевского имеют символы христианского календаря [Захаров, 1994].
Главная евангельская заповедь для Достоевского — это христианская любовь, которая, как это формулирует Т. А. ТерГукасова, «есть религиозно-нравственная деятельная любовь человека ко всем людям, ко всему живому, ко всему миру, любовь безусловная, постоянная, которая включает в себя любовь к ближнему, смирение, стремление к совершенству через осознание красоты и полноты жизни» [Тер-Гукасова: 5]. Почти в каждом произведении Достоевского после каторги (начиная с «Записок из Мертвого дома») есть аллюзии и цитаты к Нагорной проповеди, которая утверждает Заповеди
Блаженства, в частности любовь к ближнему, и которая звучит на православном богослужении. «Заповеди Блаженства наиболее четко и сжато излагают основы духовной жизни человека. На Литургии они поются в тот самый момент, когда Евангелие торжественно вносится в алтарь, чтобы провозгласить верующим Слово Божье. И Евангелие, и Церковь учат, что человек может войти в таинства Христа и Царства Божия только следуя учению Господа, выраженному в этих Заповедях» [Хопко].
О том, что «Записки из Мертвого дома» стали началом нового этапа в творчестве Достоевского, писали В. А. Туни-манов [Туниманов] и В. Н. Захаров [Захаров, 1994]. В первой части «Записок из Мертвого дома» Горянчиков читает Алею, лезгину с «прекрасным, открытым, умным» и «добродушно наивным лицом», Заповеди Блаженства из Нового Завета и включает его в ценностное пространство любви к ближнему [Достоевский, 1997: 456–457]. Во второй части произведения повествователь сравнивает каторжан, которые для него представляют народ, с мытарем, который, благодаря своей покаянной и смиренной молитве, оказался духовно выше фарисея; со вдовой, которая вносила свою скудную лепту в храм, а также с «благоразумным разбойником», распятым на кресте рядом со Спасителем:
«Арестанты молились очень усердно и каждый изъ нихъ каждый разъ приносилъ въ церковь свою нищенскую копѣйку на свѣчку или клалъ на церковный сборъ: “Тоже вѣдь и я человѣкъ”, можетъ быть думалъ онъ или чувствовалъ, подавая: — “передъ Богомъ-то всѣ равны…” Причащались мы за ранней обѣдней. Когда священникъ съ чашей въ рукахъ читалъ слова: “…но яко разбойника мя прiйми”, — почти всѣ повалились въ землю, звуча кандалами, кажется принявъ эти слова буквально на свой счетъ» [Достоевский, 1997: 616].
Цитата из молитвы святого Василия Великого («Последование ко Святому Причащению») о «благоразумном разбойнике» позволяет вернуть читателя к размышлениям о невозможности судить других людей и о том, какой духовный потенциал скрывается в сердцах каторжан. Обе евангельские цитаты звучат на богослужении — эта утверждающая речевая стратегия характерна для жанра проповеди (см.: [Карасик]). Завершается произведение словами: «Свобода, новая жизнь, воскресенiе изъ мертвыхъ…» [Достоевский, 1997: 688].
В «Записках из Мертвого дома» Достоевский описывает две молитвы — иудея Исая Фомича и черниговского старовера. Обрядовое поведение Исая Фомича не вызывает сочувствия автора, поскольку рассказчик замечает: «…ему чрезвычайно прiятно было поломаться передъ маiоромъ и порисоваться передъ нами» [Достоевский, 1997: 511]. Исай Фомич разъясняет свое поведение:
«Онъ немедленно объяснилъ мнѣ, что плачъ и рыданiя означа-ютъ мысль о потерѣ Iерусалима и что законъ предписываетъ при этой мысли какъ можно сильнѣе рыдать и бить себя въ грудь. Но что въ минуту самыхъ сильныхъ рыданiй онъ, Исай Ѳомичъ, долженъ вдругъ , какъ бы невзначай, вспомнить (это вдругъ тоже предписано закономъ), что есть пророчество о возвращенiи евреевъ въ Iерусалимъ. Тутъ онъ долженъ немедленно разразиться радостью, пѣснями, хохотомъ и проговаривать молитвы такъ, чтобы самимъ голосомъ выразить какъ можно болѣе счастья, а лицомъ какъ можно больше торжественности и благородства» [Достоевский, 1997: 511].
Совсем иначе, с большим сочувствием, рассказчик описывает молитву черниговского старовера:
«Онъ плакалъ и я слышалъ какъ онъ говорилъ по временамъ: “Господи, не оставь меня! Господи укрѣпи меня! Дѣтушки мои малыя, дѣтушки мои милыя, никогда-то намъ не свидаться!” Не могу разсказать какъ мнѣ стало грустно» [Достоевский, 1997: 431].
Молитва старовера напоминает молитву мытаря: «Боже! будь милостив ко мне грешнику» (Лк. 18:13). Эти две молитвы в произведении содержат аллюзию к Евангелию — к притче о молитве мытаря и фарисея (притчевый дискурс), которая имеет следующую дидактическую задачу: «…ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк. 18:14).
Роман «Идиот», подобно «Запискам из Мертвого дома», обращает читателя к Евангелию. Н. Н. Соломина-Минихен называет роман учительным [Соломина-Минихен: 38]. Рукописные пометы, сделанные Достоевским в разные периоды жизни, раскрывают евангельский подтекст этого произведения [Соломина-Минихен: 24]. Мари и Настасью Филипповну объединяет евангельский сюжет о блудной дочери. Первая героиня своей кротостью близка Мышкину, о чем свидетельствует евангельская ситуация гонения на обоих героев (см.: [Соломина-Минихен: 32, 43]). В размышлениях Мышкина о назначении и принятии своего креста есть аллюзия на сюжет Гефсиманского моления. Евангельская идея любви и радости Бога «на человека как отца на свое родное дитя» звучит в словах Мышкина, обращенных к Рогожину и реализуется в финале романа в утешении князем убийцы (см.: [Соломина-Минихен: 25–27]).
Из всех героев самым близким автору является князь Мышкин. Достоевский позволяет лишь однажды подчеркнуто дистанцироваться от Мышкина (в начале второй главы):
«Если-бы кто теперь взглянулъ на него изъ прежде знавшихъ его полгода назадъ въ Петербургѣ, въ его первый прiѣздъ, то пожалуй бы и заключилъ, что онъ наружностью перемѣнился гораздо къ лучшему. Но врядъ ли это было такъ. Въ одной одеждѣ была полная перемѣна: все платье было другое, сшитое въ Москвѣ и хорошимъ портнымъ; но и въ платьѣ былъ недостатокъ: слиш-комъ ужъ сшито было по модѣ (какъ и всегда шьютъ добросовѣстные, но не очень талантливые портные) и сверхъ того на человѣка нисколько этимъ не интересующагося, такъ что при вниматель-номъ взглядѣ на князя, слишкомъ большой охотникъ посмѣяться, можетъ быть, и нашелъ бы чему улыбнуться. Но мало ли отчего бываетъ смѣшно?» [Достоевский, 2009: 197].
В этом пассаже автор позволяет улыбнуться читателю, несколько снижая образ главного героя, но тут же полемизирует с теми, кто собирается над ним смеяться: «Но мало ли отчего бываетъ смѣшно?». Так, невнимание к своему внешнему виду не является для автора поводом для негативной оценки героя, но это описание провоцирует возникновение у читателя своего собственного впечатления о князе.
Исследователи обнаруживают в речи Мышкина традиции учительного слова, для которого характерна забота говорящего об интересах слушателей, боязнь поставить себя выше их, а также одна из древнейших особенностей русского риторического идеала, связанная с этическими ценностями, — кротость, смирение, выражаемые в речи «нарочитым самоуничижением» (см.: [Ткаченко: 52–54]). Ю. Бёртнес выступил с критикой идеи Г. Федотова о «русском кенотизме», утверждая, что кенотический характер древнерусских святых близок протестанской традиции, поскольку освобождение от своей божественной формы существования является временным для Христа. По мнению исследователя, уничижение людей в подражание Христу — это путь к их прославлению и преображению: «Русская кенотическая традиция — это продукт либерального богословия на Западе, которую Федотов перенес в область изучения древнерусской литературы» [Бёртнес: 65]. В. А. Котельников объяснил, почему мотив кенозиса придает художественному миру Достоевского христоцентрический характер: кенозис — это жертвенный отказ от собственного «я» как «свободная внутренняя интенция», это «бесконечное истощение Бога в человеческой природе, безущербное для божественного начала и спасительное для тварного» [Котельников: 195–196]. Ступенями кенотического движения исследователь назвал «бедность», «страдание», «жертву», «самоуничижение», «смирение», «благодатный идиотизм», «безумие», «косноязычие», «юродство» и пр. В образе князя Мышкина В. А. Котельников увидел черты «благодатного идиотизма», правда, по его мысли, кенотическое восхождение Мышкина не состоялось, поскольку он сорвался «в тварность» (см.: [Котельников: 198–200]). А. Е. Кунильский рассматривал кенозис как принцип умаления, снижения образа Мышкина в системе христианских значений романа «Идиот», отказываясь видеть, подобно Котельникову, в главном герое проявления страстности или эротизма и невротизма [Кунильский].
Преп. Иустин Попович отметил характерные для князя Мышкина евангельское смирение и ощущение вины за грехи окружающих и сделал вывод: «Это чувство всегреховности, эта покаянная грусть, это суровое самобичевание, это немилосердное самоосуждение, по мысли Достоевского, пронизывает душу русского народа, характеризуя русскую историю, выявляя то, что есть в народе православного» [Попович: 150] .
В романе «Идиот» звучат три проповеди Мышкина: о смертной казни — это слово обращено к камердинеру и к Епанчиным, речь о вере, произнесенная перед Рогожиным, и слово о значении православия, адресованное высшему обществу. Учительная речь Мышкина включает в себя евангельские цитаты и автобиографические аллюзии. Начиная разговор с камердинером Епанчиных, Мышкин замечает: «…въ настоящее время мои обстоятельства не казисты» [Достоевский, 2009: 22]. Не соглашаясь с необходимостью смертной казни, Мышкин утверждает: «Сказано: “не убий”, такъ за то, что онъ убилъ, и его убивать? Нѣтъ, это нельзя» [Достоевский, 2009: 25–26]. В данном случае реализуется разъясняющая стратегия религиозного дискурса. Перед следующим обращением к Евангелию герой Достоевского произносит слова, которые являются автобиографической аллюзией писателя:
«Можетъ-быть, и есть такой человѣкъ, которому прочли при-говоръ, дали помучиться, а потомъ сказали: “ступай, тебя про-щаютъ”. Вотъ этакой человѣкъ, можетъ-быть, могъ бы разсказать» [Достоевский, 2009: 27].
А затем следуют слова:
«Объ этой мукѣ и объ этомъ ужасѣ и Христосъ говорилъ. Нѣтъ, съ человѣкомъ такъ нельзя поступать!» [Достоевский, 2009: 27].
Н. Н. Соломина-Минихен подчеркивает, что Достоевский в «Дневнике писателя», в записных тетрадях и письмах размышлял о том, что заповедь любви к ближнему должна реализовываться на государственном уровне — в отмене смертной казни [Соломина-Минихен: 120–121].
Недосказанность и намеки в романах писателя выражают апофатический характер его религиозного миросозерцания. Каждый раз, когда герой Достоевского пытается определить сущность религиозного чувства, получается «не то» [Померанц]. В беседе с Рогожиным о вере Мышкин рассуждает об атеисте, который говорит «не про то». Кроме того, герой рассказывает Рогожину о крестьянине, который из-за часов убил своего приятеля, помолившись перед этим, а также о пьяном солдате, который пропил свой крест. Призыв Мышкина подождать осуждать «этого христопродавца» обращает Рогожина к Евангелию:
«Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7:1). Наконец, сущность религиозного чувства герой передает через сравнение этого чувства с отношением матери к ребенку: «…у Бога радость, всякiй разъ, когда Онъ съ неба завидитъ, что грѣшникъ предъ нимъ отъ всего сердца на молитву становится» [Достоевский, 2009: 228].
Святитель Игнатий Брянчанинов, ссылаясь на св. Симеона Нового Богослова, излагает в своих трудах учение о трех верах — естественной, деятельной и благодатной: «…веру естественную, которою мы можем уверовать в Бога, должно отличать от веры деятельной, являющейся в душе от исполнения евангельских заповедей, и от веры живой, изливаемой в сердце Святым Духом. Уверовать в Бога и во Евангелие могут все; деятельную веру стяжавают подвижники Христовы; живая вера есть дар Божий, достояние одних Святых Божиих» [Игнатий (Брянчанинов): 13–14].
В первом случае (об атеисте) Мышкин рассуждает об отсутствии естественной веры. По определению св. Игнатия Брянчанинова, атеист реализует свое желание не верить и доказывает это с помощью разума. Во втором случае (убийство приятеля из-за часов) показано отсутствие веры деятельной: верить — значит соблюдать библейские заповеди, среди которых есть заповедь «не убий». Наконец, третий случай (солдат пропил свой крест) — об отсутствии веры естественной, деятельной и благодатной. Эти три примера нужны автору для того, чтобы предупредить о том, что ожидает героев, которые сделают неверный выбор: история атеиста проецируется на историю Ипполита, за убийцей приятеля проступает Рогожин, который уже приготовил нож. В словах бабы с ребенком, встреченных князем после пьяного солдата, проступает притча о блудном сыне, несущая идею прощения при условии покаяния:
«…точно такъ, какъ бываетъ материна радость, когда она первую отъ своего младенца улыбку запримѣтитъ, такая же точно бы-ваетъ и у Бога радость, всякiй разъ, когда Онъ съ неба завидитъ, что грѣшникъ предъ нимъ отъ всего своего сердца на молитву становится» [Достоевский, 2009: 227 – 228].
Евангельские заповеди определяют поведение главного героя романа «Идиот». При встрече Мышкина с Рогожиным после покушения последнего на жизнь князя заповедь «не судите, да не судимы будете» реализуется в поведении героя: он кается перед Рогожиным, что терял в него веру, и разделяет с ним его вину. Дважды он защищает женщин (Варвару Иволгину и Настасью Филипповну), принимая удар на себя. Так реализуется евангельская заповедь: «Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5:39).
Автор дает ключ к евангельскому осмыслению событий, происходящих в романе. Мышкин напоминает Аглае в беседе о Настасье Филипповне евангельское слово и обращается к собеседнице с призывом: «О, не позорьте ея, не бросайте камня» [Достоевский, 2009: 447]. Он почти цитирует слова Спасителя: «…кто из вас без греха, первый брось на нее камень» (Ин. 8:7) [Соломина-Минихен: 51–52].
В речи к высшему обществу Мышкин дважды переходит от исповеди к проповеди. Сначала он называет себя идиотом: «…нельзя же было не потерять терпѣнiе… съ такимъ идiотомъ, какимъ я тогда былъ» [Достоевский, 2009: 555], а затем утверждает авторскую мысль, что католицизм «искаженнаго Христа проповѣдуетъ» [Достоевский, 2009: 558] и «соцiализмъ порожденiе католичества» [Достоевский, 2009: 559]. В этом месте своей проповеди Мышкин цитирует слова Спасителя о лжепророках: «По дѣламъ ихъ узнаете ихъ…» [Достоевский, 2009: 559]. В Евангелии от Матфея это звучит так: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7:16). Н. Н. Соломина-Минихен отмечает, что это аллюзия к Нагорной проповеди и к Книге пророка Иезекииля (см.: [Соломина-Минихен: 177]). Мышкин напоминает представителям высшего общества о словах Христа, обращенных к апостолам, используя призывную речевую стратегию проповеди: «Станемъ слугами, чтобъ быть старшинами» [Достоевский, 2009: 568]. Это также аллюзия к Евангелию от Матфея: «…так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:28). Парадоксальность евангельского слова предваряется мыслью Мышкина, за которой угадывается автор: «Чтобы достичь совершенства, надо прежде многаго не понимать» [Достоевский, 2009: 568].
Кульминацией речи Мышкина, обращенной к высшему свету, становятся любимые идеи Достоевского о «почве», которая сможет объединить русское общество:
«“Кто почвы подъ собой не имѣетъ, тотъ и Бога не имѣетъ”. Это не мое выраженiе. Это выраженiе одного купца изъ старообрядцевъ, съ которымъ я встрѣтился, когда ѣздилъ» [Достоевский, 2009: 561].
Возможно, здесь присутствует еще одна автобиографическая аллюзия, поскольку Е. Н. Опочинин вспоминал, что Достоевский показывал ему выписки из «Писем Святогорца» Сергея Веснина, которые ему передал знакомый старообрядец (см.: [Опочинин]). Кроме того, одним из праведников в автобиографических «Записках из Мертвого дома» является черниговский старовер.
В исповеди Ипполита Терентьева есть три пассажа, в которых вдруг проступают особенности авторского слова и даже автобиографические аллюзии Достоевского: речь идет о тайне смерти, о необходимости взаимного прощения и о важности милостыни и благодеяния. Рассказывая о своем тяжелом сне, Ипполит передает мистическое чувство, которое он испытал:
«…но въ эту минуту мнѣ показалось, что въ испугѣ Нормы было что-то какъ-будто очень необыкновенное, какъ будто то же почти мистическое, и что она, стало-быть, тоже предчувствуетъ, какъ и я, что въ звѣрѣ заключается что-то роковое и какая-то тайна» [Достоевский, 2009: 402].
Кроме того, именно Ипполит заставляет задуматься слушателей о том, что означает оборот «источники жизни» в Апокалипсисе (см.: [Достоевский, 2009: 383]).
Амбивалентно отношение автора к Лебедеву. При первом появлении его в романе автор сразу его дискредитирует:
«Эти господа всезнайки встрѣчаются иногда, даже довольно часто, въ извѣстномъ общественномъ слоѣ. Они все знаютъ, вся безпокойная пытливость ихъ ума и способности устремляются неудержимо въ одну сторону, конечно, за отсутствiемъ болѣе важныхъ жизненныхъ интересовъ и взглядовъ, какъ сказалъ бы современный мыслитель. <…> многiе изъ нихъ этимъ знанiемъ, равняющимся цѣлой наукѣ, положительно утѣшены, достигаютъ самоуваженiя и даже высшаго духовнаго довольства. Да и наука соблазнительная. Я видалъ ученыхъ, литераторовъ, поэтовъ, политическихъ дѣятелей, обрѣтавшихъ и обрѣтшихъ въ этой наукѣ свои высшiя примиренiя и цѣли, даже положительно только этимъ сдѣлавшихъ карьеру» [Достоевский, 2009: 10–11].
Авторская оценка соотносится с оценкой этих же героев князем Мышкиным, который также упрекает и обличает Лебедева: «Полноте служить двумъ господамъ» [Достоевский, 2009: 206]. Н. Н. Соломина-Минихен замечает, что эти слова являются аллюзией к Евангелию: «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и маммоне (Лк. 16:13; Мф. 6:24)» [Соломина-Минихен: 56–57].
Но когда Мышкин узнает о том, как молится Лебедев (его молитва становится аллюзией к молитве евангельского мытаря), он меняет свое отношение к этому герою:
«Да вотъ Лебедевъ же задалъ ему сегодня задачу: ну ожидалъ ли онъ такого Лебедева? Развѣ онъ зналъ такого Лебедева прежде? Лебедевъ и Дюбарри, — Господи!» [Достоевский, 2009: 236].
Двойственность Лебедева показана также через систему образов. Когда Мышкин блуждает по Петербургу в предчувствии готовящегося покушения на него Рогожина, он вспоминает двух героев из окружения Лебедева, которые становятся для него символами двух начал в душе русского человека:
«И какой же однако гадкiй и вседовольный прыщикъ этотъ давешнiй племянникъ Лебедева? А впрочемъ чтò же я? (продолжалось мечтаться князю) развѣ онъ убилъ эти существа, этихъ шесть человѣкъ? Я какъ будто смѣшиваю… какъ это странно! У меня голова что-то кружится… А какое симпатичное, какое милое лицо у старшей дочери Лебедева, вотъ у той, которая стояла съ ребенкомъ, какое невинное, какое почти дѣтское выраженiе и какой почти дѣтскiй смѣхъ! Странно, что онъ почти забылъ это лицо и теперь только о немъ вспомнилъ. Лебедевъ, топающiй на нихъ ногами, вѣроятно, ихъ всѣхъ обожаетъ. Но чтò всего вѣрнѣе, какъ дважды два, это то, что Лебедевъ обожаетъ и своего племянника!» [Достоевский, 2009: 236].
Дочь Лебедева носит имя Вера неслучайно: именно она — с ребенком на руках — соотносится в авторском дискурсе с героиней из рассказа о вере Мышкина. Вера, исполненная материнской и христианской любовью, всегда поддерживает Мышкина. Лебедев в дальнейшем повествовании становится толкователем Откровения Иоанна Богослова. Автор передает ему свою мысль, которую разделяет и князь Мышкин, о том, что «законъ саморазрушенiя и законъ самосохраненiя одинаково сильны въ человѣчествѣ» [Достоевский, 2009: 386], и о христоцентризме как «связующей, направляющей сердце и оплодотворяющей источники жизни мысли» [Достоевский, 2009: 390]. Лебедев завершает толкование Апокалипсиса проповедью:
«Покажите мнѣ связующую настоящее человѣчество мысль хоть въ половину такой силы какъ въ тѣхъ столѣтiяхъ. И осмѣльтесь сказать наконецъ, что не ослабѣли, не помутились источники жизни подъ этою “звездой”, подъ этою сѣтью, опутавшей людей. И не пугайте меня вашимъ благостоянiемъ, вашими богатствами, рѣдкостью голода и быстротой путей сообщенiя! Богатства больше, но силы меньше; связующей мысли не стало; все размягчилось, все упрѣло и всѣ упрѣли!» [Достоевский, 2009: 391].
Негативное авторское отношение открыто проявляется к героям, вступившим в торги за Настасью Филипповну. Тоцкий, который выставляет свою воспитанницу на торги, не вызывает никакой авторской симпатии:
«…нужно было очень много ума и проникновенiя, чтобы догадаться въ эту минуту, что она давно уже перестала дорожить собой, и чтобъ ему, скептику и свѣтскому цинику, повѣрить серiозности этого чувства…» [Достоевский, 2009: 48].
В авторском слове здесь звучат ирония и сарказм, которые переходят в речевой жанр обвинения. Интонация негодования проступает в авторском слове, посвященном Гане Иволгину:
«Самолюбивый и тщеславный до мнительности, до ипохондрiи; искавшiй во всѣ эти два мѣсяца хоть какой-нибудь точки, на которую могъ бы опереться приличнѣе и выставить себя благороднѣе; чувствовавшiй, что еще новичокъ на избранной дорогѣ и пожалуй не выдержитъ; съ отчаянiя рѣшившiйся на-конецъ у себя дома, гдѣ былъ деспотомъ, на полную наглость…» [Достоевский, 2009: 113].
Авторская насмешка в более мягкой форме проявляется и по отношению к генералу Епанчину:
«…а генералъ хоть и проницалъ (не безъ туготы впрочемъ), но въ затруднительныхъ случаяхъ говорилъ только: гм ! и въ концѣ концовъ возлагалъ всѣ упованiя на Лизавету Прокофьевну» [Достоевский, 2009: 336].
Рассказ о пребывании в мире страстей «положительно прекрасного» героя Мышкина, следующего христианским заповедям, должен убедить читателя в том, что спасение человека не в другом человеке, как это могло показаться в финале романа «Преступление и наказание», а в необходимости веры и соблюдении христианских заповедей. Каждый из героев оказывается во власти своего греха: Рогожин — страсти, Настасья Филипповна — гордости, тщеславия, Аглая — ревности, Ипполит — зависти, генерал Иволгин — лжи, Лебедев — сребролюбия. Г. К. Щенников видел в Мышкине тип подвижника-страстотерпца, христианина и идеолога, который до конца последовал евангельскому завету Христа, «положив свою душу за других» (Ин. 15:13). По мнению исследователя, причина гибели Мышкина — неверные духовные установки окружающих. Концептуальная целостность романа «Идиот» заключается в сложении двух полярных начал — как в реализации Мышкина, так и его героев-антагонистов [Щенников: 35].
Иерархичная структура романа «Идиот» христоцентрична. Евангельское слово проявляется на разных уровнях текста: идеи, проблематики, системы образов, мотивов и прецедентных текстов. Учительные речи Мышкина, включающие в себя исповедь и проповедь, содержат евангельские цитаты и аллюзии, а также авторские идеи: утверждение любви к ближнему (отказ от смертной казни), единство веры естественной, деятельной и благодатной как сущность религиозного чувства, необходимость обращения к православию как «почве», которая объединит русское общество, и готовность к самопожертвованию. Чтобы подчеркнуть, что он разделяет эти идеи, писатель включает в речь героя автобиографические аллюзии. В исповеди Ипполита Терентьева и речи Лебедева также проступает евангельское слово и утверждаются авторские мысли о христоцентризме, о необходимости взаимного прощения, о важности милостыни и благодеяния. Однако отступление героев от евангельской заповеди любви к ближнему и проявление их грехов (страсти, гордости, тщеславия, ревности, зависти, лжи, сребролюбия) вызывают негативную авторскую модальность, которая раскрывается в слове повествователя о герое.
Примечания
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 18-012-90036 («Достоевский в средней и высшей школе: проблемы и новые подходы»).
-
1 Евангелие Достоевского: в 2 т. М.: Русскiй Мiръ, 2010. Т. 1. 656 с.; см. также: Евангелие Достоевского: в 3 т. Тобольск: Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска», 2017. Т. 1 [Электронный ресурс]. URL: http://deniskmc . beget.tech/library.html
Список литературы Автор и герой в поэтике романа Ф. М. Достоевского "Идиот"
- Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского. - Л.: Прибой, 1929. - 244 с.
- Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. - М.: Сов. писатель, 1963. - 363 с.
- Безруков А. Н. Дискурс нарратора в условиях актантной модели повествования // Родная словесность в современном культурном и образовательном пространстве. - Тверь: Изд-во Тверского гос. ун-та, 2015. - С. 47-54.
- Бёртнес Ю. Русский кенотизм: к переоценке одного понятия // Проблемы исторической поэтики. - 1994. - Вып. 3. - С. 61-65 [Электронный ресурс]. - URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2373 (25.04.2019). DOI: 10.15393/j9.art.1994.2373
- Ветловская В. Е. Поэтика романа «Братья Карамазовы». - Л.: Наука, 1977. - 200 с.
- Габдуллина В. И. Авторский дискурс Ф. М. Достоевского: проблема изучения. - Барнаул: АлтГПА, 2010. - 138 с.
- Григорьев Д. Евангелие и Раскольников // Проблемы исторической поэтики. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005. - Вып. 7. - С. 296-301 [Электронный ресурс]. - URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2669 (25.04.2019).
- DOI: 10.15393/j9.art.2005.2669
- Гроссман Л. П. Путь Достоевского. - Л.: Брокгауз-Ефрон, 1924. - 238 с.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: канонические тексты / под ред. В. Н. Захарова. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1997. - Т. 3. - 912 с.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: канонические тексты / под ред. В. Н. Захарова. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2009. - Т. 8. - 848 с.
- Ельницкая Л. М. «Болтовня» как речевой дискурс у Пушкина и Достоевского // Литературоведческий журнал. - 2007. - № 21. - С. 126-136.
- Захаров В. Н. Слово и курсив в «Преступлении и наказании» // Русская речь. - 1979. - № 4. - С. 21-27.
- Захаров В. Н. Поэтические принципы изображения характеров у Достоевского // Русская литература 1870-1890 годов: проблема характера: межвуз. сб. / УрГУ; отв. ред. Г. К. Щенников. - Свердловск: УрГУ, 1983. - С. 64-72.
- Захаров В. Н. Символика христианского календаря в произведениях Достоевского // Новые аспекты в изучении Достоевского: сб. науч. тр. / ПетрГУ; отв. ред. В. Н. Захаров. - Петрозаводск: ПетрГУ, 1994. - С. 37-49.
- Захаров В. Н. Достоевский и Бахтин в современной научной парадигме // Достоевский и мировая культура. Альманах № 24. - СПб.: Серебряный век, 2008. - С. 43-50.
- Захаров В. Н. Достоевский и Евангелие // Евангелие Достоевского: в 2 т. / подгот., статьи и коммент. В. Н. Захарова, Б. Н. Тихомирова. - М.: Русскiй мiръ, 2010. - Т. 2.: Исследования. Материалы к комментарию. - С. 5-35.
- Захаров В. Н. Тобольск, 1850: обретение Книги // Евангелие Достоевского: в 2 т. - М.: Русскiй мiръ, 2010. - Т. 1: Личный экземпляр Нового Завета 1823 года издания, подаренный Ф. М. Достоевскому в Тобольске в январе 1850 года. - С. 643-646.
- Зунделович Я. О. Образ мира Достоевского в его социально-философском романе «Братья Карамазовы» // Романы Достоевского: статьи. - Ташкент: Средняя и высшая школа, 1963. - С. 184-240.
- Игнатий (Брянчанинов), святитель. Творения: в 5 т. / общ. ред. О. И. Шафранова. - М.: Паломник, 2014. - Т. 3. - 560 с.
- Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. - Волгоград: Перемена, 2002. - 477 с.
- Касаткина Т. А. К вопросу о полифонии Бахтина и полифонии Достоевского // Достоевский и мировая культура. Альманах № 24. - СПб.: Серебряный век, 2008. - С. 36-42.
- Киносита Т. Творчество Ф. М. Достоевского. Проблема авторской позиции: сб. ст. - СПб.: Серебряный век, 2017. - 160 с.
- Кириллова И. А. Отметки Достоевского на тексте Евангелия от Иоанна // Достоевский в конце XX в.: сб. ст. / сост. К. А. Степанян. - М.: Классика плюс, 1996. - С. 48-60.
- Коган Г. Ф. Вечное и текущее (Евангелие и его значение в жизни и творчестве писателя) // Достоевский и мировая культура. Альманах № 3. - М., 1994. - С. 27-42.
- Котельников В. А. Кенозис как творческий мотив у Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования. - СПб.: Наука, 1996. - Т. 13. - С. 194-200.
- Кошечко А. Н. Виктомологический дискурс в "Дневнике писателя" Ф. М. Достоевского как опыт экзистенциональной рефлексии // Вестник Томского государственного педагогического университета. - 2010. - № 8 (98). - С. 80-86.
- Кунильский А. Е. О христианском контексте в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» // Проблемы исторической поэтики. - Петрозаводск: ПетрГУ, 1998. - Вып. 2. - С. 391-408 [Электронный ресурс]. - URL: http://poetica.pro/journal/content_list.php?id=3747 (24.04.2019).
- DOI: 10.15393/j9.art.1998.2532
- Назиров Р. Г. Автор и литературная традиция (о некоторых особенностях поэтики Достоевского) // Проблема автора в художественной литературе. - Ижевск, 1974. - Вып. 1 (5). - С. 159-176.
- Опочинин Е. Н. Беседы с Достоевским / предисл. и примеч. Ю. Верховского // Звенья. - М.; Л., 1936. - № 6. - С. 454-494.
- Осадчая М. Н. Аксиологические факторы когнитивного моделирования смыслового пространства художественного дискурса // Евразийский гуманитарный журнал. - 2017. - № 2. - С. 74-78.
- Плетнев Р. В. Достоевский и Евангелие // Русские эмигранты о Достоевском: сб. - СПб.: Андреев и сыновья, 1994. - С. 160-190.
- Померанц Г. Открытость бездне: Встречи с Достоевским [Электронный ресурс]. - URL: http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/kritika/pomeranc-otkrytost-bezdne/zametki-o-vnutrennem-stroe-romana.htm (25.04.2019).
- Попович, Иустин, преп. Достоевский о Европе и славянстве / пер. с серб. Л. Н. Даниленко. - М.; СПб.: Изд-во Сретенского монастыря, 2002. - 286 с.
- Свительский В. А. Проблема единства художественного мира и авторское начало в романе Достоевского // Проблема автора в художественной литературе. - Ижевск, 1974. - Вып. 1. - С. 177-192.
- Соломина-Минихен Н. (монахиня Ксения). О влиянии Евангелия на роман Достоевского «Идиот». - СПб.: Издательско-Торговый Дом «Скифия», 2016. - 232 с.
- Текст Евангелия с пометами Достоевского / рук. проекта, науч. ред., описание помет, подгот. текста В. Н. Захаров // Евангелие Достоевского [Электронный ресурс]. - URL: http://dostoevskij.karelia.ru/Gospel/iii/text.htm (25.04.2019)
- Тер-Гукасова Т. А. В мире Достоевского. - М.: Титул, 1994. - 56 с.
- Ткаченко О. Ю. Речь учительская и учительная у Достоевского // Русский язык в школе. - 2014. - № 2. - С. 50-54.
- Туниманов В. А. Творчество Достоевского. 1854-1862 гг. - Л.: Наука, 1980. - 298 с.
- Хопко Ф., протопр. Основы православия [Электронный ресурс]. - URL: https://azbyka.ru/otechnik/Foma_Hopko/osnovy-pravoslavija/3 (25.04.2019).
- Чирков Н. М. Великий философский роман // О стиле Ф. М. Достоевского. - М.: Наука, 1967. - С. 78-114.
- Щенников Г. К. Целостность Достоевского. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. - 440 с.
- Miller Robin Feuer. Dostoevsky and "The Idiot": Author, Narrator and Reader. - Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1981. - 296 p.