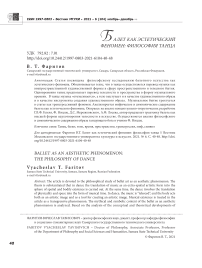Балет как эстетический феномен: философия танца
Автор: Фаритов В. Т.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 6 (104), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена философскому исследованию балетного искусства как эстетического феномена. Обосновывается тезис, что в танце осуществляется перевод музыки как внепространственной художественной формы в сферу пространственного и телесного бытия. Одновременно танец предполагает перевод телесности и пространства в форму музыкального времени. В танце музыка «отелесивается», а тело выступает и в качестве художественного образа и в качестве инструмента создания художественного образа. Музыкальное бытие трактуется в статье как трансгрессивный феномен. Анализируется мифическое и символическое содержание балета как эстетического феномена. Опираясь на анализ концептуально-теоретических разработок Г.В.Ф. Гегеля, Ф. Ницше, Д.С. Мережковского, А.Ф. Лосева, автор предлагает трактовку балета как высшей формы одухотворения телесности в искусстве. Осуществляется анализ философского и символического содержания образа танцующего бога в учении Ф. Ницше.
Танец, балет, тело, время, пространство, трансгрессия, миф, символ
Короткий адрес: https://sciup.org/144162354
IDR: 144162354 | УДК: 792.82 | DOI: 10.24412/1997-0803-2021-6104-40-48
Текст научной статьи Балет как эстетический феномен: философия танца
В классической эстетике танец является наименее разработанной областью. Показательно, что Гегель в своих знаменитых лекциях по эстетике полностью проигнорировал балет. Посвященные феномену танца работы различных авторов ХХ столетия носят в большей степени культурологический или социологический, нежели философский характер [6; 8]. Безусловно, танец связан со сферой телесного бытия человека, а данная сфера вошла в пространство философского осмысления преимущественно в ХХ веке, т.е. в философии постницшеанского периода. Собственно, Фридрих Ницше и был главным инициатором философского переосмысления («переоценки») феномена телесности, и у него можно найти немало интересных набросков, касающихся философских аспектов танца. Однако разработанной эстетической системы танца у него нет. Следует также признать правоту тех исследователей, которые рассматривают танец как социально-культурный феномен, связывают его с мифическим сознанием. Но для эстетики этого недостаточно. К социально-культурному пространству в том или ином аспекте принадлежит любой феномен человеческой деятельности. Миф, рассматриваемый как проявление архаических пластов сознания, пригоден для анализа архаических же форм искусства, в которых крайне мало эстетического.
Мы будем исходить из положения, что танец – в первую очередь музыкальное явление. Как эстетический феномен танец получает свое воплощение преимущественно в балетном искусстве. Балет – достаточно сложное явление искусства, сочетающее три пласта: музыкальный, хореографический и драматический (сюжетный). Из них доминирующим, несущим на себе основную смысловую нагрузку, является именно музыкальный пласт. Хореографический пласт (собственно, танец) обладает смыслом только в соотношении с музыкальным пластом. Как будет показано ниже, это отношение носит весьма сложный характер. Но уже сейчас, предваряя исследование, можно утвердить этот основной тезис: музыка в балете обладает абсолютной значимостью, выступает неисчерпаемым источником смыслов, составляет основное содержание. На начальном этапе доказать это можно не прибегая к средствам философского анализа: балетная музыка может исполняться и слушаться сама по себе, без хореографии, и при этом оказывать полноценное эстетическое воздействие. Хореография без музыки немыслима. Данный тезис не означает, что балетная хореография лишена собственной значимости. Но эта значимость рождается исключительно из соотнесенности с музыкальной основой. Что касается третьего, драматического пласта, то в балетном искусстве он обладает наименьшей значимостью, носит вторичный характер. Наиболее распространенная ошибка в восприятии балета состоит в нарушении этой иерархии пластов. Эстетически неграмотный зритель сосредотачивает основное внимание именно на сюжетной линии. Танец воспри- нимается им лишь как способ реализации сюжетной коллизии. Наконец, музыке отводится скромная роль сопровождающего фона. При таком подходе балет превращается в своего рода дефективную драму, где словесный язык по каким-то причинам заменен языком телодвижений и снабжен музыкальным сопровождением. В данном случае мы имеем дело с достаточно грубой подменой соотношения компонентов выражения. Внутреннее и внешнее, означаемое и означающее здесь меняются местами. Музыка Чайковского якобы «выражает» трагедию любви Зигфрида и Одетты, музыка Прокофьева «передает» трагедию отношений Ромео и Джульетты… Однако балет, как музыкально-пластическое искусство, не может выступать в качестве альтернативы драмы. Музыкальный пласт не может быть подчинен тексту. В балете сюжетная линия выполняет функцию каркаса, скелета, основной же центр тяжести лежит в плоскости соотношения музыки и танца. Как правило, сюжет балета достаточно прост и даже примитивен, условен. Особенно это заметно при сопоставлении с литературным источником. Так, сюжетная линия «Эсмеральды» не передает и десятую часть идейно-образного содержания романа Гюго, «Дон Кихот» практически не обнаруживает совпадений с художественным текстом. В балете драматический пласт представлен тем, что называется фабулой – кратким пересказом сюжета произведения. Не более того. Сюжет в балете всегда в значительной степени редуцирован. Нередко он сводится к сказке: принц полюбил заколдованную принцессу и освободил ее от чар злого волшебника. Если применить к балетному искусству предложенное Ницше разграничение аполлонического и дионисийского, то сюжет нельзя будет отнести ни к первому, ни, тем более, ко второму нача- лу. Аполлоническое в балете – хореография, дионисийское – музыка.
Итак, эстетический центр тяжести в балете лежит в музыке. Музыке в целом в области эстетики повезло значительно больше, нежели балету. Глубокие и оригинальные философские концепции музыки мы находим у Гегеля, Шопенгауэра, Ницше. В русской философской мысли эстетика музыки была тщательно разработана А.Ф. Лосевым, вобравшим и переосмыслившим идеи Гегеля, Шопенгауэра и Ницше. Для целей нашего исследования необходимо будет дать краткий обзор философского осмысления феномена музыки – поскольку мы будем исходить из уже заявленного тезиса, что балет – в первую очередь музыкальное искусство.
Согласно Гегелю, музыка отличается от архитектуры, скульптуры и живописи тем, что осуществляет «снятие пространственной объективности». В отличие от архитектуры, скульптуры и живописи, музыка ориентирована не на зрение, но на слух: «Со звуком музыка покидает стихию внешней формы и ее наглядной видимости , поэтому для восприятия ее произведений необходим другой субъективный орган – слух … Ухо же, не обращаясь к объектам практически, воспринимает результат указанной внутренней вибрации тела, благодаря которой обнаруживается уже не покоящаяся материальная форма, а первоначальная, более идеальная душевная стихия» [1, С. 238].
А.Ф. Лосев также указывает на внепро-странственный характер музыки: «Ясно, прежде всего, что этот феномен вне-простран-ствен… Если нет пространства, то, значит, нет и пространственных предметов. Если нет пространственных предметов, то нет и никаких категорий, которые ими управляют. Нет ни тяжести, ни веса, ни тех или других состояний предметов. Отсутствует всякое физическое опрeдeлeниe предметов. В музыкальном бытии нет предмета, к которому можно было бы обратиться, который можно было бы назвать. Это с точки зрения пространственного предмета – абсолютная пустота, слышимое ничто» [3, С. 208]. Это положение о внепространственном характере музыки имеет принципиальное значение для проводимого в настоящем исследовании анализа взаимосвязи музыки с танцем в балетном искусстве. Важно зафиксировать в сознании это положение: с точки зрения пространства музыкальное бытие есть пустота, ничто.
В своем осмыслении музыкального бытия Лосев солидаризируется не только с Гегелем, но и с Шопенгауэром и Ницше. Музыка как внепространственный феномен относится к дионисийской стихии, отрицающей различия и индивидуальную изолированность предметов, утверждающей тотальную слитность и взаимопроницаемость всего со всем: «Чистое музыкальное бытие и есть эта предельная бесформенность и хаотичность. Здесь отсутствует не только простpaнствeнноe оформление, отъединение одного пространственного предмета от другого. Здесь отсутствует и всякое иное оформление. Здесь нет никаких идеальных единств, которые бы противостояли хаотическому и бесформенному множеству. В этом, если угодно злоупотребить неопpeдeлeнным термином, – форма музыки, т.е. форма хаоса» [3, С. 209]. Подвижный и текучий, дионисийский характер музыки позволяет охарактеризовать ее как трансгрессивный феномен [9]. Теперь следует поставить вопрос: каким образом музыка как принципиально внепространственное искусство может быть связана с танцем? Ведь танец, в отличие от чистой музыки, непосредственным образом связан с пространством, осу- ществляется исключительно в пространстве и предполагает пространство в качестве своего необходимого условия. Танец не снимает, но утверждает пространство. В этом плане танец оказывается близок к пространственным искусствам. В большей степени хореография ближе к архитектуре и скульптуре, утверждающим физическое пространство, нежели к живописи, в которой пространство дано в форме изображения, но лишено своих физических характеристик. Музыка, напротив, искусство не пространства, но времени. Для обоснования главного тезиса предлагаемого исследования необходимо раскрыть связь танца со временем. Эта связь представлена в танце движением. Именно движение раскрывает специфический для танца способ эстетического освоения пространства через время и одновременно освоения времени через пространство. Данный путь практически недоступен другим искусствам. В архитектуре, скульптуре и живописи движение отсутствует. До определенной степени скульптура и живопись могут изображать движение. Однако дальше изображения здесь дело не идет, и движение всегда будет изображаться в статической форме. Оживающие скульптуры и картины возможны только в поэзии: у Пушкина Медный всадник и Командор сходят с пьедестала, у Гоголя ростовщик выходит из портретной рамы [4]. Но происходит это не в физическом пространстве, а в пространстве художественного текста, в сфере представления. Что же касается современных движущихся скульптур и движущихся картин, то здесь речь идет о технизации и цифровизации искусства, которые уже выходят за пределы собственно скульптуры и живописи и требуют отдельного исследования.
Именно в танце движение вступает в сферу эстетического непосредственно. Музыка также конституируется на основе движения музыкального материала, однако это движение во времени, а не в пространстве (то, что звуковая волна движется в пространстве, эстетической значимости не имеет, как, например, не имеет эстетической значимости химический состав красок в живописи). Эстетизация движения в физическом пространстве осуществляется только в танце. Движение в пространстве привносит в него время. Происходит овременение физического пространства. При этом должно быть понятно, что отнюдь не любое движение в пространстве будет иметь эстетическую значимость. Спортсмен может бежать значительно быстрее, прыгать намного выше, чем это способен сделать танцор. Но художественного смысла в действиях спортсмена нет. Через танец в пространство входит не время само по себе, не физическое, астрономическое время, но время музыки. Музыкальное время как эстетический феномен осуществляет эстетизацию пространства. Посредством танца музыка переходит в пространство, становится видимой, а не только слышимой. Соответственно, от зрителя требуется особое умение: видеть музыку в движении тела в пространстве. Перед этой задачей все прочее отступает на второй план. Если зритель слишком много внимания уделяет сюжету, то он просто путает балет с драмой. Если зритель сосредотачивается исключительно на технических элементах танца, то он упускает эстетическую значимость балета и смешивает его с художественной гимнастикой. Фуэте, например, значимо не само по себе и не как демонстрация ловкости и технического мастерства танцора. Подобная мысль столь же нелепа, как утверждение, что Рахманинов написал свои фортепьянные сочинения для демонстрации технического мастерства пианистов… Фуэте – это воплощаемая в про- странстве посредством тела музыка. И отнюдь не в любом месте балета фуэте уместно, но только там, где это органически допускается музыкой. Конечно, существуют немузыкальные, антимузыкальные постановки, когда хореограф оказывается нечувствителен, глух к музыке. Тогда получается музыка сама по себе, танец сам по себе. Однако плохой хореограф – еще не опровержение искусства балета как такового, подобно тому, как плохой дирижёр не опровергает музыкальное искусство как таковое. В постановке настоящего мастера каждое движение танцора соответствует определенному такту музыки.
Из сказанного выше можно сделать первый вывод. Хотя балет связан с пространством, он не является искусством пространства. Пространство здесь снимается в своей объективности посредством музыки. Однако если чистая музыка осуществляет непосредственное отрицание пространства, то танец снимает пространство посредством раскрытия его в качестве инобытия музыки. Движение тела, воплощающее движение музыкального материала в пространстве, осуществляющее опространствование музыки, в свою очередь приводит к тому, что пространство утрачивает свою исключительно пространственную значимость. Пространство становится сферой визуализации и отелесивания музыки. Отсюда следует еще один вывод: балет является тем искусством, в котором осуществляется снятие телесности тела. В балете тело одновременно образ и инструмент создания образа. В музыке инструмент сам не является образом, а телесность не явлена непосредственно. Балет раскрывает телесную потенцию музыки и музыкальную потенцию тела. Скульптура раскрывает телесность саму по себе, обнаруживает ее эстетическую значимость. Отдельные стили архитектуры способны, по известному высказыванию Гете, выступать музыкой, застывшей в камне. Но и только застывшей. Как мы уже отмечали, подлинной музыкальности, выражающейся в движении, становлении во времени, нет ни в архитектуре, ни в скульптуре. В танце представлено тело как движущийся образ, но это движение дается не само по себе, а в качестве выражения музыки. Тело здесь не только музыкальный инструмент, но и само – музыкальный образ. Тело танцора обладает всеми характеристиками физического предмета, прежде всего тяжестью. В танце посредством музыки – внепростран-ственной и нетелесной формы – тело преодолевает и снимает свою тяжесть. Большинство хореографических элементов балета выражают эту победу музыки над телесностью. Телесным движениям сообщается легкость, летучесть музыкальной формы.
Только у Ницше мы находим это чувство парящей легкости, избавления от всякой тяжести: «Знай, нет ни верха, ни низа! Бросайся и вверх, и вниз, ты, легкий! Пой! перестань говорить! – разве все слова не созданы для тех, кто тяжел? Не лгут ли все слова тому, кто легок! Пой! перестань говорить!» [7, С. 235]. И еще: «Походка обнаруживает, идет ли кто по своему пути, – смотрите, как я иду! Но кто приближается к своей цели, тот танцует. И, поистине, статуей не сделался я, еще не стою я неподвижно, тупо, окаменело, как столб; я люблю быстрый бег. И хотя на земле топь и кромешная печаль, –у кого легкие ноги, тот бежит поверх тины и танцует, как на расчищенном льду. Возносите сердца ваши, братья мои, выше, все выше! И не забывайте о ногах! Поднимайте также и ноги ваши, вы, хорошие танцоры, а еще лучше – стойте на голове!» [7, С. 296]. В этом фрагменте Ницше противопоставляет две формы бытия телесности (и одновременно две формы художественного вы- ражения телесности): скульптура (Standbild) и танец. Первый модус предполагает неподвижность, отупление и окаменение (starr, stumpf, steinern) – это максимальная форма скованности духа телесной формой. Танец освобождает дух в теле, превращает тело в форму бытия духа – поэтому Ницше рекомендует возносить не только сердца, но и ноги (Erhebt auch eure Beine): противоположность между сердцем и ногами, между духом и телом снимается, тело одухотворяется, а дух – оте-лесивается. Ницше стремится к тому, чтобы танец перестал быть просто художественной формой, но стал – стратегией существования, способом бытия самой жизни. Далее: «Меня уносит, душа моя танцует. Ежедневный труд! Ежедневный труд! Кому быть господином земли? Месяц холоден, ветер молчит. Ах! Ах! Разве летали ли вы уже достаточно высоко? Вы танцевали: но ноги еще не крылья. Вы хорошие танцоры, теперь всякая радость миновала: вино прокисло, все кубки стали хрупкими, могилы забормотали. Вы летали недостаточно высоко – теперь могилы бормочут: «Спасите же мертвых! Почему длится так долго ночь? Не опьяняет ли нас луна?» [7, С. 323]. Обратим внимание на характерное сочетание: моя душа танцует (meine Seele tanzt). В учении Ницше танцует уже не тело, но душа. Танцующая душа – достаточно сложный образ. Чтобы душа могла танцевать, у нее должны быть ноги, должно быть тело. Но ноги придают душе тяжесть: «но ноги еще не крылья» (aber ein Bein ist doch kein Flügel). Ноги должны стать крыльями – путь к такому преображению – танец.
В эстетическом плане танец – высшая форма одухотворения телесности в искусстве. Ни скульптуре, ни живописи такой уровень не доступен. Существуют, кончено, танцы, в которых уровень одухотворенности телесно- го невелик. Таковы, к примеру, популярные латиноамериканские танцы, в которых преимущественно подчеркивается чувственное начало, разжигается страсть. Также в некоторых современных балетах классические элементы танца заменяются движениями откровенно сексуального характера. Телесность здесь утверждается в своем низшем, животном аспекте. Не лучше обстоит дело со включением в балет элементов акробатики. Всевозможные кульбиты и сальто демонстрируют способность тела преодолевать тяжесть, но здесь это снятие тяжести осуществляется немузыкальными средствами и потому не носит эстетического характера.
Следует учитывать, что искусство танца не ограничено только преображением и одухотворением музыкой одной лишь телесности. Танец затрагивает всего человека, на что указывает Лосев: «балет есть именно искусство движения, но данное средствами живой личности» [2, С. 178]. Вспомним, что, согласно Лосеву, личность есть миф. И художественная форма также представляет собой миф: «Художественная форма есть законченный миф, т.е. живое существо, самосоотносящее и самочувствучующее. В этом диалектическая разгадка той таинственной, загадочной одухотворенности, которой полно всякое произведение искусства» [2, С. 116]. Здесь мы подходим к мифическому и символическому содержанию балета. Ни музыка, ни танец не являются пустой, лишенной содержания абстрактной формой, смысл которой заключался бы исключительно в движении и времени самих по себе. Как мы уже отмечали выше, содержание балета не сводится к либретто, подобно тому как содержание симфонии не сводится к программе. Но и музыки и у балета, как у художественной формы вообще, есть свой собственный смысл, который носит мифический и символический характер: «Я утверждаю, что всякая музыка может быть адекватно выражена в соответствующем мифе, причем – не в мифе вообще, но только в одном определенном мифе. Структура самой музыки предопределяет и структуру мифа совершенно точно и определенно…» [3, С. 372]. Сказанное о музыке относится и к балету, поскольку балет есть не что иное, как музыка, получившая телесную форму выражения. Но танцор – не только тело, но и весь человек, личность, живой миф.
Анализ мифического символизма танца – сложная задача, превосходящая объем статьи. Мы ограничимся здесь отдельными моментами. Одним из наиболее характерных является мотив преображения. Достаточно ярко этот мотив воплощается в «Щелкунчике» (классический и один из наиболее сложных как в техническом, так и в смысловом плане балет, в силу какого-то недоразумения заслуживший репутацию «детского»). Кукла, способная осуществлять лишь угловатые, грубые механические движения, лишенная человеческого лица (используется маска), становится живым человеком, мифическим героем. Преображению предшествует смерть: какое-то время Щелкунчик лежит неподвижно, как будто мертвый. Это еще один из фундаментальных мотивов балетной мифологии – смерть как источник преображения. Без особого труда можно вскрыть не только мифический, но и религиозный смысл этих двух мотивов. Поскольку все эти события разворачиваются в сознании (сновидении) героини, речь идет в первую очередь о преображении самой героини. Весь второй акт происходит в некоем мистическом, потустороннем пространстве. Дионисийский поток музыки Чайковского оказывается настолько сильным, что грозит исчезновением обычного, эмпирического «Я»
героини. Амплитуда состояний невероятно расширяется, низшей границей выступают стихийные, хтонические начала, высшей – сверхчеловеческие, божественные состояния. Все это достаточно сложно передать словами, поскольку на сцене выражается музыкой и танцем, соединившимися в одну целостную художественную форму. «Щелкунчик» Чайковского не является сказкой для детей (хотя в либретто представлена именно такая сказка). Это попытка заглянуть в загробный мир, проследить пути превращений и преображений личности в этом мире.
Однако высшим мифическим мотивом музыки является не душа, не «внутренний мир» личности, но божественное начало: «В музыке нет небожественного. В чистом музыкальном Бытии потонула бездна, разделяющая оба мира. Музыкально чувствовать – значит не знать отъединенности Бога и мира» [3, С. 267]. Если танец представляет собой преимущественно музыкальную форму, в которой музыка получает телесное выражение, то и здесь должно быть представлено это «обручение Бога и мира», которое составляет главную тайну музыки по Лосеву. В танце как эстетическом феномене символическое выражение получает тело Бога. Мифическое содержание балета – танцующий Бог. «Я бы поверил только в такого Бога, который умел бы танцевать», – говорит Ницше («Ich würde nur an einen Gott glauben, der zu tanzen verstünde»). В танце преодолевается не только тяжесть физической телесности, но и субъективность изолированного «Я», отъединенность и от-граниченность «внутреннего мира». Преодолеваются разом и телесная и субъективная изолированность: «Теперь я легок, теперь я летаю, теперь я вижу себя под собой, теперь Бог танцует во мне» [7, С. 42]. У Ницше на немецком не «во мне», а «через меня»
(durch mich): «Jetzt bin ich leicht, jetzt fliege ich, jetzt sehe ich mich unter mir, jetzt tanzt ein Gott durch mich» [10, S. 390]. Таким образом, более точный перевод: «Теперь Бог танцует через меня». По-русски это не так благозвучно, но ближе к мысли Ницше. Предлог «в» указывает на сферу внутреннего, в которую помещается танцующий Бог. Тем самым происходит замыкание Бога во внутреннем мире человека, в сфере сознания и представления. Такой ход мысли в большей степени соответствует Канту или Шопенгауэру, нежели Ницше. Стоящий в оригинале предлог «durch» (через) указы-д вает не на внутреннее, не на душу, но скорее на тело. Бог танцует через меня, посредством меня, посредством моего тела. Тело танцора и есть тело танцующего Бога. Танцует не он сам, но Бог через него. В танце Бог отелеси-вается, переходит вовне, а вовсе не замыкается во внутреннем мире человека, как это получилось в русском переводе «Так говорил Заратустра».
Вслед за Ницше эту связь, взаимопроникновение человеческого и божественного в музыке и танце раскрывает Д.С. Мережковский: «Как будто музыка под обыкновенное, ограниченное, человеческое, настоящее «я» подставляет другое, чуждое, безграничное, не человеческое, не настоящее, но может быть, прошлое и будущее, вечное, истинное. Это вообще самое глубокое опьянение, какое только есть у людей; действие музыки – опьяняющее, или, как сказал бы эллин, – оргийное, дионисовское, вакхическое. Вакх, собственно, бог не самой музыки, а того, что за музыкой, того ночного, дикого, сладострастного, из чего рождаются самые целомудренные олимпийские пляски, самая солнечная аполлоновская музыка. И мир-Пан, со всеми своими стихиями, солнцами, звездами, кружится, как бы в вечном вихре, охваченный этою вакхическою пляскою, этою опьяняющею музыкою» [5, С. 447].
Таково мифическое содержание танца как эстетического феномена. В балете мы сможем найти и опьяняющую музыку, и вакхическую пляску – воплощенные в художественную форму высокого искусства. Были времена, когда балет воспринимался как явление сугубо развлекательного характера, ориенти- рованное на досуг придворных вельмож или молодежи дворянского происхождения. Кто же не вспомнит «балетных строк» из «Евгения Онегина»? Но было время, когда и музыкантов и композиторов ставили в один ряд с ремесленниками. Проведенный в настоящем исследовании философский анализ был призван раскрыть глубокий эстетический смысл балета, позволяющий поставить его в один ряд с академической музыкой.
Список литературы Балет как эстетический феномен: философия танца
- Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 2 т. Т. II. Санкт-Петербург: Наука, 2007. 604 с.
- Лосев А.Ф. Диалектика художественной формы. Москва: Академический Проект, 2010. 415 с.
- Лосев А.Ф. Музыка как предмет логики // Из ранних произведений. Москва: Правда, 1990. С. 195-393.
- Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. Санкт-Петербург: Азбука, 2015. 416 с.
- Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский. Москва: Наука, 2000. 589 с.
- Морина Л.П. Мифология и феноменология танца // Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. Санкт-Петербург: СПбГУ, 2003. 191 с.
- Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 томах. Т. 4: Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. Москва: Культурная революция, 2007. 432 с.
- Степанова Н.Ю. Феноменология танца: движение в структуре временности // Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. Комсомольск-на-Амуре: Комсомольск- на-Амуре государственный технический университет, 2010. 217 с.
- Фаритов В.Т. Трансгрессия и трансценденция в музыке. Онтологический анализ // Вестник Томского государственного университета, 2013. № 370. С. 52-56.
- Nietzsche F. Gesammelte Werke. Köln: Anaconda Verlag GmbH, 2012.