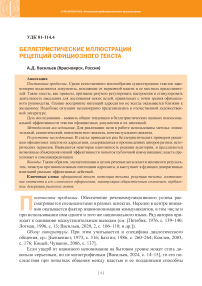Беллетристические иллюстрации рецепций официозного текста
Автор: А.Д. Васильев
Журнал: Сибирский филологический форум @sibfil
Рубрика: Языкознание. Актуальные проблемы изучения русского языка
Статья в выпуске: 2 (31), 2025 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. Среди естественного многообразия существующих текстов закономерно выделяются документы, исходящие от верховной власти и ее местных представителей. Такие тексты, как правило, призваны разумно регулировать настроения и стимулировать деятельность населения для достижения неких целей, правильных с точки зрения официального руководства. Однако восприятие интенций адресантов не всегда оказывается близким к желаемому. Подобные ситуации неоднократно представлялись в отечественной художественной литературе. Цель исследования – выявить общие тенденции в беллетристических оценках психосоциальной эффективности текстов офоициозных документов и их имитаций. Методология исследования. Для реализации цели в работе использованы методы: описательный, семантический, компонентного анализа, контекстуального анализа. Результаты исследования. В статье приводится ряд беллетристических примеров рецепции официозных текстов их адресатами, содержащихся в произведениях авторов разных исторических периодов. Выявляется некоторая однотипность реакции аудитории, и предлагаются возможные объяснения низкой эффективности попыток публичной коммуникации; власть преуспевает в самодискредитации. Выводы. Таким образом, малоуспешные в целом речевые акты власти венчаются результатом, зачастую противоположным интенциям адресанта, и выступают в функции декоративных имитаций реально эффективных действий.
Официозный текст, интенция текста, рецепция текста, соотношение контента и его словесного оформления, манипуляции общественным сознанием, вербальные декорации реальных актов
Короткий адрес: https://sciup.org/144163357
IDR: 144163357 | УДК: 81-114.4
Текст научной статьи Беллетристические иллюстрации рецепций официозного текста
остановка проблемы . Обеспечение речекоммуникативного успеха рассматривается специалистами в разных аспектах. Нередко в центре внимания оказывается фактор взаимопонимания коммуникантов, в том числе и при использовании ими одного и того же национального языка. Ряд авторов приходят к одинаково малоутешительным выводам (см. [Потебня, 1976, с. 139–140; Лотман, 1996, с. 13; Васильев, 2020, 2, с. 106–110; и др.]).
Обзор литературы. При этом учитывается и специфика диалогического общения, ср.: [Бенвенист, 1973, с. 316; Бахтин, 1986, с. 260–264; Комлев, 2003, с. 176; Кощей, Чувакин, 2006, с. 137].
Если ущерб от взаимного непонимания на бытовом уровне может стать довольно серьезным, но не катастрофичным [Васильев, 2024, с. 14-15], то его последствия при попытках общения между властью и ее подданными способны оказаться гораздо более значительными для государства и его населения. В этом случае результаты обретают статус непоправимо губительных.
Одна из функций власти остается неизменно константной. Это вроде бы доброжелательные попытки довести до сведения широких масс как ближайшие ее намерения, так и отдаленные перспективы бытия. Ведь «Слово государево и есть его подлинное Дело» [Лисицына, 2002, с. 24]. Однако в России (иностранные феномены здесь не рассматриваются) по-своему традиционны и распространены случаи непонимания интенций правителей даже вполне благонамеренными гражданами (см., например: [Арапова, 2007, с. 9; Суспицына, 2007, с. 73; Васильев, 2024, с. 22; и др.]). Возможно, поэтому столь популярен официозный рефрен «прошу отнестись с пониманием».
С другой стороны, обоснованно полагают, что «любой речевой акт суггестивен» [Голев, 2007, с. 11; Осипов, 2007, с. 217]. А немедленное отсутствие как-либо выраженной реакции на него [Бахтин, 1986, с. 260] вовсе не означает всенародного молчаливого согласия (ср.: «народ безмолвствует » (А.С. Пушкин)).
Возможны и ситуации, когда власть плохо представляет себе подлинные доминирующие умонастроения масс, абсолютизируя собственные как единственно правильные, либо принципиально отвергает учет мнений подданных, считая его нецелесообразным и ничтожно значимым. Результаты реализации такой модели поведения могут стать деструктивными и в психосоциальном отношении, и для будущности самого́ государства.
Цель исследования – выявить общие тенденции в беллетристических оценках психосоциальной эффективности текстов офоициозных документов и их имитаций.
Методология исследования . Для реализации цели в работе использованы методы: описательный, семантический, компонентного анализа, контекстуального анализа.
Роль Слова в общественной жизни чрезвычайно велика. Лексико-семантические единицы в своей совокупности охватывают всю многообразную человеческую деятельность, запечатлевая и стимулируя ее.
Слова складываются в тексты, сумма которых образует культуру. Текст, даже не имеющий номинального автора, выражает некую интенцию своего создателя (суждение, точку зрения, оценку, позицию, волеизъявление и т.д.). При этом понимание адресатом и замысла, и смысла текста далеко не всегда оказывается единственно возможным и совершенно совпадающим с установкой адресанта. Конечно, это относится прежде всего к литературно-художественным произведениям. Активная же роль адресата любого высказывания (текста) зачастую учитывается адресантом. Ср.: «Высказывание <…> строится с учетом возможных ответных реакций, ради которых оно, в сущности, и создается» [Бахтин, 1986, с. 290]. Это можно наблюдать и на широко известных примерах в ситуациях военно-политических конфликтов, когда направленная на «своих» пропаганда должна производить мобилизующее действие, а нацеленная на «чужих» – соответственно, деморализовать их до полной неспособности к сопротивлению.
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 2 (31)
Справедливо, что «слова языка ничьи», но «всегда есть какие-то словесно выраженные ведущие идеи “властителей дум” данной эпохи, какие-то основные задачи, лозунги и т.п.» [Бахтин, 1986, с. 282, 283]. Бесспорно также, что «теория становится материальной силой, когда она овладевает массами» (К. Маркс), то есть максимально широкое распространение идей, заключенных в «лозунгах» (текстах), меняет общественное сознание. И тогда «Слово – полководец человечьей силы» (В. Маяковский). Примеры психосоциального воздействия таких текстов чрезвычайно многочисленны и разнообразны по форме, хотя бы: царские указы – и «прелестные письма» разбойничьих главарей; большевистские декреты о мире и о земле – и призывы ЦК КПСС по поводу советских праздников и т.д. Причем в подобных случаях довольно прозрачно стремление адресантов к единообразному пониманию и восприятию их произведений аудиторией, к которой они обращены.
Известны многие примеры того, как диктуемые высшей государственной властью модели желательного для нее поведения подданных реализуются с помощью активного употребления определенного набора лексических единиц, прежде всего в текстах официальных документов. Так, в царствование Екатерины II «пошли в ход слова “ добронравие ”, или “ благонравие ”, “ человечество ”, “ человеколюбие ” и т.п. Таким языком блестит и <…> Устав благочиния , или Полицейский , где <…> в числе требуемых от определенного к благочинию начальства поставлены “ здравый рассудок, человеколюбие и усердие к общему труду ”» [Ключевский, 1989, с. 327] (о сегодняшних процессах в этой сфере коммуникации см. [Васильев, 2024]).
Отечественные писатели неоднократно обращались к описаниям феноменов реакции массового адресата на текстуальные экспликации интенций властей предержащих. Здесь приводятся лишь единичные, но при этом вполне информативные примеры.
Результаты исследования. Следует заметить, что, по всей вероятности, проницательная, как ей и положено по статусу, власть далеко не всегда может быть уверена в абсолютном понимании ее обращений к населению и даже в какой-то мере прогнозирует такую возможность. Однако при этом аудитория все же извлекает из адресованных ей текстов некие импульсы, несомненно полезные в глазах правителей. Вот, например, колхозники обсуждают статью И.В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» – причем еще даже и не читанную ими: «–…Говорят, у нас опять вредители завелись? – Какие вредители? – Академики какие-то. Русский язык, говорят, вроде хотели уничтожить… <…> – Я тоже слышал. Сам Иосиф Виссарионович, говорят, им мозги вправлял. В газете “Правда” … <…> – В прошлом году какие-то космолиты заграничным капиталистам продали, в этом году – академики…»1. Блиц-срез общественного мнения (на уровне контингента собравшихся) обнаруживает, что массы, ориентируясь на чьи-то мнения об этой статье, совершенно не вникая в лингвистические проблемы и дискуссии, выхватывают из чужих пересудов лишь хорошо знакомое слово вредители. Но далее, как и диктуется тогдашними политпросвети-тельскими установками, начинается всеобщее изучение публикации вождя – в поисках ее глубокого смысла и (наверняка) руководства к дальнейшему действию. «Все теперь были заняты изучением этих трудов. Они появились в “Правде” в самый сенокос <…>. На его [председателя колхоза] вопрос, какие же выводы из трудов товарища Сталина по языку нужно сделать практикам <...>, [первый секретарь райкома] ответил прямо: “Вкалывать <...>. Ну, а насчет этих премудростей с языком я и сам не очень разбираюсь”»2.
Такие (зачастую безуспешные) поиски импликаций, с одной стороны, поощряются и активизируются властью, с другой - могут оказаться бесперспективными. Подобные документы предполагают, не в последнюю очередь, внушение подданным душевного равновесия и спокойствия, комфортных для правителей. Это словесно выраженные сигналы, призванные регулировать настроения масс по известному образцу: «“Нам терпеть можно! потому мы знаем, что у нас есть начальники!” - “.Ты думаешь, начальство-то спит? Нет, брат, оно одним глазком дремлет, а другим поди уж где видит!”»3.
Гипнотическое воздействие речевых потоков, замещающих реальные действия во имя улучшения народного бытия, конечно, присуще инструментарию любой власти. Поэтому, вероятно, с ее точки зрения весьма полезным для эффективного управления подданными было бы наличие некоего общестандартного нормативного документа.
Один из известных примеров такого текста содержится в сатирическом произведении К. Пруткова «Проект4: о введении единомыслия в России» (1863). Здесь для достижения высокой цели - «установления единообразной точки зрения на все общественные потребности и мероприятия правительства» (с. 139) – предлагается учредить «официальное издание, которое давало бы руководи-тельные взгляды на каждый предмет» (Там же). Теоретической базой для такого предложения служат рассуждения об «очевидном вреде различий во взглядах и убеждениях» (с. 138): «Да разве может быть собственное мнение у людей, не удостоенных доверием начальства?! Откуда оно возьмется? <.>. Надо иметь материал для мнения <…>. Единственным материалом может быть только мнение начальства <…>. Но как узнать мнение начальства? <…> Правительство нередко таит свои цели из-за высших государственных соображений, недоступных пониманию большинства» (с. 138). Поэтому подданные смогут «уразуметь все эти причины, поводы, соображения» из «благодетельных указаний правительства», своевременно публикуемых. Это должно препятствовать губительному «вреду несогласия во мнениях» (с. 138).
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 2 (31)
Один из глуповских градоначальников, Бородавкин, вел со своими подданными войны «за просвещение» (вроде устройства каменных фундаментов и разведения персидской ромашки). Хотя «глуповцы всегда узнавали о предмете похода лишь по окончании его» (с. 100), правитель все же проводил своеобразную пропагандистскую подготовку общественного мнения. Он делал это «посредством прокламаций, которые секретно, по ночам, наклеивались на угловых домах всех улиц» (с. 99). Однако «прокламации писались в духе нынешних объявлений <…>, причем крупными буквами печатались слова совершенно несущественные, а все существенное изображалось самым мелким шрифтом. Сверх того допускалось употребление латинских названий» (с. 99)5. Закономерно, что «грамотеи, которым обыкновенно поручалось чтение прокламаций, выкрикивали только те слова, которые были напечатаны прописными буквами, а прочие скрадывали. Как, например <…>:
ИЗВЕСТНО, какое опустошение производят клопы, блохи и т.д. НАКОНЕЦ НАШЛИ!!!
Предприимчивые люди вывезли с Дальнего Востока и т.д.
Из всех этих слов народ понимал только: “известно” и “наконец нашли”. И когда грамотеи выкрикивали эти слова, то народ снимал шапки, вздыхал и крестился <…>. Народ, доведенный до вздыхания, – какого еще идеала можно требовать!» (с. 99–100). Наученные горьким опытом глуповцы воспринимают «прокламации» как некую привычную уголовную хронику.
Можно заметить, что эффект такой пропаганды был заведомо минимален. Безграмотные в большинстве своем глуповцы получали информацию не прямо, а опосредованно (как зачастую сегодня – в трансляции и интерпретации экспертов, аналитиков и проч. толкователей); графическое оформление «прокламаций» провоцировало неверное восприятие их содержания – в общем, «все дело заключалось в недоразумении» (с. 100). Но и «утопист» Бородавкин вряд ли был заинтересован в абсолютно доступных разъяснениях своих административных замыслов: «…Какой наилучший способ выразить <…> доверие [к администратору], как не беспрекословное исполнение того, что не понимаешь?» (с. 100). Таким образом, формально оповещая глуповцев о своих намерениях, градоначальник лишь «опутывал их чрезвычайно ловко», провоцируя на «бунт», на который неукоснительно реагировал массовыми репрессиями («ни один глуповец не мог указать на теле своем места, которое не было бы высечено» (с. 99).
Рассказы о «растопчинских афишках» (т.е. агитационно-пропагандистских листовках московского генерал-губернатора Растопчина) у Л.Н. Толстого предваряются едким описанием доминирующих настроений их потенциальной широкой аудитории. «После отъезда государя из Москвы московская жизнь потекла обычным порядком <…>, трудно было верить, что действительно Россия в опасности <…>»6. Более того: «…Взгляд москвичей на свое положение не только не делался серьезнее, но, напротив, еще легкомысленнее <...>. Давно так не веселились в Москве, как этот год»7. По-видимому, общий ернический тон «афишек» вполне гармонировал с массовой малорациональной эйфорией. «Растопчинские афишки с изображением вверху питейного дома [!], целовальника и московского мещанина Карпушки Чигирина, который, быв в ратниках и выпив лишний крючок на тычке, услыхал, будто Бонапарт хочет идти на Москву, рассердился, разругал скверными словами всех французов, вышел из питейного дома и заговорил под орлом собравшемуся народу, читались и обсуживались наравне с последним буриме Василия Львовича Пушкина»8. То есть официально-пропагандистские произведения равноценны по своей эстетической и социальной эффективности довольно заурядным стихотворным юмористическим текстам. Представители высшей общественной страты не вполне единодушны в отношении к агиткам официальной власти: «…Некоторым нравилось, как Карпушка подтрунивал над французами, говоря, что они от капусты раздуются, от каши перелопаются, от щей задохнутся, что они все карлики и что их троих одна баба вилами закинет. Некоторые не одобряли этого тона и говорили, что это пошло и глупо»9.
Тем временем на фоне преобладающего ура-патриотизма и безудержного «веселья» военная ситуация складывается явно не в пользу русских. Заметно меняется и камертон официозной пропаганды. Теперь уже в одной из афиш объявляется, что «граф Растопчин рад, что из Москвы уезжают барыни и купеческие жены. “Меньше страху, меньше новостей <…>, но я жизнью отвечаю, что злодей в Москве не будет”»10. Парадоксально, но, вероятно, лишь для очень немногих эффект восприятия таких многообещающих заявлений оказался обратным их интенции: «Эти слова в первый раз ясно показали Пьеру, что французы будут в Москве»11. Иными словами, самостоятельно мыслящий адресат воспринимает содержание агитки в совершенной противоположности их словесному наполнению. Пьер, тонко чувствующий фальшь, как бы читает между строк. Его прочтение «афиши» становится единственно возможным вследствие рациональной оценки хода событий и их наиболее вероятной перспективы. Тем более что в следующей афише предлагалась информация, явно противоречивая: «…Говорилось, что главная квартира наша в Вязьме (сегодня – 212 км от Москвы. – А.В. ), что граф Витгенштейн победил французов, но [!] что так как многие жители желают
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 2 (31)
вооружиться, то для них есть приготовленное в арсенале оружие: сабли, пистолеты, ружья, которые жители могут получить по дешевой цене»12. Если победа над противником уже официально достигнута, то непонятна причина вооружения гражданского населения, что, конечно же, никак не способствует всеобщему укреплению духа. Правда, «тон афиш был уже не такой шутливый, как в прежних чигиринских разговорах»13.
О том, насколько эффективны были агитационные усилия московского градоначальника и необходимы ли они были вообще в сложившейся ситуации, Л.Н. Толстой рассказывает далее: «…Во всех городах и деревнях русской земли, без участия графа Растопчина и его афиш, происходило то же самое, что произошло в Москве <…>» – «вследствие <…> патриотизма, который выражается не фразами <…>, а <…> незаметно, просто, органически и потому производит всегда самые сильные результаты»14.
Подытоживая описание противоречиво-сумбурных (попросту – бестолковых) действий генерал-губернатора, в том числе малоуспешных попыток формировать общественное мнение в подвластной ему Москве, писатель заключает: «этот человек не понимал значения совершающегося события, а хотел только сделать что-то сам, удивить кого-то, что-то совершить патриотически-геройское»15. Иначе говоря, градоначальник был совершенно самоизолирован от подлинных настроений горожан, стремился к реализации собственных амбиций, но не подлинно массовой мобилизации москвичей, желая лишь «оставить свой след в истории». Его «административный восторг» (Ф.М. Достоевский) – явное олицетворение полной беспомощности власти перед неотвратимой опасностью «страшной грозовой тучи»16, нависшей над русской государственностью.
Для характеристики восприятия текста известнейшего манифеста Николая II от 17 октября 1905 г. В.П. Катаев использует прежде всего прием т.н. остран(н) ения. Адресатом выступает одесский мальчик, гимназист приготовительного класса («мартыхан», на гимназическом языке17). Петя Бачей уже усвоил «понятия, до такой степени общеизвестные и непреложные, что о них никогда даже и не приходилось думать <…>. Россия – самая лучшая, самая сильная и самая красивая страна в мире <...>. Царь - это царь. Самый мудрый, самый могущественный, самый богатый»18. Но из случайно подслушанного разговора ближайших родственников (авторитетных альтернативных источников) он вдруг узнает иную точку зрения: «Россия – несчастная <…>, царь – дурак и пьяница, да еще и битый бамбуковой палкой по голове <…>. Министры – бездарные, генералы – бездарные…»19. Попытка осмыслить содержание царского манифеста оказалась малоудачной. «Петя не без труда дочитал до этих пор [“к скорейшему прекращению столь опасной для государства смуты”], спотыкаясь на трудных и туманных словах: “преисполняют”, “ныне возникших”, “повелевают”, “скорейшему прекращению”, и на множестве больших букв, торчавших из строчек вопреки всяким правилам правописания в совершенно неожиданных местах…»20. То есть волеизъявление монарха оформлено в соответствии со стандартами, обязательными для документов подобного рода, – естественно, в расчете на восприятие достаточно квалифицированной аудитории. А «мальчик ничего не понял, кроме того, что царю, наверное, приходится плохо и он просит по возможности ему помочь кто в чем может»21. Поэтому единственное впечатление, полученное Петей от попытки прочитать манифест, лишь эффект эмоциональный, близкий к сочувствию самодержцу: «…Мальчику в глубине души даже стало немножко жаль бедного царя, особенно когда Петя вспомнил, что царя стукнули по голове бамбуковой палкой»22. С другой стороны, взрослая часть аудитории незамедлительно ищет и обнаруживает ключевой для нее фрагмент манифеста: «даровать неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний и союзов», – вызывающий всеобщий восторг. И у Пети тоже возникло ощущение праздника, впрочем, весьма ему малопонятного – правда, довольно скоро некая половинчатость «дарованных свобод» и откровенная слабость самодержавия привели к революционным волнениям. Происходит массовый эффект обманутого ожидания.
Выводы. Представленные в статье беллетристические иллюстрации рецепции официозных текстов разноплановы. М.Е. Салтыков-Щедрин рассказывает о прокламациях начальника-«утописта», который стремился якобы к великим благотворным свершениям, но в действительности лишь выявлял таким образом глуповцев, предположительно недовольных градоначальником. Горожане совершенно не понимают смысла обращений правителя к ним.
Л.Н. Толстой обличает априорную фальшь официозной позиции в оценке событий. Очевидная для немногих аберрация восприятия действительности московским генерал-губернатором замешена на его личных амбициях и исключает попытки сколько-нибудь рациональной организации действий подвластного населения. В свою очередь, настроенные чрезвычайно легкомысленно москвичи действительно нуждаются в адекватной мобилизации к спасительному действию, но не получают от градоправителя соответствующего сигнала.
В.П. Катаев, предлагая оценить коммуникативный эффект высочайшего манифеста сквозь призму восприятия его детским сознанием, квалифицирует
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 2 (31)
трактуемый документ как малоэффективный для подлинной стабилизации внутриполитической ситуации, несмотря на массовую восторженность по поводу документа. В конечном счете он оказывается фактором, провоцирующим активные антиправительственные выступления и их жестокое подавление. Это лишь усугубляет широкие революционные настроения.
При всей своей разноплановости и различной хронологической приуроченности приведенные примеры характеризуют как константу неумение/не-желание власти общаться с подданными во имя действительного улучшения их бытия. Правители, по существу, неспособны сообщить населению что-либо стимулирующее доверие к ним, поскольку считают его и так непоколебимым и стабильным. С другой стороны, население иногда, хотя бы в лице отдельных его представителей, оказывается чуждым единодушию и единомыслию, приятным и полезным для власти. Таким образом, малоуспешные в целом речевые акты власти венчаются результатом, зачастую противоположным интенциям адресанта, и выступают в функции декоративных имитаций реально эффективных действий.