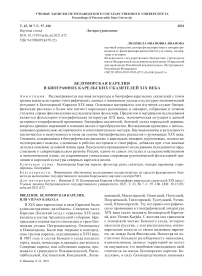Беломорская Карелия в биографиях карельских сказителей XIX века
Автор: Иванова Людмила Ивановна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 7 т.43, 2021 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются научная литература и биографии карельских сказителей с точки зрения анализа историко-этнографических данных о жизненном укладе и культурно-экономической ситуации в Беломорской Карелии XIX века. Основным материалом для изучения служат биографические рассказы о более чем пятисот карельских рунопевцах и знахарях, собранные в течение столетия сорока финляндскими исследователями фольклора. Предметом и материалом исследования являются фольклорно-этнографическая литература XIX века, экономическая ситуация в данной историко-географической провинции, биографии сказителей, бытовой уклад карельской деревни, вопросы древних верований и влияния на них старообрядчества. Исследование проведено с использованием сравнительно-исторического и сопоставительного методов. Научная новизна и актуальность заключаются в неизученности темы на основе биографических рассказов о рунопевцах XIX века. Сведения, содержащиеся в биографических рассказах о карельских знахарях и рунопевцах, полностью подтверждают выводы, сделанные в работах историков и этнографов, добавляя при этом важные детали в описание духовной жизни края. В результате проведенного исследования складывается представление о севернокарельском регионе России, одном из самых отсталых в сельскохозяйственном и экономическом плане, но сохранившем уникальные сокровища рунопевческой фольклорной традиции и народной культуры северных карелов в целом
Беломорская карелия, карелы, фольклор, руны, сказители, знахари, верования, старообрядцы, биографии
Короткий адрес: https://sciup.org/147236218
IDR: 147236218 | УДК: 94:398(092)(470.22) | DOI: 10.15393/uchz.art.2021.672
Текст научной статьи Беломорская Карелия в биографиях карельских сказителей XIX века
ВВЕДЕНИЕ. БЕЛОМОРСКАЯ КАРЕЛИЯ, ИЛИ VIENAN KARJALA
В XIX веке карелы (как и сама Карелия) были административно разобщены. Северная часть Карелии (Кемский уезд) с середины XIX века входила в состав Архангельской губернии. Центральная и южная части относились к трем Олонецким уездам: Петрозаводскому, Олонецкому и Повенецкому. Были еще тверские и новгородские группы карелов, отделившиеся в XVII веке. В 1905 году в состав Кемского уезда входили: город, посад, монастырь и двадцать две волости. Северные карелы, или собственно карелы, проживали в тринадцати: Вокнаволокской, Выче-тайбольской, Кестеньгской, Кондокской, Летне
конецкой, Маслозерской, Олангской, Погосской, Подужемской, Тихтозерской, Тунгудской, Ухтинской, Юшкозерской. Эту историко-географическую провинцию в этнографической литературе XIX века стали называть Беломорской Карелией, или Vienan Karjala. С востока она граничила с поморской частью Кемского уезда, которую населяли русские, с юга располагались южнокарельские волости со своим языковым наречием, на западе была Финляндия. Несмотря на достаточно большую разобщенность населения, взаимовлияние данных территорий не могло не ощущаться, это неизбежно накладывало свой отпечаток на жизнь беломорских карелов. Безусловно, в силу близкородственных языковых особенностей население, быт и культура были больше подвержены влиянию соседней Финляндии, но это не умаляет воздействия русского побережья Белого моря.
КРАТКАЯ ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В 1848 году в пределах Олонецкой губернии проживало около 42 тысяч карелов, в менее населенном Кемском уезде – не более 13 тысяч [7: 55]. На протяжении XIX века численность карельского населения постоянно росла. Количество карелов, проживавших в Архангельской губернии, с 1863 по 1917 год увеличилось с 16,6 тысячи до 28 тысяч человек. По переписи 1897 года они составляли 54,4 % населения Кемского уезда и 5 % всего населения губернии [4: 16]. В Петрозаводском уезде доля карелов была 22,1 %, в Олонецком – 71,3 %, в Повенецком – 49,7 % [10: 17–18].
На рубеже XIX–XX веков основную часть карельского населения составляли сельские жители, тогда как в городах обеих губерний проживало менее тысячи карелов [4: 16].
Посевы зерновых и репы производились на выжженных лесных участках, к концу XIX века они были потеснены трехпольем. Но если в Петрозаводском уезде в середине века в фактическом пользовании на одно крестьянское хозяйство приходилось около 9 десятин, в Олонецком – менее 7, то в карельских волостях Кемского уезда, где пригодных для землепашества земель имелось особенно мало, крестьяне по существу оставались безземельными. Даже в урожайные годы зерна в Олонецком уезде хватало на 7–8 месяцев, а в Кемском – на 3–4 [7: 56–57]. Во время неурожаев, которые повторялись каждые два-три года, население оказывалось без хлеба и голодало. Так, городской голова г. Кеми сообщал, что в связи с неурожаем 1867–1868 годов опустели целые волости, люди ушли просить милостыню в богатые поморские села и даже другие губернии [7: 58]. Выход из общинного землепользования шел крайне медленно. В Кемском уезде аграрная реформа так и не была осуществлена, и в начале XX века поземельное устройство все еще не было проведено [6: 310]. По уровню обеспеченности хлебом край занимал одно из последних мест в России [6: 260].
Территория, на которой жили карелы, оставалась малонаселенной. Карельские селения, разбросанные по берегам многочисленных рек и озер, были малочисленны и удалены друг от друга на большие расстояния, особенно на севере. Поселения были мелкими: 25 % – 1–5 дво- ров, 25 % – 6–10. В Олонецкой губернии на каждые сто верст приходилось четыре селения, в Архангельской еще меньше [4: 17], [7: 61]. Если плотность населения в Европейской России составляла 22,2 человека на 1 кв. версту, то на севере Карелии она была менее 0,7 человека [10: 11–13].
Большим тормозом для развития торговли и любых промыслов были дороги, а вернее, их отсутствие. Основными путями сообщения на севере были озера, опасные и порожистые реки и лесные тропы. Еще в начале XX века без колесных дорог оставалось 55 % карельских районов в Олонецкой губернии и 88 % – в Архангельской [1: 72].
У карелов были представлены два типа расселения: гнездовой и разбросанно-хуторской. Первый связан с патронимией (названия поселений, оканчивающиеся на -ла ). Хуторской появился позже и связан с развитием как общественно-производственных отношений, так и с природными условиями севера. Именно на севере была больше распространена малодворная деревня и хутор. Форма поселения была скорее беспорядочной, а линейность чаще всего диктовалась ландшафтом, а не продуманным планом [7: 116, 117, 124].
Курные избы преобладали в середине XIX века, а у бедняков сохранились вплоть до 20-х годов XX века. Высокие двухэтажные дома с большими подклетями и сараями больше свойственны южной Карелии. У ухтинских и кестеньгских карелов большее распространение получила застройка на низком подклете с открытым двором и отдельно стоящими хозяйственными постройками [7: 120]. Особенностью севернокарельских домов было наличие козно или каржины в форме высокого шкафчика, а также особого камелька в печи – пиизи.
Появление лесопильных заводов, развитие кустарных промыслов увеличили расслоение общества. Уже в 60-х годах XIX века во многих карельских волостях Кемского уезда на каждые 60–100 крестьянских дворов приходилось одно достаточно зажиточное хозяйство. Так, в Юшкозерской волости, типичной для северной Карелии, в 1869 году только 12 хозяйств смогли купить семена, а остальные с населением 846 душ не имели средств не только на семена, но и на продовольствие до нового урожая [7: 59].
В приграничных районах развивалась разносная торговля (коробейничество). Этим промыслом занимались тысячи крестьян карельских волостей Кемского и отчасти Повенецкого уездов, в том числе и сказители. Например, ухтинские купцы Митрофанов и Васильев снабжали ежегодными ссудами и товарами до 200 крестьян-коробейников каждый [7: 60]. В начале XX века около 2,5 тысячи коробейников уходили в Фин-ляндию1. Их общая выручка год от года росла: от 120 тысяч рублей в 1904 году до более 260 тысяч рублей в 1914-м. Поэтому разносная торговля стала лидировать среди других промыслов и по доходности, и по количеству участвующих в этом крестьян [1: 90–91]. Самые удачливые выходцы из северных сел становились владельцами магазинов в Поморье, Петербурге и Фин-ляндии2.
Коробейничество было мужским занятием. Но жизнь порой вынуждала заниматься этим женщин и подростков. Так, Анни Лехтонен, талантливая сказительница из рода руно-певцев Малиненых, в течение ряда зим в начале XX века отправлялась на заработки из Войницы в Финляндию [12: 7].
Для лесопильных заводов карельского Поморья заготовка леса и его сплав к лесопильным заводам также проводились преимущественно крестьянами карельских волостей Кемского и Повенецкого уездов. Заработки на лесных промыслах помогали поправить скудный семейный бюджет. В 1899 году в Кемском уезде эти доходы составили 50 % от всего промыслового дохода [6: 269]. Кое-кто из беломорских карелов ежегодно уходил на сезонные работы по обслуживанию судоходства на Белом море [7: 61]. Уход на промыслы в какой-то мере способствовал и обмену руническими сюжетами и другими фольклорными жанрами.
Первые школы в деревнях Беломорской Карелии появились в 1840–1850-х годах [4: 16– 17]. В 1905 году в Олонецкой губернии было 140 школ, а в Кемском уезде – 21 [4: 128–129]. Улучшило положение с образованием среди беломорских карелов листадианство, достигшее расцвета в 1890-е годы, а также появившиеся в 1906 году краткосрочные формы обучения, очень популярные в Финляндии [1: 78–79, 86], [4: 123]3. В биографиях сказителей по уровню грамотности на рубеже XIX–XX веков особенно выделяются жители Каменозера.
В конце XIX века начался быстрый распад больших семей, существовавших на протяжении столетий. Исследователи это связывают, с одной стороны, с активизацией миграционных процессов и ростом социальной мобильности, с другой – внутрисемейными конфликтами (желание молодых пар вести свое хозяйство, углубляющиеся противоречия между невесткой и свекровью и т. п.) [4: 34]. Между тем именно па- триархальность жизненного уклада, и в первую очередь семейного, была одним из залогов сохранения богатой фольклорной, в том числе рунической, традиции карелов. В XIX веке модернизируется и модель брачного поведения. Относительно поздние браки всегда были присущи полуземле-дельческим и промысловым районам Российского Севера, на северную Карелию большое влияние и в этом плане оказывала Финляндия. В результате, как пишет О. П. Илюха, данные по севернокарельским Ребольскому и Панозерским приходам свидетельствуют, что «в этом регионе уже к середине XIX в. ранние браки стали исключительно редким явлением, а две трети мужчин и почти половина женщин вступали в брак в возрасте 30 лет и более» [4: 34].
РОССИЙСКАЯ ФОЛЬКЛОРНО
ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Если говорить о литературе, содержащей фольклорно-этнографические сведения о северных карелах XIX века, следует отметить, что первые российские путешественники и исследователи до Беломорской Карелии практически не доезжали, ограничившись достаточно подробным изучением Олонецкой губернии. Причин этому было много, в качестве главных можно обозначить удаленность от российского научного центра, полное бездорожье и языковой барьер (русские исследователи не знали карельского языка, а карелы не говорили по-русски).
Одним из первых исследователей, добравшихся летом 1785 года до Кеми, был олонецкий губернатор Г. Р. Державин. В своей «Поденной записке» он подробно описал Даниловский монастырь, оказавший достаточно большое влияние на жизнь, быт и культуру северных карелов. Державин уделил внимание постройкам, одежде, пище, средствам передвижения, занятиям оленеводством и разносной торговлей, а также очень кратко охарактеризовал похоронный и подробнее свадебный обряд «лоплян». Он первый из русских путешественников упоминает о кантеле, указывая, что «лопляне забавляются игрой на гуслях пятиструнных, сделанных из сосны… Можно сказать, что сосна их греет, сосна питает, сосна и веселит» (цит. по: [9: 94]).
Следующие четыре российских имени, которые стоит упомянуть в связи с фольклорноэтнографическими исследованиями беломорских карелов в XIX веке, это П. П. Чубинский, А. Я. Ефименко, Н. Камкин и И. В. Оленев. Все они писали о бедности края. Высоко оценивали нравственные качества карелов, которые проявляются во всех сферах жизни: практически полное отсутствие пьянства, краж, драк; честность, обязательность, трудолюбие, молчаливость. Описывали их быт, постройки, пищу, одежду, верования и обязательно карельскую свадьбу.
П. П. Чубинский после окончания университета был сослан в Архангельскую губернию, где работал следователем и редактором местной газеты. Одним из результатов его сотрудничества с Русским географическим обществом и многочисленных поездок по северным губерниям стал «Статистическо-экономический очерк Корелы», опубликованный в 1866 году. Особенностью работы является то, что свой опыт юриста и статистика он применил в методике собирания материала: личные наблюдения у него подкреплены цифрами:
«По сословиям народонаселение распределяется так: государственных крестьян 8035 м. и 8538 ж., отставных нижних чинов 6 человек, солдатских жен, дочерей и вдов 34, сыновей 9 ч. и духовенства 32 муж. и 49 жен»4.
Он подсчитал, что общее количество карельских деревень в тот период было равно 170; в 101 деревне насчитывалось от 1 до 10 дворов, в 61 – от 11 до 50, и лишь в 8 поселениях – от 51 до 1505. Он очень интересно пишет об избах, одежде, пище, внешнем облике карелов, рассказывает о юридических обычаях, свадьбе, об обрядах и поверьях.
«Корелу нельзя не признать бедною… В Кореле нищенствуют в летнее время до 800 человек, а зимою до 1500 человек, которые расходятся для испрашивания милостыни в Кемь, в поморские селения, в ближайшие места Олонецкой губернии и Финляндии»6.
Он указывает на очень низкий уровень грамотности среди карелов Кемского уезда: на 1000 жителей приходится только 13 человек, умеющих читать и писать7.
-
А. Я. Ефименко родилась в 1848 году в Вар-зуге Архангельской губернии и стала первой в России женщиной почетным доктором русской истории, профессором Высших женских (Бестужевских) курсов в Петербурге. В 1877 году вышла в свет ее книга «Юридические обычаи лопарей, карелов и самоедов Архангельской губернии». При описании свадебного обряда отмечается, что случаи заключения брака против воли жениха и невесты очень редки. Подчеркивается зависимость полноты свадебного обряда от материальных возможностей семьи (полный обряд проводят только относительно зажиточные семьи) и пренебрежение церковным венчанием (молодые могут приехать в церковь спустя долгое время и, например, на лыжах); и в то же время отмечается зависимое положение женщины в браке. А. Я. Ефименко пишет и о снижении «общин-
- ного начала» в жизни северных карелов (осталось только совместное использование лесных выгонов для скота и пожен для сенокосов и, возможно, обычай общественной помощи при постройке дома). Ее ужасает бедственное состояние карельской деревни8.
В 1880 году был опубликован этнографический очерк Н. Камкина «Архангельские каре-лы»9. В нем он впервые среди российских ученых особенно большое внимание уделил описанию традиционных обычаев и верований беломорских карелов.
И. В. Оленев работал в Беломорской Карелии учителем в конце XIX века. Его книга «Карельский край и его будущее в связи с постройкой Мурманской железной дороги» снабжена большим количеством фотографий и рисунков автора. Первая глава называется символично – «По дороге в культурную глушь»10. Это образное название очень емко и точно отражает суть культурно-бытового уклада Беломорской Карелии XIX века.
К сожалению, практически никто из российских исследователей XIX века не описал самих карельских сказителей и их репертуар. Объясняется это в первую очередь незнанием языка, без чего очень сложно оценить фольклорное богатство народа.
ВКЛАД ФИНСКИХ УЧЕНЫХ XIX ВЕКА В СОБИРАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ФОЛЬКЛОРНОЙ
ТРАДИЦИИ БЕЛОМОРСКИХ КАРЕЛОВ
Упоминания о богатой песенной традиции финнов известны с первой половины XVI века: духовенство порицает «бесовские» песни и пытается их искоренить. Первыми исследованиями финской эпической и мифологической традиции можно считать работы конца XVIII века, принадлежащие перу Х. Г. Портана и К. Ганан-дера. Но к XIX веку руническая традиция в Финляндии уже практически забылась.
В результате войны 1808–1809 годов Финляндия перестала быть шведской провинцией и на правах автономии была присоединена к России. Это позволило С. Топелиусу, окружному врачу из Нюкарлебю, в 1820–1821 годах записать у себя дома коробейников из Вокнаволокской волости и издать «Старинные руны финского народа, а также современные песни». То, что за пределами Финляндии в русской, или Беломорской, Карелии еще жива рунопевческая традиция, было величайшим открытием С. Топелиуса и послужило толчком к экспедициям Э. Лённрота. В 1832 году он впервые побывал в нескольких приграничных деревнях, а в Аконлахти «нашел превосходного рунопевца Соаву Трохкимай-нена (Савву Никутьева), руны которого, по утверждению исследователя В. Каукконена, явились безусловной предпосылкой для создания “Калевалы”»11. В 1833 году он записал в Войни-це Онтрея Малинена и Воассилу Киелевяйнена, которые рассказали ему все основные сюжеты и помогли расположить подвиги Вяйнямёйне-на в определенной последовательности. В следующем году он встретился в Латваярви с известным рунопевцем Архиппой Перттуненом и записал более 4000 стихов: около 20 эпических сюжетов, 13 крупных заклинаний и несколько свадебных песен. В результате в 1835 году Лённ-рот подготовил первое издание «Калевалы».
В течение всего XIX и вплоть до первых десятилетий XX века в Беломорскую Карелию ездили финские ученые и собиратели, уделяя основное внимание сбору рунической поэзии. Они открыли север Карелии как сокровищницу поэзии калевальской метрики, родину рунопения и оставили после себя богатейший текстовой материал поэзии калевальской метрики, включающей как эпические, так и заговорные, свадебные и колыбельные руны. Их работы, написанные на основе путевых заметок и дневников, занимают особое место в исследовании быта и культуры беломорских карелов. В них большое место уделяется описанию биографии, внешнего вида и ментальности карельского сказителя. В 1910 году вышла в свет «Karjalan kirja» (букв. «Карельская книга») И. Хяркенена, в 1932 году она была доработана и переиздана12. Одна за другой издаются многочисленные работы С. Паулахарью, в том числе в 1924 году «Syntymä, lapsuus ja kuolema» (букв. «Рождение, детство и смерть»), описывающая обычаи и верования северных карелов [12]. Традициям и сказителям первой половины XX века и их предкам посвящена книга П. Виртаранта «Vienan kansa muistelee» (букв. «Народ Беломорья вспоминает») [14]. Книга И. К. Инха «Kalevalan laulumailta» (букв. «На песенной земле Калевалы»), богато иллюстрированная фотографиями самого автора, в 2019 году была издана и на русском языке13.
В 1985 году Р. П. Ремшуева и В. И. Кийра-нен перевели на русский язык путевые заметки, дневники и письма Э. Лённрота, сделанные им во время его путешествий по Карелии в 1828–1842 годах14. У. С. Конкка писала в предисловии, что «калевальский стих объединяет разные жанры: эпические и лирические песни, свадебные, трудовые и колыбельные песни, заговоры и заклинания, отчасти пословицы и за-гадки»15. При этом она подчеркивала, что древ- ние руны карелов и финнов «обнаруживают родство и по содержанию, они повествуют про одних и тех же эпических героев»16 [8: 10–14].
В 1921 году в г. Хельсинки вышла работа А. Р. Ниеми «Vienan läänin runonlaulajat jä tietäjät» (букв. «Рунопевцы и знахари Беломорской Карелии»), которая по сути является биографическим справочником-энциклопедией и содержит сведения почти о пятистах севернокарельских руно-певцах и колдунах-знахарях и в целом о быте и культуре Беломорской Карелии (Niemi: 1075– 1183). В ней обобщен биографический материал, записанный в течение столетия примерно сорока финскими собирателями, начиная с С. Топелиуса, М. Шёгрена, Э. Лённрота, М. Кастрена, Д. Евро-пеуса, А. Борениуса и заканчивая И. К. Инха, К. Карьялайненом, С. Паулахарью.
КАРЕЛЬСКОЕ БЕЛОМОРЬЕ
В БИОГРАФИЯХ РУНОПЕВЦЕВ
Посмотрим на Беломорскую Карелию XIX века сквозь калейдоскоп этих лиц, известных и неизвестных, остановимся только на нескольких аспектах. По объему биографии разные: от нескольких строк до пары страниц. Чаще встречаются мужские имена. В основном указывается имя и фамилия или патроним. Женщины часто представлены, как и было в быту, просто как жены или дочери, например, Semanan akku жена Семёна или Marttinan emäntä Okku хозяйка Мартына Окку. Иногда называется и прозвище исполнителя (Mäšti, Vičča-Prokko, Netko, Kylän patsas). Порой исполнители оставались безымянными, чаще те, от кого записано мало рун: некая старуха, некая хозяйка, некая 22-летняя девушка, некий молодой хозяин, некий мужчина (Niemi: 1083).
Основными занятиями сказителей было земледелие, охота и рыболовство. Некоторые мужчины были рубщиками пожог, сапожниками, портными, плотниками, ловцами жемчуга. Кто-то практически «профессионально» занимался коробейничеством, знахарством и колдовством.
Есть упоминания о повседневном рабочем костюме карельского крестьянина: это «рубашка, пиджак и брюки из одинарного домотканого холста, берестяные лапти на ногах; таков же и праздничный костюм с той лишь разницей, что он выкрашен, а на ногах кожаные сапоги» (Niemi: 1125). Богаче выглядели более-менее зажиточные люди, особенно те, кто преуспел в каких-либо промыслах. Подчеркивается, что традиционно на похороны ходили в белых одеждах, а свадебный наряд был темным.
Избы, согласно записям собирателей, в подавляющем большинстве были курные, но очень чистые, только во второй половине века начали появляться богатые дома с белой печью.
Портретные характеристики встречаются нечасто, и они достаточно скупы: он был сильный и красивый мужчина; старая и дряхлая; ростом Тимофей был высокий, лысый, длинноносый, с бородой; высокий чернобородый старик; красивый мужчина средних лет; крупный мужчина с большой рыжей бородой. Отмечается веселый нрав, добродушие, сила и трудолюбие, остроумие и богатая речь с большим количеством поговорок, умение петь и рассказывать [3: 235–245].
Практически во всех биографиях подчеркивается бедность карельской деревни. И. Марттинен писал в своих путевых очерках:
«Жизнь карела – это суровая, почти непосильная борьба за существование. Но при этом карел не считает нищету несчастьем. Падет счастье добыть муки на лето, удается рыбная ловля и окуней можно посолить, засеянный клочок обещает урожай, и карел считает себя счастливым» (Niemi: 1078).
У Мийхкали Перттунена было семеро своих детей и еще дети умерших братьев, они
«годами не видели настоящего хлеба, ели, когда что было, а когда и так сидели. Веря в Бога, он не распустил большую семью по миру, а усердно пахал имевшийся клочок земли, осенью и весной ловил рыбу на озере Лапукка, находясь на рыбной ловле несколькими неделями подряд. Зимой уходил в Финляндию, где занимался шитьем шуб и обработкой овечьих шкур. Его требования в жизни были минимальные» (Niemi: 1078).
И при этом он был «хороший характером, живой и веселый, но малоразговорчивый» (Niemi: 1079).
В целом отношение к старикам (а именно они были основными знатоками рун) в семьях было сложное [4: 39]. Безусловно, в голодные годы каждый человек, особенно уже неспособный трудиться, был в тягость. Уже ушли в прошлое времена, когда согласно легендам и преданиям немощных стариков увозили умирать в лес17. Но, как свидетельствуют биографии рунопев-цев, многие одинокие старики или те, чьи дети не могли их прокормить, годами жили на подаяние [13: 414].
В неурожайные годы ходили просить милостыню не только старики, но и женщины с детьми. Чаще всего шли в Финляндию или в богатые поморские села, иногда доходили и до Шуньги. При этом некоторые старались не просто просить, а что-то делать: петь, шить, работать в поле. Так, Анна Хуовинен из Хиетозера, после того, как у нее умер муж и сгорел дом, а год оказался неурожайным, пошла с детьми к поморам, где знахарничала (Niemi: 1093). И. Мартинен по дороге в Суомуссалми
«встретил ладвозерскую знахарку примерно 45-летнюю Ахонен Анну Ивановну, которая здесь с какой-то другой женщиной ходила по миру, прося милостыню. Она оказалась настоящей представительницей старого поколения, полностью верила в силу колдовства и магии» (Niemi: 1076).
Несмотря на бедность, многие рунопевцы, согласно биографическим записям, жили довольно долго, до восьмидесяти – ста лет; часто упоминается, что многие в конце жизни теряют зрение, а иногда и слух. Василий Рачков, родившийся в 1819 году в Лайтасалми, семидесятилетним стариком объяснял свою слепоту тем, что «можно ослепнуть, если во время восхода солнца умываешься на озере, глядя на солнышко» (Niemi: 1061–1062). Мийхкали Перттунен (как и его жена Пелагея) ослеп в 1865 году и прожил еще 35 лет, последние годы в доме сына. Карья-лайнен так писал в 1894 году:
«Видно, старик доволен своей жизнью. У него в избе свое место, у последнего окна около дверей, тут у него была табуретка и корзина, которая заменяла стол и посудный шкаф, тут же у окна висела икона. Тут на печке слепой, дряхлый инвалид проводил дни своей старости, распевая песни. Находясь в избе, он сидел на печке и зубами размельчал картофельную ботву, чтобы скорее высохла» (Niemi: 1079).
Как ни странно, собиратели очень мало пишут о наличии кантеле в избах у рунопевцев. Упоминается пятиструнный инструмент у Он-трея Малинена из Войницы: он сам его изготовил в 1833 году, а в 1877-м на нем мастерски играли для А. Борениуса как он сам, так и его сыновья (Niemi: 1131).
ВОПРОС О ВЕРЕ
Особо следует подчеркнуть, что в древности для носителей традиции текст многих карельских рун сам по себе был сакрален. За-клинательные руны использовались колдунами и знахарями в различных обрядах и ритуалах: родильных, свадебных, похоронно-поминальных, лечебных и многих других. Эпические песни отражали древние верования карелов, их миропонимание и мировосприятие. Они являлись воплощением народной ментальности и идентичности, это была многовековая культурная память народа и свод его жизненных правил [2: 246–255].
Изначально для карела (и вплоть до середины XIX века) все события, о которых повествуется в рунических сюжетах, были настолько же реальны, насколько сегодня христиане верят в реальность фактов, описанных в Ветхом и Новом Заветах. Однажды пастор Якоб Феллман, один из первых собирателей севернокарельских рун, спросил в Вокнаволоке пожилого мужчину, что он знает о сотворении мира. Тот, не сомневаясь, ответил:
«Так, святой брат, у нас такая же вера, как и у вас. Прилетел орел с севера, положил яйцо на колено Вяй-нямёйнена и сотворил из него земной мир. В это же и вы верите» (Niemi: 1127).
Между тем среди севернокарельских сказителей достаточно часто встречались старообрядцы, чаще всего именно среди них буквально единицы были грамотными. Интересен образ Ефима Федорова, родившегося в 1805 году в Ухте. Это был очень умный мужчина с прекрасной памятью. Писали, что одну из рун он исполнил абсолютно одинаково как двадцатилетним парнем, так и через полвека семидесятилетним стариком. В 1871 году он очень сожалел, что «в молодости в этих краях больше пели, теперь пение рун почти забыто». Борениусу он рассказывал, что их род происходит из новгородцев поповского звания, а по другим сведения – из Холмогор, откуда предки бежали во время раскола и поселились на границе с Финляндией в Тухкале. В молодости Ефим занимался торговлей (закупал товары в Москве, Петербурге), затем был писарем и волостным старшиной, за что его называли господином.
«В этой должности он пользовался полным доверием у населени я. Незначительные спорные вопросы среди граждан Ефим улаживал собственной березовой палкой» (Niemi: 1090–1091).
Собиратели вспоминают, что в избах старообрядцев особенно строго соблюдался пост. Например, остановившись на постой у старика Савина, они вынуждены были ходить обедать к его соседям (Niemi: 1142).
В биографиях встречается и указание на то, что многие старики считали исполнение рун бесполезным и даже греховным занятием. Это происходило потому, что эпические песни были воплощением древних верований, полностью запретных и чуждых для старообрядческой веры. К примеру, о встрече в 1872 году с 70-летним ру-нопевцем из Шомбозера А. Борениус вспоминал так:
«Хваленый певец Архипов Иван в этот момент молился в углу, считая поклоны, когда я пришел к нему, он сказал, что ему некогда заниматься такими пустяками, как пение рун» (Niemi: 1077).
В 1888 году И. К. Инха в Куяле пришел к 68-летнему С. Мартынову. Степан сначала от- казывался исполнить руны, «боясь, что пение – это грех», но потом все-таки поддался на уговоры, воодушевился и спел песни на несколько сюжетов.
«Под конец старик устал и не согласился исполнить все то, что знал. Была уже поздняя ночь, когда мы закончили с ним работу. Он добродушно предложил мне бедный ужин и постель на полу, и я уснул в чистой избе Степана под черными от сажи потолками… Старик уже после того, как я лег спать, долго стоял перед иконами, крестился и тихим голосом молил прощения у Бога за то, что поддался воспоминаниям молодых грешных времен и под старость забыл свою клятву Богу» (Niemi: 1138).
В судебных архивах Финляндии сохранилось много дел, свидетельствующих о том, что за исполнение не только заклинаний, но и эпических рун привлекали к суду как за кол-довство18. Еще Э. Лённрот отмечал, что финны и многие карелы, проживавшие на приграничной территории, и в XIX веке отказывались петь руны, боясь наказания19. Но были и такие представители, как Архип Филиппов из Ухты, который «десять лет служил церковным старостой и вел старательно церковные дела», и в то же время это был «общительный, веселый мужчина, любил петь старые руны, рассказывал сказки и загадывал загадки» (Niemi: 1085). Возможно, это происходило потому, что сами древние руны уже полностью потеряли для Архипа свою са-кральность и магичность.
Крещение карелов, согласно новгородским летописям, произошло в 1227 году. Но дальнейший процесс был очень тяжелым, особенно на севере. Карельские селения были малолюдны, разбросаны на большие расстояния, священников было мало, они не знали языка. В результате карелы в какой-то мере усвоили только внешнюю, обрядовую, сторону православной веры, даже адаптировав ее к своим нуждам, традициям и обычаям [11: 115]. Народное православие являлось синтезом христианских и дохристианских представлений с преобладанием вторых; мифология проникала во все сферы жизни карелов.
ЭПИЧЕСКИЕ И ЗАГОВОРНЫЕ РУНЫ
Произведения калевальской метрики (эпические, свадебные, колыбельные, заговорные руны) часто находили применение во время различных обрядов и ритуалов (свадебных, лечебных и т. п.) и даже в повседневной жизни. Вера в духов-хозяев различных стихий, поклонение им, магия, колдовство и знахарство пронизывали всю жизнь карела.
Наиболее крупные носители фольклорной традиции были уважаемыми людьми в деревенском сообществе и часто аккумулировали в себе две составляющие: они знали эпические песни и в то же время часто выступали в качестве практиков, применяли заговорные руны в обрядах. Мужчины были колдунами-знахарями или свадебными сватами-патьвашками. Женщины наряду со знанием поэзии калевальской метрики были плакальщицами на свадьбах и на похоронах, а также помогали в роли повитух роженицам.
Во многих биографиях, особенно мужских, очень часто суть сказителя XIX века характеризуется очень кратко: «он был хороший знаток рун, колдун (знахарь) и сват» (Niemi: 1076, 1084). Об известном знахаре Моисее Спирине из Ладвозера говорили, что «он сам сотворен из рун и колдовства» (Niemi: 1157–1158). Пахом Оменайнен из Аконлахти «был большой мастер слова, вековечный колдун и лучший патьваш-ка. Его свадебные колдовские обереги были непреодолимы для всех» (Niemi: 1159–1160).
Можно предположить, что свадебный колдун не только охранял молодых от порчи во время свадебного обряда, но как бы «устраивал», предопределял их будущую жизнь в браке. Так, к семидесяти годам Миина Хуовинен из Хието-зера, примерно 1833 года рождения, известный колдун и сват, поженил пятьдесят две пары, которые, как указывает собиратель, живут до сих пор и уверены, что их жизнь будет протекать именно по тому руслу, которое предсказал им патьвашка. Сам Миина начал заниматься колдовством с восемнадцати лет по настоянию матери. Считалось, что это уже было предопределено заранее, так как он родился с зубами во рту и с волосами на голове, «а это признаки умного человека, знахаря» (Niemi: 1094–1095).
О Марфе Хяннинен из Минозера собиратели писали: она «прекрасная исполнительница рун и знахарка-колдунья», но «все же колдовских знаний своих она не показывала, боясь, что они потеряют свою силу» (Niemi: 1099).
-
С. Паулахарью, рассказывая об известной сказительнице Анне Лехтонен из Войницы, примерно 1868 года рождения, замечает, что, по ее мнению, «в старые времена каждый второй мужчина был знахарем» (Niemi: 1118). Например, Кипри Семенов из Чены, как пишет И. Марттинен, был
«величайшим знахар ем, известнейшим сватом и колдуном, настоящим силачом, представителем поколения старых великанов… Коли он не мог вылечить, так больше никому не стоило пытаться. О нем ходили такие слухи, что он при помощи заклинаний может поднять и вести разговоры с духами калмы (могилы) и леса (чертями) и даже может показать их другим» (Niemi: 1169).
Часто подчеркивается, что как больному нельзя было никому рассказывать о процессе лечения, так и знахарю запрещалось требовать большую плату. Они довольствовались тем, что давали, «а то заклинание потеряет силу и больше никогда нельзя будет его использовать» (Niemi: 1147). Чаще всего расплачивались продуктами питания или одеждой. Но про некоторых колдунов, например про Аксентия Лесо-нена, говорится, что он «имел приличный доход от колдовства» (Niemi: 1122). Это касалось тех, для кого колдовство и знахарство было постоянным занятием.
Устойчивость знахарских практик объясняется не только патриархальностью карелов, но и тем, что положение с медициной в Беломорской Карелии было катастрофическим. На весь край с населением в 25 тысяч человек в 1909 году было всего три фельдшера, две акушерки и один врач [1: 105]. Но постепенно традиции забывались, и старики очень сожалели об этом. В Аконлахти жена Рийё говорила, что все меньше верят в колдовство (Niemi: 1144). Анна Лехтонен, 1868 года рождения, одна из лучших сказительниц из Войницы, многое перенявшая от своих предков, вспоминала детство: «Дед лежал на печке и рассказывал сказки, руны… Он научил бы и нас, но мы не слушали, все время смеялись» (Niemi: 1117–1118). Об этом же писали собиратели, например, А. Бо-рениус в 1872 году:
«…рунопение и старинные обычаи предков среди ухтинских мужиков, уже побывавших кое-где, не представляют для них такой ценности, как в деревнях рядом с финской границей, но все-таки и здесь их знают еще достаточно хорошо» (Niemi: 1085).
И все-таки XIX век был временем расцвета рунопевческой традиции беломорских карелов. Эпические песни знали даже дети. Так, десятилетний мальчик Иван Семенов из Кентъярви в 1872 году для А. Борениуса «мастерски и смело исполнил руны», выученные от костомукша-нина (Niemi: 1169). Двенадцатилетняя Мария Иванова, дочь Тимофея, поразила И. К. Инха своим исполнительским мастерством до такой степени, что он назвал ее «старинным кладом». Она пропела 236 строк, которые десять лет назад услышала от детей, просивших милостыню (Niemi: 1169). И. Марттинен в 1911 году в Ки-виярви многое записал от двух 15–16-летних девочек.
«Обе девочки способные и находчивые. Они, шутя, говорили: “Если дашь пять копеек, чтобы мы смогли купить куклу, то можешь хоть всю ночь записывать от нас верования со знахарством”» (Niemi: 1102).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, сведения, содержащиеся в биографических рассказах о карельских знахарях и рунопевцах, полностью подтверждают выводы, сделанные в работах историков и этнографов, добавляя при этом важные детали в описание духовной жизни. Беломорская Карелия XIX века – это отдаленная и труднодоступная провинция Российской империи, практически без дорог, без медицинского обслуживания, с малоразвитым сельским хозяйством. Трудолюбивое карельское население вело тяжелую борьбу с погодными условиями, неплодородными землями, занималось рыболовством, охотой и коробейничеством. В неурожайные годы часть населения была вынуж- дена просить милостыню в более обеспеченных соседних регионах – Финляндии и русском Поморье. Между тем именно Беломорская Карелия стала в XIX веке местом активного бытования всех жанров карельского фольклора, в первую очередь рунического. Компактное проживание и патриархальность жизненного уклада северных карелов, малое влияние на повседневную жизнь официальной российской церкви позволили им надолго сохранить свое фольклорное богатство. В то же время изменение материально-бытовых условий, жизненных устоев, влияние многочисленного в этом районе старообрядчества постепенно вели к неизбежной трансформации жанров и сюжетов традиционного фольклора.
Список литературы Беломорская Карелия в биографиях карельских сказителей XIX века
- Витухновская М. А . Российская Карелия и карелы в имперской политике России, 1905-1917. Хельсинки; СПб.: Норма, 2006. 381 с.
- Иванова Л. И. Описание верований и магических практик в биографиях севернокарельских сказителей XIX века // Человек и событие в исторической памяти: Сб. статей. Сыктывкар, 2017. C. 246-255.
- Иванова Л. И. Портрет севернокарельского сказителя XIX в. в записях финских собирателей // Киж-ский вестник. Вып. 17. Петрозаводск: КарНЦ РАН. 2017. C. 235-245.
- Илюха О. П. Школа и детство в карельской деревне в конце XIX - начале XX века. СПб.: Дмитрий Бу-ланин, 2007. 304 с.
- Инха И. К. В краю калевальских песен. Петрозаводск: Периодика, 2019. 462 с.
- История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводск: Периодика, 2001. 943 с.
- Карелы Карельской АССР. Петрозаводск: Карелия, 1983. 228 с.
- Кундозерова М. В . Концепт мироздания в карельских рунах. Петрозаводск, 2020. 232 с.
- Пименов В . В., Эпштейн Е. М. Карелия глазами путешественников и исследователей XVIII-XIX веков. Петрозаводск: Карелия, 1969. 264 с.
- Покровская И. П. Население Карелии. Петрозаводск: Карелия, 1978. 192 с.
- Пулькин М. В ., Захарова О. А., Жуков А. Ю. Православие в Карелии (XV - первая треть XX в.). М.: Круглый год, 1999. 208 с.
- Paulaharju S. Syntyma, lapsuus ja kuolema. Vienan Karjalan tapoja ja uskomuksia. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1995. 248 s.
- Polla M. Vienankarjalainen perhelaitos. 1600-1900. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. 661 s.
- Virtaranta P. Vienan kansa muistelee. Porvoo; Helsinki: WSOY, 1958. 804 s.