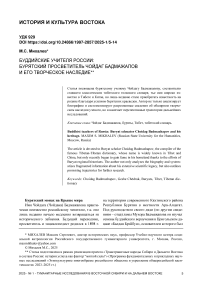Буддийские учителя России: бурятский просветитель Чойдаг Бадмажапов и его творческое наследие
Автор: Михалев М.С.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История и культура Востока
Статья в выпуске: 1 (71), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена бурятскому ученому Чойдагу Бадмажапову, составителю ставшего классическим тибетского толкового словаря, чье имя широко известно в Тибете и Китае, но лишь недавно стало приобретать известность на родине благодаря усилиям бурятских краеведов. Автор не только анализирует биографию и систематизирует разрозненные сведения об обширном творческом наследии ученого, но и намечает перспективные траектории дальнейших исследований.
Чойдаг бадмажапов, буряты, тибет, тибетский словарь
Короткий адрес: https://sciup.org/170209575
IDR: 170209575 | УДК: 929 | DOI: 10.24866/1997-2857/2025-1/5-14
Текст научной статьи Буддийские учителя России: бурятский просветитель Чойдаг Бадмажапов и его творческое наследие
Бурятский монах на Крыше мира
Имя Чойдага (Чойдака) Бадмажапова практически неизвестно российскому читателю, т.к. оно лишь недавно начало медленно возвращаться из исторического забвения. Будущий переводчик, просветитель и энциклопедист родился в 1898 г.
на территории современного Кяхтинского района Республики Бурятия в местности Ара-Алцагат. Под руководством своего дяди (по другим сведениям – отца) ламы Мухора Бадмажапова он изучал основы буддийского вероучения в Цонгольском дацане «Балдан Брэйбун», основателем которого был первый Пандито Хамбо-лама Д.-Д. Заяев. Получив базовые представления о тибетском буддизме, в 1923 г. молодой бурятский хуварак решил отправиться в Тибет для того, чтобы продолжить свое обучение в одном их крупных монастырей Лхасы. Единственной проблемой оказался недостаток средств, которые 25-летний Чойдаг, обладавший, как говорят, недюжинной физической силой, зарабатывал достаточно нестандартно: участвуя в борцовских поединках и вызывая на бой встречавшихся ему в дороге монголов, а затем и тибетцев. Семейная легенда, впрочем, утверждает, что делал это он скорее по необходимости и обычно по их собственной просьбе, а не рассматривал это в качестве основного способа заработать деньги на дальнейший путь. Более того, однажды в Урге, почувствовав, что может стать победителем турнира и тем самым обидеть гостеприимных хозяев, Чойдаг сыграл «в поддавки» и уступил в финальной схватке местному бойцу, после чего ретировался и продолжил свое путешествие. Впечатленные его силой и благородством, монголы, однако, догнали молодого бурятского хуварака, обильно его угостили, одарили добрым конем и снабдили средствами на дальнейшую дорогу до Лхасы (Полевые материалы автора, далее - ПМА. 2023 г.).
Путь до столицы Тибета занял больше года, при этом двое спутников, с которыми Бадмажапов отправился из родной Бурятии, до конечной цели своего путешествия так и не добрались. Чойдаг же, оказавшись в Лхасе, продолжил обучение в Чже-дацане знаменитого тибетского монастыря Сэра, который стал его домом на целых семнадцать лет. Оказавшийся прилежным и очень талантливым учеником, в 1941 г. он получил там высший титул в буддийской системе образования, геше-лхарамба, однако преподавать не стал и монастырь покинул. Дело в том, что во время одного из конфликтов был убит его учитель геше Тендар, и для Бадмажапова это стало настолько сильным ударом, что он от него так и не оправился. В том же году он поселился в доме одного из своих учеников, наследника влиятельного аристократического дома Хорканов Сонама Пэльбара, после чего снял с себя монашеские обеты и, несмотря на протесты своих учеников, в 1947 г. женился на этнической тибетке по имени Меток, которая проживала в этом же доме. Вскоре у них родились два сына-близнеца, которых родители нарекли Дава Церингом и Ванду.
Тем временем история старого Тибета неумолимо подходила к своему завершению. В 1951 г. в
Лхасу вошли части Народно-освободительной армии Китая, Страна снегов была постепенно интегрирована в состав КНР, а в 1959 г. Далай-лама XIV Тензин Гьяцо и его многочисленные сторонники бежали в Индию. Позднее, уже в 1960-х гг., в Тибете, как и во всем остальном Китае, бушевала Культурная революция, в ходе которой многие буддийские монастыри были разрушены, а ламы убиты или вынуждены стать мирянами. Однако на судьбу Чойдага Баджмажапова все эти события оказали лишь косвенное влияние. Связано это было с тем, что его покровитель Хоркан Сонам Пэльбар, который в конце 1940-х гг. был назначен отвечать за финансы при тибетском генерале Лхалу Цеванг Дордже, в конце концов присягнул на верность коммунистическому Китаю и вскоре отвечал уже за снабжение китайской армии [15]. Он также вошел в состав Подготовительного комитета по созданию Тибетского автономного района (ТАР), а затем занимал высокие должности в структурах новой, коммунистической власти региона, включая должность заместителя председателя Народного политического консультативного совета Тибета.
Интересно, что он также был заместителем директора Школы по подготовке административных кадров и отвечал в т.ч. за обучение тибетскому языку китайских управленцев и военнослужащих. Принимая во внимание то, что сам он в свое время обучался основам тибетской грамматики и тибетской классической литературы у Чойдага Бадма-жапова, можно говорить и о том, что последний, будучи этническим бурятом, оказался в конечном итоге одним из просветителей Тибета и внес существенный вклад в распространение тибетского языка. Как утверждает в письме, написанном на русском языке 25 марта 1953 г. и переданном затем родственникам учителя, еще один его ученик, Содномбалбар, Бадмажапов лично принимал участие в подготовке учебников для китайских студентов (ПМА. 2022 г.).
Согласно официальной биографии, опубликованной на китайском языке [14], в 1951 г. Чойдаг стал членом редакционно-издательского совета Тибетского рабочего комитета, а затем работал редактором в «Сизцан Жибао» (西藏日报), основной официальной газете всего региона, печатном органе Тибетского районного комитета КПК. О его личной жизни в этот турбулентный для Китая период известно совсем немного. Есть сведения, что приблизительно в 1966 г., то есть когда ему было уже почти 70 лет, у Бадмажапова родилась дочь, которую назвали Пенпа Цамчо (Бямбасанджу) [5]. В отличие от обоих сыновей-близнецов Чойдага, скончавшихся в конце 1980-х - начале 1990-х гг., она до сих пор жива, проживает в Лхасе и также воспитывает дочь. Сам же Бадмажапов вскоре после рождения дочери в 1972 г. скончался в возрасте 75 лет там же, в столице Тибета, куда пришел почти полвека назад и где обрел свою семью и призвание.
В этой же биографии на китайском языке говорится и о том, что он ушел из жизни «несправедливо оклеветанным», а также о том, что затем был полностью реабилитирован после ликвидации «Банды Четырех» [14], однако никакой информации о том, в чем именно его обвиняли, нет ни на официальных ресурсах, ни в кратком рассказе о его жизни, составленном Джампой Тенда-ром, сыном его ученика и покровителя Сонама Пэльбара. Говорит он лишь о том, что в 1971 г., когда ему удалось тайно (?) посетить дом своего отца в Лхасе, Чойдаг уже плохо узнавал людей, и здоровье его совсем пошатнулось [5]. В любом случае, можно с уверенность утверждать, что вклад выдающегося бурятского просветителя в сохранение и развитие тибетской культуры был в конце концов по достоинству оценен и коренными жителями региона, тибетцами, и правительством Китая, и его жизнь, полная неожиданных поворотов, не прошла незамеченной.
Возвращение на родину
Интересно, что имя Чойдага Бадмажапова стало частью истории Тибета и Китая в основном благодаря толковому тибетско-тибетскому словарю, который носит его имя, «словарь геше Чой-джи-Дагба», и который не потерял своей научной ценности и актуальности вплоть до наших дней. Общепринятая версия его появления романтична и по-своему красива. Согласно ей, молодой хува-рак из России, который обрел в далекой Лхасе вторую родину, для того чтобы чувствовать себя здесь как дома, должен был в совершенстве овладеть тибетским языком, и избрал для достижения этой цели довольно необычный метод. Каждый раз, отправляясь на прогулку по городу или путешествуя с паломническими целями по монастырям Тибета, он брал с собой и постоянно носил на поясе т.н. мешочек для слов (ПМА. 2022 г.). Услышав какой-нибудь новый термин и уточнив у коренных тибетцев его точное значение, он, предварительно вникнув в услышанное, клал это новое слово в отдельный «кармашек» своего мешочка.
Постепенно такое коллекционирование слов чужого языка вошло у Бадмажапова в привычку, и в конце концов у этнического бурята оказалось их больше, чем встречается в словарном багаже даже самого образованного коренного жителя Тибета. Однако лишь после ухода из монастыря и переезда в дом своего ученика у Чойдага появилось достаточно свободного времени и денежных средств для того, чтобы заняться систематизацией собранных им в ходе своих путешествий по Тибету и прогулок по Лхасе слов и словосочетаний. В результате кропотливой работы, спустя пять лет после ухода из монастыря в 1946 г., им был составлен ставший потом знаменитым тибетско-тибетский толковый словарь. Изданный ксилографическим способом в Лхасе в 1949 г. на средства и с помощью аристократического дома Хоркан, где он нашел приют, он сразу же становится лучшим толковым словарем тибетского языка на тот момент. В связи с тем, что его ученик и покровитель Сонам Пэльбар, как уже было сказано выше, вскоре начинает занимать высокие посты в китайской администрации Тибета, отвечая в т.ч. и за программы обучения новых кадров тибетскому языку, словарные статьи «словаря геше Чойджи-Дагба» снабжаются переводом на китайский язык, который выполнили известные филологи Чжан Кэцян ( 张克强 ) и Фа Цзунь ( 法尊 ). В 1957 г. словарь, уже вместе с этими комментариями, издается в Пекине Издательством национальностей ( КЖЖЖй ), после чего рассылается во все тибетские библиотеки и вплоть до нашего времени используется многочисленными учеными, студентами и ламами.
Несмотря на то что словарь, помимо прочего, был давно известен и в России, на его тесную связь с Бурятией внимания до недавнего времени не обращали. Ситуация изменилась лишь в начале XXI в., после того как в 2003 г. в газете «Буряад Үнэн» вышла статья Д.Б. Базаровой, преподавателя Бурятского государственного университета [1]. Донид Батуевна, находясь до этого в Китае по программе обмена, познакомилась там с доктором наук Эрдени-Баяром, который и рассказал ей историю об авторе известного многим в России «словаря Чойдага». На эту статью в свою очередь обратил внимание внучатый племянник Чойдага Бадмажапова Владимир Дулмажапович Радната-ров, д.в.н., профессор Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. Воодушевившись историей своего необычного родственника, он решил собрать все имеющи-
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ВОСТОКА еся документы, относящиеся к его биографии, для того чтобы затем донести историю его научного подвига до своих земляков, после чего принялся разбирать семейные архивы, опрашивать родных и знакомых и по крупицам собирать имевшуюся на тот момент информацию.
Младшая сестра Чойдага Бадмажапова Нор-жима, проживавшая в столице Монголии Улан-Баторе, ушла из жизни в 1991 г. Как было обнаружено в результате этих поисков, в ее сундуке, который открыли по просьбе Владимира Дулмажа-повича, хранился экземпляр словаря «геше Чой-джи-Дагба» самого первого издания 1957 г., который сам автор отправил в 1959 г. родственникам через своего ученика Содномбалбара, сопроводившего посылку небольшими комментариями на русском и старомонгольском языках. По просьбе В.Д. Раднатарова в 2014 г. внушительный книжный фолиант достиг, наконец, малой родины бурятского просветителя, села Ара-Алцагат Кяхтинского района Республики Бурятия. В настоящее время он хранится в доме родственников Чойдага Бадмажвпова в качестве семейной реликвии и как напоминание о том, как скромный хува-рак из небольшого приграничного бурятского села прославил свой народ и свою родину, навсегда вписав свое имя в историю далекого Тибета (ПМА. 2022 г.).
Сам словарь и история его появления не могли не заинтересовать и главу Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) Пандито Хамбо-ламу Д. Аюшеева, который всегда уделял самое пристальное внимание разного рода реликвиям, осознавая их важную роль в формировании и развитии бурятской национальной идеи [9, с. 269-270]. В этой связи можно вспомнить и историю с обретением нетленного тела Хамбо-ламы Итигэлова, которая стала настоящим символом буддистского возрождения в Бурятии, и лик богини Янжимы, обнаруженный Д. Аюшевым возле с. Ярикто у подножия Баргузинского хребта, и Сандалового Будду Зандан Жуу, хранящегося сейчас в Эгитуй-ском дацане.
В то время как большинство реликвий, включая все вышеупомянутые, почитаются больше за свои волшебные свойства, словарь может служить бесспорным доказательством вклада бурят в развитие мировой науки. БТСР осознает важность этого факта и по этой причине поддержала репринтное издание словаря Чойдага Бадмажапова минимальным тиражом в сто экземпляров, при этом один из них был на исходе 2022 г. вручен лично Д. Аюшеевым президенту Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, известному российскому востоковеду профессору А.А. Маслову. Вручая дар, Хамбо-лама выразил надежду на то, что словарь будет переведен на русский язык, заручившись при этом поддержкой своей инициативы со стороны президента Фонда. В результате в настоящее время уже обсуждается возможность создания проектной группы по данному вопросу, и в сентябре 2024 г. Д. Аюшеев даже предложил возглавить работу по переводу словаря на русский язык Жигмеду Жам-цо, хамбо-ламе Гоман дацана, когда тот посетил Бурятию. В конечном итоге появилась надежда на то, что и само имя Чойдага Бадмажапова, и его словарь станут известны в России достаточно широкому кругу специалистов, а также всем интересующимся историей и культурой нашей страны.
Стоит отметить, что и Владимир Дулмажапо-вич Раднатаров, и его родственники и единомышленники, Марина Сосоржаповна Очирова и Цы-рен-дыжит Сосоржаповна Очирова, не ограничивают свои усилия популяризацией лишь толкового словаря. Они неустанно работают и над тем, чтобы также увековечить память о самом Чойдаге Бадмажапове. Эти их усилия хорошо заметны в информационном поле. На английском и русском языке была выпущена брошюра, посвященная его наследию, а бурятским радиослушателям стала известна история его жизни и научного подвига [11]. В то же время ими была обнаружена краткая история жизни геше Чойдага, написанная Джам-пой Тендаром, сыном его ученика Сонама Пэль-бара, которую перевела на русский язык известный российский востоковед И.Р. Гарри [12]. Неоднократно предпринимались попытки наладить контакт с дочерью Чойдага Бадмажапова Бямба-санджу, пригласить ее посетить Бурятию. В силу ряда причин организовать такой визит пока не удалось, однако Владимир Дулмажапович не оставляет попыток этого добиться.
Наконец, в 2014 г. благодаря поддержке тогдашнего главы Кяхтинского района А.В. Буянту-ева на малой родине бурятского просветителя, у села Ара-Алцагат, на живописной возвышенности между двумя обо, был сооружен бумхан, или молитвенный дом в честь Чойдага Бадмажапова [2]. Внутри небольшого, но аккуратного деревянного строения в его алтарной части установлен портрет ученого, выполненный в манере тибетской буддийской живописи танка, рядом, прямо перед портретом Далай-ламы XIV, стоит драгоценный сосуд бумба, который, как утверждают, был найден в ходе строительства. Стены бумхана украшают портреты Бадмажапова и его учителей. У въезда же в село был установлен информационный щит, благодаря которому проезжающие также могут узнать об основных моментах жизни и о достижениях этого прославленного жителя Ара-Алцагата.
В 2024 г. рядом была открыта еще и юрта-музей, значительная часть экспозиции которой также посвящена жизни и деятельности Чойдага Бадмажапова. Посетители могут ознакомиться с фотографиями самого бурятского ученого и его ближайших родственников, которые были бережно собраны местными краеведами, посмотреть на ксерокопии его публикаций в тибетской газете «Сицзан Жибао» и письма его учеников, а также изучить воссозданную работниками музея родословную. Еще одним важным моментом в жизни села и всей республики стало открытие памятника Чойдагу Бадмажапову, которое состоялось тогда же, в июне 2024 г. Бурятский скульптор Баир Сундопов, работавший над бронзовым изваянием своего земляка в Иволгинском дацане, согласился сделать его бесплатно, деньги же на материал для памятника просветителю в рекордно короткие сроки собрали его земляки. Открытие, на котором присутствовал дид хамбо-лама БТСР Дагба Очиров, получилось праздничным [3], а спустя три дня Ара-Алцагат посетил и Пандито Хамбо-лама Аюшеев, который продолжает проявлять живой интерес к фигуре своего прославленного земляка и его научным достижениям.
Неизвестное наследие
Несмотря на все попытки бурятских краеведов и родственников Чойдага Бадмажапова воссоздать, хотя бы частично, его биографию, о его жизни и творческом наследии до сих пор известно не так много. При этом анализ фактов, доступных в открытых источниках, позволяет предположить, что прославивший его в Тибете, Китае, а теперь и в России толковый словарь мог быть далеко не единственным сочинением по тибетской культуре и филологии, к которому имел непосредственное отношение этот бурятский просветитель. Ведь среди его близких друзей, учеников и просто знакомых оказалось внушительное число людей, внесших существенный вклад как в развитие тибетской культуры, так и в историю и науку Китая и Индии.
В этом примечательном ряду выдающихся личностей, формировавших интеллектуальный кли мат Азии середины XX в., следует особо выделить Ге(н)дуна Чопела, своего рода «культурного героя» современного Тибета. Путешественник, литератор, общественный деятель и в какой-то мере «совесть» тибетского народа, он родился в 1903 г. в регионе Амдо в аристократической семье, его отец был ламой-перерожденцем школы Ньингма [7, с. 35]. Признанный еще в юном возрасте реинкарнацией настоятеля монастыря Дорже Драк в Центральном Тибете, он получил великолепное религиозное образование, обучаясь в лучших монастырях Амдо и Лхасы. Природная любознательность и скепсис, однако, готовили Гедуну Чопелу совсем иную судьбу. Повстречав европейского миссионера Мариона Грибеноу и искренне увлекшись достижениями современной ему науки и техники, он провел всю оставшуюся жизнь в скитаниях по миру в попытках соединить восточное и западное знание для того, чтобы покончить с патриархальностью Тибета, которую он считал губительной. Непризнанный на родине при жизни, усталый и больной, он умер в Лхасе в 1951 г. вскоре после своего возвращения из Индии. Его вклад был по достоинству оценен лишь после смерти, когда потомки признали его одной из ключевых фигур в истории современного Тибета. Интересно, что в этом сошлись и исследователи его жизни и творчества из числа западных ученых, и обычно несогласные с ними китайские авторы [13; 17].
Сюжеты жизненного поиска Гедуна Чопела подробно описаны, ему посвящено несколько биографических сочинений, в т.ч. и на русском языке [7, с. 64–68]. В контексте данной статьи нас, однако, больше всего интересует история его взаимоотношений с Чойдагом Бадмажаповым. Познакомившись и, по-видимому, крепко сдружившись еще в студенческие годы, оба пронесли эту дружбу через всю свою жизнь и при этом сыграли важную роль в судьбах друг друга. Важнейшим эпизодом, оказавшим влияние на дальнейшие траектории жизни двух товарищей, стало их знакомство в 1934 г. с индийским ученым, писателем, путешественником и общественным деятелем Рахулом Санкритьяяном (1893–1963). Признаваемый у себя на родине в Индии одним из величайших ученых и путешественников современности [16], Рахул, взявший себе в качестве псевдонима имя единственного сына Будды Шакьямуни Рахулы, всерьез увлекся чуждым для современной ему Индии буддизмом, после чего решил заняться поиском исчезнувших сочинений буддийских ав- торов. Он был уверен в том, что те из них, что пропали во времена мусульманских завоеваний его страны, были спрятаны бежавшими от войны и разорения монахами в соседних с Индией землях. Разыскивая эти манускрипты, Рахул совершил множество интересных экспедиций в различные уголки Азии – от Кореи и Японии до Шри-Ланки. Описание этих путешествий и снискало ему любовь читателей.
Возможно, самыми успешными из них, однако, оказались экспедиции в Тибет, в ходе которых Санкритьяяну действительно удалось отыскать значительное число рукописей на санскрите, в т.ч. написанных на пальмовых листьях. Многие из тех сочинений, которые он, по легенде, вывез на двух десятках мулах в Индию и передал в дар Научному обществу Бихара и Ориссы в Патне, считались навсегда утерянными, и их новое обретение в наши дни обеспечило ученому-путешественнику заслуженную славу [4, с. 130]. Причем славу не только в самой Британской Индии, но и далеко за ее пределами, в т.ч. и в Советском Союзе, куда Рахул впервые прибыл по приглашению академика Ф.И. Щербатского вскоре после возвращения из Тибета в 1936 г. для работы в Институте востоковедения АН СССР.
Имя Рахула Санкритьяяна хорошо известно отечественным индологам, тем более что он был знаком и состоял в переписке с Ю.Н. Рерихом [6]. Однако мало кто из них упоминает о том, что в его путешествиях по Тибету, в т.ч. и в ходе его экспедиции в монастырь Самье, где он совершил свои самые главные находки, его сопровождал упомянутый выше Гедун Чопел. Разбирал же, классифицировал и каталогизировал собранные ими рукописи перед их отправкой в Индию не кто иной, как Чойдаг Бадмажапов, которого известному индийскому ученому порекомендовал его старый друг, хорошо осведомленный о педантичности, скрупулезности и обширных познаниях бурятского монаха в тибетском языке и религиозной литературе. В результате именно Бадмажапову и, возможно, лишь ему одному оказалась доступна полная информация о коллекции знаменитого индийского путешественника. Все дело в том, что коллекции, оказавшиеся в Патне, до сих пор не обработаны, а местонахождение части собранных Санкрить-яяном в Тибете рукописей вообще неизвестно, как неизвестно и их полное содержание [4, c. 130, 142]. Сам Чопел после окончания этого важнейшего совместного проекта отправился вместе с Рахулом в путешествие по Британской Индии, где провел долгих 11 лет в странствиях и исканиях. Бадмажапов же, которому Санкритьяян также предложил поехать в южные страны, остался в Лхасе, хотя некоторые источники и утверждают, что спустя несколько лет и тот также совершил паломничество по местам, связанным с земной жизнью Будды Шакьямуни [5].
Разнятся сведения и в том, что касается знакомства бурятского просветителя с еще одним значимым персонажем современной истории Тибета, Тарчином Бабу (1890–1976), тибетцем по рождению, христианином по вероисповеданию и литератором по профессии. В первой половине XX в. город Калимпунг в Британской Индии превратился в эмигрантскую столицу для жителей Страны снегов, которых не устраивал характер правления XIII Далай-ламы и которые мечтали о реформах для своей страны. Именно в этой политически активной среде и расцвел талант образованного и всесторонне одаренного, но при этом не слишком чистоплотного в методах достижения своих целей Тарчина Бабу, который был издателем и главным редактором тибетоязычной газеты «Зеркало Тибета». Выпускавшаяся с 1925 по 1963 гг., она не просто стала рупором тибетской эмиграции и сплотила вокруг себя разношерстые, но при этом неизменно оппозиционно настроенные силы – от коммунистов до агентов британской разведки. Достаточно вольно обращаясь с историческими фактами и при этом умело конструируя новые нарративы, ее редакция во многом и сформировала ту идеологию тибетского сепаратизма, на которой движение за независимость Тибета базируется и в наше время [8].
Конечно же, познакомился с Тарчином Бабу и Гедун Чопел, чьи чаяния совпадали с общим пафосом и идеологией «Зеркала Тибета». Не просто познакомился, но, по-видимому, еще и рассказал о тех рукописях, что были добыты им в сотрудничестве с Рахулом. Сам он в то время задумывался о том, чтобы написать на их основе, а также на основе свитков из Дуньхуана, которые стали ему доступны в Индии раньше, чем кому-либо из тибетцев, собственную версию ранней истории Тибета, «Белые анналы» или «Белую летопись». Благо, опыт по написанию подобных сочинений у него к тому времени имелся, ведь до этого он в течение нескольких лет помогал Ю.Н. Рериху в его работе над переводом тысячестраничной «Синей летописи» [7, c. 54]. В результате, когда Тарчин Бабу решил отправиться в Тибет для того, чтобы собрать необходимые ему материалы для дальнейшего конструирования нового тибетского нарратива, Гедун дал ему адрес своего старого друга, Чойдага Бадмажапова, которого Тарчин, как до этого и Рахул, рассчитывал привлечь для классификации, индексации и каталогизации своих возможных находок.
Экспедиция 1937 г., которую возглавлял первый «белый лама» Америки, молодой исследователь Т.К. Бернард (1908–1947), оказалась достаточно успешной, ведь в отдаленных монастырях Страны снегов ее участниками были найдены и затем собраны в Лхасе многочисленные старые ксилографы. Для их складирования и сортировки Тарчин решил избрать резиденцию влиятельной аристократической семьи Хоркан. Именно здесь, в доме Хоркана, и произошло важнейшее событие в жизни Чойдага Бадмажапова, во многом определившее ее дальнейший ход. Дело в том, что семнадцатилетнему сыну хозяина, Сонаму Пэльбару в то время требовался репетитор, который помог бы ему в освоении тибетского языка и классической литературы. Тарчин Бабу порекомендовал для этой цели сорокалетнего Чойдага, испытывавшего в тот момент сильную нужду в деньгах и при этом успевшего показать себя с лучшей стороны при работе с найденными им и Бернардом ксилографами. Сделка состоялась.
Молодой Солнам быстро привязался к своему преподавателю и признал в нем Наставника. В 1941 г., когда тот ушел из монастыря после смерти своего учителя, именно он пригласил Чой-дага поселиться в своем доме, и Бадмажапов ответил согласием на это предложение. Когда же в 1945 г. из своих многолетних странствий в Лхасу возвратился Гедун Чопел, пришел уже черед Чой-дага помочь старому другу, которому в столице Тибета было тогда нелегко найти пристанище. Тот принял приглашение с благодарностью, после чего наступил краткий, но при этом чрезвычайно важный период их совместного с Бадмажаповым творчества. Краткий - потому что уже в 1946 г. Чопел был арестован властями Тибета, обвинен в работе на Гоминьдан и советскую разведку и заточен в тюрьму, расположенную прямо в здании лхасского суда [7, с. 44]. Важный - потому что за этот неполный год Чойдаг, талант которого систематизировать и каталогизировать информацию никуда не делся, успел познакомиться и поработать с документами из т.н. «Черной коробки» своего друга, которые тот считал невероятно важными.
Дальнейшая судьба этих, по-видимому, действительно очень ценных для Тибета документов довольно загадочна, и версий того, что с ними случилось после ареста Чопела, существует несколько. По одной из них, все документы были изъяты на месте, после чего исчезли и больше никогда не были найдены [17]. По другой, Чопел передал их на хранение Чойдагу Бадмажапову и наказал завершить дело его жизни, разобрав их и позднее опубликовав. Есть сведения и о том, что Чойдаг посещал своего друга в заточении, и тут смог передать ему какие-то бумаги, хотя сведения эти ненадежные. Наконец, Сонам Пэльбар, который безуспешно ходатайствовал об освобождении Чопела, утверждал, что тот передал все документы на хранение лично ему, назвав их своим главным богатством, и уже потом, уезжая из Лхасы на восточную границу, он передал их Чой-дагу с просьбой отредактировать и подготовить к публикации [15].
В любом случае, можно с высокой долей вероятности утверждать, что в руки Чойдага Бад-мажапова опять попали важнейшие документы, которые ему доверили в распоряжение благодаря его славе умелого каталогизатора и систематизатора. Возможно, это случайное совпадение, но в том же 1946 г., когда Гедун Чопел оказался в тюрьме, а его бумаги пропали, 49-летний бурятский геше неожиданно заканчивает свой знаменитый словарь, на написание которого даже у носителя языка могли бы уйти десятилетия, а вскоре, неожиданно для многих, женится на приживалке своего патрона, снимая с себя при этом монашеский сан и окончательно избирая для себя книжную стезю. Вышедший на свободу по амнистии спустя всего три года, в 1949 г., его тибетский друг уже не находит в доме Хоркана никаких ценных бумаг, впадает в депрессию и отказывается продолжать работу над «Белой летописью», о чем просит его тибетское правительство [17]. Книга эта выйдет позднее, уже после его смерти, в 1952 г., и редактором самой первой версии этого труда, по некоторым сведениям, окажется Чойдаг Бадмажапов [15].
Тот факт, что и после всех этих событий в распоряжении последнего будет оставаться большое количество важнейших материалов по истории и культуре Тибета, можно вывести из некоторых современных публикаций, где, правда, утверждается, что то были плоды его усилий по углублению и расширению толкового словаря, с которым после 1946 г. стало неизменно ассоциироваться его имя [5]. Нам это утверждение кажется сомнительным, т.к. веских причин для продолжения ра-
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ВОСТОКА боты по наполнению своего «мешочка со словами» у Чойдага не было, ведь его словарь оказался настолько всеобъемлющим, что навряд ли требовал серьезной доработки. Гораздо более логичной выглядит версия о том, что после того, как он с 1951 г. стал работать в редакционно-издательском совете Тибетского рабочего комитета, в его распоряжении оказывалось много материалов, которые все так же требовали систематизации, каталогизации и дальнейшего издания. Были ли среди них материалы, связанные с находками Санкритьяяна, экспедицией Т.К. Бернарда и Тарчина Бабу, или же Чойдаг Бадмажапов продолжал разбирать содержимое «Черной коробки» Гедуна Чопела – пока об этом мы можем только гадать. Как можем гадать и о судьбе всех этих бесценных материалов, которые, как утверждают, пропали в годы Культурной революции [5].
Не ясно, пропали ли они окончательно или ждут еще своего пытливого исследователя. Известно лишь, что к исчезновению оказалась причастна жена Чойдага Меток, которая, испугавшись возможных проблем, куда-то унесла или уничтожила все имевшиеся на тот момент в доме карточки и доски, по поводу чего сам Чойдаг позже сильно сокрушался [5]. При этом, как и полагается рукописям, они, по-видимому, все-таки не «сгорели» окончательно. По крайней мере, Хоркан Сонам Пэльбар смог после начала реформ в Китае раздобыть и издать некоторые работы Ге-дуна Чопеля. Собственно, популяризации работ своего учителя Сонам Пэльбар и посвятил последние годы жизни. Эта популяризация вывела его самого в разряд известных тибетологов Китая, а также, что немного парадоксально, способствовала тому, что в КНР Чойдаг Бадмажапов известен не только как автор толкового тибетского словаря, но и как наставник одного из ведущих политиков и ученых страны. В свою очередь это оставляет надежду на то, что наследие самого Чойдага Бад-мажапова будет когда-то обретено в полной мере и в нашей стране, как это случилось не так давно с его знаменитым словарем.
Взгляд в будущее
Возможно, пролить свет на обстоятельства этой истории и на судьбу рукописей и документов, которые в разные годы оказывались в распоряжении Чойдага Бадмажапова, помогут его письма родственникам в Бурятии, о которых упоминал в своем телевизионном интервью Владимир Раднатаров [10]. Возможно, с этой же точки зре- ния могут оказаться полезными документы из сундука младшей сестры Чойдага Норжимы, которые, как уверяют родственники, так и не были разобраны до конца (ПМА. 2024 г.). Не меньшую пользу может принести и работа с наследием тибетских экспедиций Рахула Санкритьяяна, ведь, как уже было сказано, те рукописи, что он привез из Тибета и передал в дар музею в Патне, там почти не выставляются и настоятельно требуют анализа и разбора. Материалы, связанные с деятельностью Чойдага Бадмажапова в составе редакционно-издательского совета Тибетского рабочего комитета, а также его работа в качестве редактора в партийной газете «Сицзан Жибао» и, в частности, его публикации в период с 1951 по 1972 гг. представляют огромный интерес. Не менее значимыми, как нам кажется, являются учебники тибетского языка для китайских студентов, о которых упоминали его ученики и которые пока не были изучены российскими исследователями.
Очевидно, что многие проблемы вызваны сложностью доступа к иностранным источникам, особенно к тем, что находятся в Китае, однако не меньшую роль играет и нехватка специалистов с достаточной широтой кругозора и соответствующими лингвистическими компетенциями. Сам Чойдаг Бадмажапов за свою яркую и плодотворную жизнь смог овладеть тибетским языком на уровне, позволившем ему стать автором лучшего на тот момент толкового словаря и редактировать учебники тибетского языка для китайских студентов. Он плотно сотрудничал и с официальными лицами КНР, и с представителями тибетской оппозиции, и с учеными из США и Индии. Для того, чтобы в полной мере оценить наследие, накопленное одним из выдающихся буддийских учителей России в результате всех этих контактов, в наши дни требуются специалисты, обладающие столь же разносторонними компетенциями и столь же обширными связями?